Текст книги "Русский балет Дягилева"
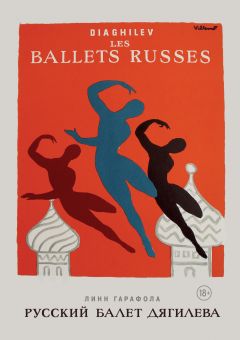
Автор книги: Линн Гарафола
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Мысль, приведшую к появлению «Пульчинеллы», подал Дягилев, когда однажды весной в полдень мы прогуливались с ним по площади Согласия: «Только не возражайте против того, что я сейчас скажу… у меня есть идея, которая вас развеселит… Я хотел бы, чтобы вы взглянули на некоторую очаровательную музыку восемнадцатого века, с целью оркестровать ее для балета». Когда он сказал, что композитор – Перголези, я подумал, что он, должно быть, спятил. Из Перголези мне были известны лишь Stabat Mater и «Служанка-госпожа», да и то потому, что я только что видел ее в Барселоне и не был в восторге, о чем Дягилев знал. Тем не менее я пообещал ему посмотреть и сказать свое мнение.
Я посмотрел и влюбился. Однако мой окончательный выбор пьес лишь частично восходил к образцам, отобранным Дягилевым, и частично к опубликованным изданиям, но прежде чем определиться с выбором музыкальных фрагментов, я занялся разработкой пьесы, приемлемой для Перголези. В качестве первого шага была зафиксирована схема действия и соответствующая последовательность пьес. Дягилев нашел в Риме книгу с сюжетами о Пульчинелле. Мы ее вместе проштудировали и отобрали несколько эпизодов. Окончательная композиция сюжета и порядок танцевальных номеров были делом Дягилева, Леонида [sic] Мясина и меня, все трое работали совместно[248]248
Igor Stravinsky and Robert Craft, Expositions and Developments (Berkeley: Univ. of California Press, 1981), pp. 111, 112.
[Закрыть].
Своему «первому сыну» Дягилев позволил гораздо больше свободы и самостоятельности в «Пульчинелле», чем он позволит Винченцо Томмазини или Отторино Респиги, итальянским композиторам, готовившим в этот период музыкальный материал для других балетов из той же эпохи. В своем выборе музыки для «Женщин в хорошем настроении» (1917) Дягилев основывался на пятистах сонатах Доменико Скарлатти, затем на двадцати пьесах менее ценимого наследия, которые, как он думал, «могли… усилить комический эффект постановки» по классической пьесе Карло Гольдони[249]249
Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 78.
[Закрыть]. И уже только после всей этой работы он обратился к профессиональной технике Томмазини как оркестровщика. Респиги также находился под его державным контролем. Его контракт относительно оперы-балета Доменико Чимарозы «Женские хитрости», поставленной в 1920 году, оговаривал, что он сочинит все речитативы в согласии с темами композитора и полностью изменит оркестровку, добавляя танцевальные номера, согласованные с Дягилевым. Ему также была заказана «аранжировка» оперы Джованни Паизиелло «Служанка-госпожа», так никогда и не поставленной[250]250
Контракт между Сергеем Дягилевым и Отторино Респиги от 5 сентября 1919 г. Fonds Kochno, Piece 78.
[Закрыть]. Рукопись «Волшебной лавки», незамысловатого кукольного балета, восхитившего Лондон в 1919 году, еще явственнее обнаруживает руку Дягилева. Кстати сказать, здесь возникает вопрос, который может быть задан по поводу музыкальной стороны всего периода первоначального модернизма: кто автор? Джоаккино Россини, написавший в самом начале XIX века фортепианные пьесы, на которых основана партитура? Респиги, оркестровавший ее и добавивший пригоршню связок? Или Дягилев, который отбирал музыку для балета из огромного числа композиций, урезал такты и пассажи, изменял аккорды, тональности и темпы, поправлял добавления Респиги и писал такие напоминания самому себе: «Не забыть, что все аккорды стилистически должны соответствовать старому Россини времен “Севильского цирюльника”»[251]251
Я премного обязана д-ру Стивену Роу, штатному музыковеду лондонского офиса Сотбис, за то, что он позволил мне ознакомиться с рукописью Лавки и дал комментарий эксперта.
[Закрыть]?
Постановка «Женщин в хорошем настроении» (премьера состоялась в апреле 1917 года) стала первым из разряда дягилевских «балетов, путешествующих во времени» (по выражению Константа Ламберта). Но, несмотря на всю популярность произведения, ставшего «гвоздем программы» в послевоенном репертуаре труппы, соединившего музыку доромантического периода и мясинский хореографический сплав футуризма со стилем XVIII века, иллюзионистские декорации Бакста все-таки вынуждают определить этот балет как переходный. По существу, первоначальный модернизм был временным смещением: резкий контраст между прошлым и настоящим присутствовал в самой ткани каждого балета. Подобно «Пульчинелле», «Женщинам в хорошем настроении» и «Женским хитростям», «Волшебная лавка» восходила к старому театральному истоку – кукольному балету Йозефа Хайрайтера «Фея кукол», поставленному в Венской придворной опере (1888), а затем братьями Николаем и Сергеем Легатами в Мариинском театре (1903) и Иваном Хлюстиным для труппы Анны Павловой (1914). Поскольку Дягилев скорее перерабатывал, чем просто репродуцировал музыкальные источники, то он также трансформировал свои театральные и литературные модели: их сюжеты и характеры были разрезаны и перекомбинированы в балетах, неудержимо стремящихся к структуре дивертисмента. «Как вы правы, что изгнали литературу из хореографического произведения, – писал Дягилеву Франсис Пуленк в начале 1919 года. – Обращение к великим поэтам только доказывает это. Более того, Брак сказал мне на днях: “Не вполне ли достаточно иметь трех – хореографа, художника и музыканта? Если вам придется добавить еще и писателя, весь союз будет смят”»[252]252
Франсис Пуленк, письмо Сергею Дягилеву от 28 апреля 1919 г., Catalogue of Ballet Material and Manuscripts from the Serge Lifar Collection, Lot 186.
[Закрыть].
Отвергая идею брать за основу психологическую и историческую традицию литературы XIX века, что было важным положением футуристических представлений, первоначальный модернизм толкал балетное повествование на путь абстрагирующих обобщений.
Совмещение современной формы и традиционной темы наиболее явно проявилось в декорационном оформлении. Андре Дерэн с помощью блестящей декоративной палитры и плоской перспективы поместил «Волшебную лавку» в обстановку модернизированных 1830-х годов, отчасти устраняя ностальгию и сентиментальность, неизбежно возникающие в балетной памяти в связи с утратой буржуазного мира. Пикассо, по воле Дягилева, постепенно переместил декорации «Пульчинеллы» назад во времени. И в окончательном варианте неаполитанская улица соединила кубистскую перспективу с традиционной образностью XVIII века, став визуальной аналогией того, как Стравинский модернизировал Перголези, а Мясин «футуризировал» комедию дель арте.
Хотя премьеры этих работ состоялись в 1919–1920 годах, замысел и характерный метод их создания приходятся на годы войны. Как и непосредственно предшествовавшие им неопримитивистские эксперименты, они раскрывают способ, которым материал определенного периода может быть осовременен, модернизирован и, что более важно, переведен из тональности неоромантической сентиментальности, какую демонстрировали работы Фокина в стиле бидермейер, в тональность иронического отчуждения.
Навязчивая игра с прошлым и настоящим тем не менее обнаруживала не только оживление и интенсификацию дягилевского воображения как такового. В намеренном погружении в романское прошлое можно усмотреть попытку пережить потерю России подведением нового основания под свою антрепризу, воспользовавшись не менее животворной традицией, более того, сформированной внутри высокопрофессионального искусства классического уровня. В дневниковой записи, датированной февралем 1917 года, Чарльз Рикеттс прозорливо связывает интерес Дягилева к забытой итальянской музыке с Россией. «Дягилев, – писал он, – жаждет итальянского возрождения и русской пропаганды. Мы поссорились из-за немецкой музыки, которую он хочет подвергнуть гонениям; он намерен отправить на свалку “Карнавал”, “Бабочки” и “Видение Розы”»[253]253
Цит. по: The Diaghilev Ballet in England, каталог выставки, организованной Дэвидом Чадом (David Chadd) и Джоном Гэйджем (John Gage), Центром визуальных искусств Сейнсбери Западноанглийского университета (Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia), с 11 октября по 20 ноября 1979 г., и лондонским Обществом изящных искусств (Fine Arts Society) с 3 декабря 1979 по 11 января 1980 г., с. 24. В письме своему другу Томасу Ловински Рикеттс добавляет следующую деталь: «Дягилев, импресарио Русского балета, приехал сюда, чтобы попытаться предложить свои новые постановки Бичему; одна из них, на музыку Скарлатти, великолепна, но в ней не занят никто из звезд, а один из балетов оформлен Пикассо. Мы поспорили по поводу немецкой музыки, которую он хочет подвергнуть гонениям и подавить; он предполагает убрать из репертуара “Карнавал”, “Бабочек” и “Видение Розы”. Я не хотел слышать ничего подобного и сказал, что Шуман и Вагнер были друзьями всей моей жизни, что если бы вся современная Германия за сутки ушла под воду – я бы и глазом не моргнул, и что игнорировать именно ее было бы куда лучшей местью, что… ненавижу национализм в Искусстве, и что орудия следовало бы направить на Россию. Так и произошло. В оправдание того, что Бичем не принял Русский сезон, он утверждал, будто бы желает поддержать национальное британское искусство – так что бумеранг вернулся обратно всего через несколько часов после моей тирады». Томасу Ловински, октябрь 1917, Charles Ricketts: Self-Portrait, ed. T. Sturge Moore and Cecil Lewis (London: Peter Davies, 1939), p. 183.
[Закрыть]. Россия при этом была представлена другим, более чем оригинальным способом: оба – и Паизиелло, и Чимароза – служили некоторое время при русском дворе, Респиги же, будучи молодым, играл в оркестре Мариинского и Большого театров.
Дягилевская тетрадь периода 1918–1920 годов содержит обширные выписки из прочитанного, которые свидетельствуют о признании Чимарозы композитором классической формы. Эти заметки говорят о ходе размышлений Дягилева в связи с широким кругом проблем стиля послевоенных постановок:
Чимароза воздействует на воображение длинными музыкальными фразами, объединяющими исключительное богатство с исключительной закономерностью… [Паизиелло] не внушает душе тех картин, что дают простор глубоким страстям; его эмоции едва ли возвышаются над грацией… В мире нет ничего более противоположного стилю Чимарозы, блистающему комическими живостью и яркостью, страстью, силой и весельем[254]254
Цит. по: La Vie de Rossini, “Cahier de travail de Serge de Diaghilev avec indications de repertoire, 1915–1916”, Fonds Kochno, Piece 114, n. p. Так как все суммы указаны в фунтах стерлингов и франках, то кажется очень маловероятным, что дата, стоящая на документе, верна.
[Закрыть].Естественно, что композитор стремится угодить искушенной публике, жаждущей новизны; не менее естественно, что эти произведения быстро устаревают, даже если их создали такие вдохновенные артисты [Бетховен и Россини], обманывающие сами себя той фальшивой новизной, которую они стремились внести в искусство. Поэтому часто случается, что публика обращается вновь к забытым шедеврам и по-новому воспринимает стойкое очарование красоты[255]255
Цит. по: Journal d’Eugene Delacroi. Ibid. n. p.
[Закрыть].Ни один композитор, исключая Чимарозу, не имеет таких стройных пропорций, такой нарядности, такой веселости, такой нежности и, помимо всего, стихии, пронизывающей все эти качества и все его разнообразие, – того несравненного изящества, изящества в выражении нежных чувств, изящества в комическом, изящества в выражении страсти[256]256
Ibid.
[Закрыть].
Ясно, что в творчестве Чимарозы и других композиторов XVIII века Дягилева привлекало превосходство стиля. История существует на перекрестье времени и пространства. Только стиль, с его способностью преобразовывать эфемерное, мимолетное, зависящее от обстоятельств в прочный материал искусства, сохраняет невосприимчивость к изменению. В то время, когда рухнули краеугольные камни европейской жизни, в изменившейся эстетике Дягилева нечто родственное классике связало многообразие влияний в единое целое. Возникшая изначально как компенсирующий ответ на потребность в устойчивом, альтернативном прошлом «классика», с ее настойчивым требованием превосходства стиля, предложила очевидный контрапункт ностальгии и сентиментальности, неотъемлемых от ретроспективного видения прошлого. Так стиль стал способом, посредством которого прошлое и настоящее были объединены, но закодированы как принадлежащие разным эпистемологическим реальностям. Современный стиль в балете, как и в поэзии, музыке, живописи, пропустил восприятие через интеллектуальный процесс иронического отстранения.
Первоначальный модернизм стал ответом на кардинальные изменения, принесенные войной, – так же как, хотя и в значительно меньшей степени, серия испанских балетов, возникшая примерно в то же время. Эти комические спектакли, балансировавшие между прошлым и настоящим, очаровывали публику в военной форме, растревоживая ее воспоминаниями об ушедшем времени покоя и порядка. В 1923–1924 годах эти сюжеты вновь возникнут в репертуаре. Но, в противоположность работам высокого модернизма, порожденным войной, в «Лекаре поневоле», «Голубке», «Искушении пастушки», «Докучных» и «Неудачном воспитании» (операх и балетах на французские темы XVIII века), навязчивая игра прошлого и настоящего проходила на чисто формальном уровне: в музыкальных «обработках» Эрика Сати, Франсиса Пуленка, Жоржа Орика и Дариюса Мийо; в декорациях Хуана Гри и Жоржа Брака и в хореографии Брониславы Нижинской. В этих поздних работах (речь о которых пойдет в следующей главе) внутреннее напряжение и скрытая трагедия уже отсутствовали.
Корни модернистской эстетики Дягилева находятся в годах с 1914-го по 1917-й. Из взаимодействия футуризма, неопримитивизма и переоткрытия романского доромантического художественного наследия возникло созвездие стилей, которое будет характеризовать послевоенный Русский балет и вдохновлять его многочисленных подражателей. Не менее сильным, чем влияние авангарда на танец, было и воздействие самого Дягилева на авангард. Успешным освоением характерных подходов художественного авангарда эпохи и слиянием их с балетной традицией представления исторического и этнического своеобразия Дягилев значительно расширил пределы модернистского эксперимента. Он сделал это, продемонстрировав способность этих новых подходов преодолевать ограниченность, изначально свойственную естественным средствам выражения, и то, что авангардистская эстетика стала приемлемой и доступной для значительно расширившегося круга зрителей.
Исключительные достижения Дягилева в эти годы лишь частично основываются на его готовности воспринять новые формальные подходы. В равной степени это отражает его способность придать труппе авангардный облик. На протяжении всего этого периода Дягилев тесно работал со своим ближайшим окружением – группой сотрудников, объединенных стремлением к радикальному театральному изменению. Ядром этой экспериментальной группы были Ларионов, Гончарова, Стравинский и Мясин. Более чем просто сотрудники, они жили и работали с Дягилевым в обстановке взаимной близости и в своих письмах обращались к нему запросто. (Напротив, для подавляющего большинства мастеров, получавших от него заказы в двадцатые годы, импресарио по-прежнему оставался официально-формальным «уважаемым другом».) Дягилевская «студия» военной поры демонстрировала неформальную коллективную структуру, разделявшую эстетику современного авангардистского движения.
Обстановка доверительных отношений близкого дягилевского окружения существовала и в период ранних балетных сезонов. Теперь же, в военную пору, целью творческого ядра стали не только сами постановки. Никогда еще в истории труппы экспериментаторство не ценилось так высоко – при этом проект мог быть отложен или вовсе отброшен сразу после того, как использованные в нем инновационные элементы были сформулированы. Только после войны, когда постановки вновь стали коммерческой необходимостью, наиболее жизнеспособные из этих экспериментов нашли дорогу на сцену.
Важно и то, что дягилевский модернистский прорыв имел место вне давления рынка. «Из всех лет, что мы странствовали с Дягилевым, – вспоминала танцовщица Лидия Соколова, – эти шесть месяцев в Швейцарии были счастливейшими». Проходили ежедневные занятия и репетиции, и в труппе, «значительно меньше прежней», танцовщики «жили в близких, товарищеских отношениях»[257]257
Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), pp. 68, 69.
[Закрыть]. Прививая труппе более демократический образ существования, Дягилев нивелировал различия в зарплате: все танцовщики в его маленькой, но растущей труппе получали 400 швейцарских франков в месяц. Внутри круга создателей финансовые отношения напоминали возврат к временам Абрамцева, «Мира искусства» и первых сезонов на Западе. Чтобы помочь Стравинскому содержать его большое и еще увеличивающееся семейство, Дягилев организовывал для композитора ангажементы повсюду, где появлялась его странствующая студия. В случае с Ларионовым и Гончаровой выплаты больше походили на регулярные стипендии, чем на гонорары за исполняемые на контрактной основе постановки. В начале осени 1918 года Гончарова дважды писала Дягилеву, с извинениями прося «прислать обещанные деньги»[258]258
Наталья Гончарова, письма Сергею Дягилеву (сентябрь 1918 г. и недатированные). Fonds Kochno, Piece 37.
[Закрыть]. В ситуации временного бездействия законов рынка модернизм процветал в атмосфере относительного равенства, социального и экономического.
Через усвоение подлинно авангардистских экспериментов в России, Италии, Испании и Франции Дягилев придал космополитичный характер модернизму труппы, и это не ограничивалось одной лишь хореографией. Интернациональный привкус, отличавший жизнь и деятельность труппы в послевоенные годы, был отражением ее этнического состава времен войны. К июню 1918 года среди артистов, путешествовавших с Дягилевым из Испании в Лондон, русские составляли меньшую часть, а выходцев из Императорских театров было и того меньше: из 39 танцовщиков 18 были русскими (из них только 10 имели отношение к Мариинскому или Большому театрам), 12 – поляками; 4 – итальянцами, 3 – испанцами, еще были 2 англичанки и одна бельгийка. Итальянцем был и менеджер труппы Рандольфо Бароччи, женатый на Лидии Лопуховой[259]259
С труппой также ездили парикмахер, заведующий реквизитом, начальник гардероба и главный машинист – все русские – и мать Любови Чернышевой. «Список артистов Русского балета», 14 июня 1918. Fonds Kochno, Piece 130.
[Закрыть]. Это «смешение народов» показывает, насколько перестала труппа быть русской антрепризой. С этого времени и впредь ее корни лежали на Западе – вросшие в сиюминутное настоящее, лишенное определенного государства.
Модернизм и космополитизм, как существенные элементы подлинного облика труппы, возникли из плавильного котла войны. Торговый знак этого модернизма, как мы уже говорили, основывался на стиле, сформированном путем отбора из различных авангардистских истоков и направленном на расширение сферы возможностей балета. Этот стиль, остроумный, ироничный, травестирующий и отстраненный, стал залогом единства произведения: он сгладил несоответствия между соперничающими текстами и ясно выраженные несовпадения места и времени, настроив их на единую волну. Кроме того, новый стиль погружал все произведение в ауру современности. Аналогично своей роли в новой теории сценического оформления, стиль стал средством сотворения целостного эстетического пространства.
Эстетика, возникшая в результате встречи Дягилева с авангардом, жизненный опыт, усиленный вынужденным разрывом с родиной и фактически неизбежной эмиграцией, и полное переосмысление принципов организации антрепризы и художественных устремлений были итогом того, что может быть названо эпохой его подлинного модернизма. Но, как это произошло в сфере дизайна, где сама природа материального изделия делала его чрезвычайно подвластным давлению рынка, модернистский стиль в балете очень скоро стал предметом торговли. В процессе послевоенного распространения он лишился устойчивости и сопротивляемости, свойственных ему во время войны, и превратился в ряд образных структур, которые можно было легко выделить и имитировать, стал продуктом для продажи, товаром. Этот товар можно «взять напрокат» и использовать в своем спектакле – так металлический каркас использовали для того, чтобы сделать модель стула современной. Легко копируемые, воспроизводимые и продаваемые, элементы модернистского стиля стали деталями для сборки на конвейере международной балетной моды.
Но теперь мы переходим из эпохи открытий, которая изменила облик балета, в совершенно другую главу в истории Русского балета. Обрубая швартовы, связывавшие его с предыдущей эпохой, fin de siècle, Дягилев направил Русский балет по мощному течению авангарда. Для Европы после перемирия созданный им блестящий синтез старого и нового подводил итог как разрыву, вызванному Первой мировой войной, так и вечным ценностям европейской цивилизации. В основном он, подобно самому существу модернизма, сливал воедино вековечные художественные традиции с радикальным обновлением форм и техники.
Ни одна эпоха не приходит к своему концу так определенно, как завершается повествование в романе. В жизни хронология исторических событий и биографий перекрещивается, смазывая различия между их концами и началами. Дягилевский период подлинного модернизма не является исключением. Но здесь история смилостивилась, обеспечив встречу, которая, если оглянуться назад, представляется фокусом всего периода, одним моментальным кадром, вобравшим в себя, зафиксировавшим самые различные мгновения. В мае 1922 года Сидни Шифф, британский литератор, писавший свои романы под псевдонимом Стивен Хадсон, был увлечен идеей организации некоего модернистского саммита, неофициальной встречи, которая позволила бы собрать вместе monstres sacrés[260]260
Кумиры (франц.). – Примеч. пер.
[Закрыть] нового века: Пруста и Джойса в литературе, Стравинского в музыке, Пикассо в живописи. И он пригласил их – но не на литературный вечер, какими славился Париж, а на ужин после первого исполнения «Лисы», балета-бурлеска с пением Стравинского[261]261
Richard Ellmann, James Joyce (New York: Oxford, 1959), pp. 523, 524.
[Закрыть]. Несмотря на то что романист мало что имел сказать присутствовавшим (физические немощи, кажется, стали основной темой разговора), обстоятельство, что их встреча связана с дягилевским творением, демонстрирует исключительное изменение в положении Русского балета, происшедшее между 1915 и 1922 годами. Никогда впредь в XX веке балет не будет стоять так близко к авангарду, как в военные и послевоенные годы дягилевских свершений.
4
Двадцатые
В истории Русского балета не было эры более изменчивой и трудноопределимой, чем 1920-е – десятилетие проявления протеизма и внутренних взаимоисключающих противоречий. Сквозь кажущийся хаос, как представляется, проступают три направления, объединяющие и связывающие этот период. Первое, которое я назвала «модернизмом, идущим от образа жизни» (lifestyle modernism), было связано с искусством вопиющей банальности Жана Кокто. Второе – «ретроспективный классицизм», отразивший очарование французской элиты аристократической культурой grand siècle. Третье – «хореографический неоклассицизм», порожденный Брониславой Нижинской и Джорджем Баланчиным, эмигрантскими представителями советского хореографического авангарда. Часто совпадающие, иногда даже в одних и тех же произведениях, эти направления причудливо сосуществовали в дягилевском репертуаре – и вообще в балете – в течение всех 1920-х годов.
Жан Кокто уже возникал на страницах этой книги. Но сейчас мы его встречаем уже не как prince frivole[262]262
Автор обыгрывает здесь название первого поэтического сборника Кокто 1916 г. – «Легкомысленный принц» (франц.). – Примеч. пер.
[Закрыть], обивающего пороги театров, где Дягилев давал довоенные сезоны, но в качестве инженера, возводящего мост между искусством Левого берега и идеологией Правого берега [Сены], которые положили начало модернизму как стилю, идущему от самого образа жизни. Первый опыт, приведший к преображению Кокто, восходит к 1913 году и связан с «Весной священной», произведением, преподавшим поэту-денди урок его собственной непоследовательности. Он с удивлением открыл для себя, что искусство должно скорее шокировать, чем нравиться, скорее бросать вызов публике, чем искать ее расположения. Позже он писал:
«Весна» была откровением такого искусства, которое порывало с общепринятым, было антиконформистским. Это произошло, когда я узнал Стравинского, и позже, когда узнал Пикассо, тогда я понял, что бунт необходим в искусстве и что творец всегда восстает против чего-то, даже если и инстинктивно – другими словами, что дух творца есть высочайшее выражение духа противоречия[263]263
Цит. по: Francis Steegmuller, Cocteau: A Biography (Boston: Little, Brown, 1970), p. 87.
[Закрыть].
Наконец-то Кокто понял, что имел в виду Дягилев своим известным требованием «Удиви меня!».
Из уютной куколки респектабельного общества вылетел… овод модернизма. Между 1913 и 1917-м, годом появления «Парада» в Парижской опере, Кокто стремительно «перепорхнул» в авангард. Сначала он сошелся с его малозначительными фигурами, а затем свел знакомство и с его львами – Пикассо, Аполлинером, Сати. Но, обхаживая своих новых друзей в искусстве, он также искал расположения у культурных авторитетов правого толка, набравших силу во Франции с началом Первой мировой войны. В ноябре 1914 года вместе с художником Полем Ирибом он основал крайне националистический, антинемецкий журнал «Остро́та» (Le Mot), который, по словам Кеннета Силвера, представлял крутой поворот для того, кто до недавних пор находился «в самом центре космополитического Парижа». Здесь «поэт предложил своим собратьям по парижскому авангарду формулу использования хитроумных ухищрений для того, чтобы проложить свой путь через бурные воды общественного мнения военных лет»[264]264
Kenneth E. Silver, “Jean Cocteau and the Image d’Epinal: An Essay on Realism and Naiveté”, in Jean Cocteau and the French Scene, ed. Alexandra Anderson and Carol Saltus (New York: Abbeville Press, 1984), p. 86.
[Закрыть]. Его решение сводилось к совмещению двух консервативных идей: авангард должен обуздать свой экспериментаторский пыл и исключить иностранные влияния. На самом деле, Кокто реагировал на происходящее оперативно и был осмотрителен в отношении собственных советов. В балете «Парад» и в трактате «Петух и Арлекин», опубликованном в 1918 году, он собрал, переработал и при этом упростил основные принципы футуризма – для формирования своего модернизма как стиля, идущего от образа жизни.
Вопреки претензии Кокто на оригинальность «Парад» содержал все основные идеи футуризма. Культ банальности, который, начиная с «Парада», станет определять его художественное кредо, был самым взлелеянным детищем футуристической теории театра. Он был также темой двух манифестов футуризма, хорошо известных во Франции: «Театр Варьете» Маринетти (под названием «Мюзик-холл») и «Футуристическая антитрадиция» (L’Antitradition futuriste) Аполлинера. Оба были опубликованы в 1913 году, как раз во время «линьки» Кокто, произошедшей после «Весны». Эти идеи упали на плодородную почву: в «Давиде», спектакле, задумывавшемся в 1913–1914 годах, но так и не увидевшем света рампы, в творчестве Кокто впервые появились клоуны и акробаты. В «Параде» клоунов нет, но, как и в «Давиде», действие происходит вокруг ярмарочного балагана; и своими номерами-аттракционами балет связан с мюзик-холльным представлением – мешаниной из выступлений животных, танцовщиков, акробатов, чудес фокусников и «синематографических» лент, смесью, столь привлекательной для футуристов. Если «Парад» восхвалял театральное многообразие сценически, то «Петух и Арлекин» делал это с полемическим запалом. На самом деле, этот памфлет 1918 года, посвященный Жоржу Орику, одному из группы молодых французских композиторов, известной как «Шестерка», извлекал наиболее провокационные идеи – не говоря уже о провокационном тоне – из мысли футуристов: что серьезный театр, как драматический, так и оперный, порочен и безнравственен; что популярные развлечения чисты и наивны; что романтизм и импрессионизм давным-давно устарели; что серьезное должно смиренно уступить место комическому, а изысканное – повседневному; что в руках у кино, цирка, джаза и мюзик-холла – ключи к новой театральной поэтике[265]265
Marianne W. Martin, “The Ballet Parade: A Dialogue Between Cubism and Futurism”, Art Quarterly, 1, No. 2 (Spring 1978), p. 87; Steegmuller, Cocteau, p. 94; Filippo Tommaso Marinetti, “The Variety Theatre”, trans. R. W. Flint, в книге Michael Kirby, Futurist Performance (New York: Dutton, 1971), pp. 179–186; Jean Cocteau, Le Coq et l’Arlequin: Notes autour de la musique 1918, pref. Georges Auric (Paris: Stock, 1979).
[Закрыть].
Несмотря на то что Кокто никогда в этом не признавался, он был в большом долгу у Аполлинера. Унесенный из жизни инфлюэнцей за два дня до наступления перемирия, поэт и критик, являвшийся лидером авангарда парижских левых, наложил неизгладимый отпечаток на произведения Кокто, и нигде это влияние не проявилось так очевидно, как в «Параде». Сравним два текста: первый – предписания Аполлинера в «Футуристической антитрадиции» по поводу достижения идеалов «Чистоты» и «Разнообразия»; второй – неопубликованные заметки Кокто, переданные в 1916 году Сати для характеристики Американской девочки в «Параде»:
Свобода Слова в Изобретении Слов…/ Звукоподражательное Описание /Абсолютная Музыка и Художественность Шумов…/ Механистичность Эйфелева Башня Бруклин и небоскребы /Многоязычие /Абсолютная Цивилизация / Эпопея Кочевничества Исследование города Искусство Путешествий и прогулок /Антикрасивость / Нескрываемый восторг от великой свободы представлений цирков, мюзик-холлов и т. д.
Титаник – …лифты – сирены Булони… радиотелеграммы через море… гудрон глянец – механизмы трансатлантических пароходов – «Нью-Йорк геральд» – динамо – аэропланы – короткие замыкания – дворцы синематеки… Уолт Уитмен – Ковбои в кожаных штанах… экспресс 199 – Индеец племени сиу… Негры, собирающие кукурузу – тюрьма – реверберации – прекрасная миссис Астор – заявление президента Вильсона – минные торпедные катера – Танго… граммофоны – пишущие машинки – Эйфелевы башни – Бруклинский мост – большие, сверкающие эмалью и никелем автомобили – …бары – мороженое … Хелен Додж… золотоискатели – плакаты – рекламные объявления – Чарли Чаплин – Христофор Колумб – металлические пейзажи – жертвы Лузитании – женщины, щеголяющие в вечерних туалетах по утрам – остров Маврикий – Поль и Вирджиния[266]266
Цит. по: Martin, “The Ballet Parade”, pp. 88, 89. О взаимосвязи Кокто и Аполлинера и последующей мифологизации этой взаимосвязи см.: Steegmuller, Cocteau, chap. 4.
[Закрыть].
Свободная и ассоциативная, переходящая от objets trouvés («новой вещественности») механизированной современности к картинам мифической Америки, образность обоих пассажей обнаруживает их изначальное сходство. Надо сказать, что Кокто работает очень подробно, но всегда по канве, набросанной Аполлинером. (Сколько писателей независимо друг от друга могли поставить рядом Бруклин и Эйфелеву башню?) Более того, в обоих отрывках господствует стаккато в темпе скоростной стрельбы: образы словно извергаются из дула пистолета. И в смешении объектов оба текста сближаются с техникой кубистского коллажа.
Подлинный гений Кокто таился не в оригинальности идей, но в способности приспосабливать идеи авангарда к консервативным, по существу, целям. Очищенное от радикализма, его продезинфицированное искусство становится материалом, пригодным для развлечения элиты. Нигде это так не очевидно, как при обращении к общедоступному материалу. Для футуристов это было мощное оружие в их покушении на высокую культуру. Для Кокто, с другой стороны, варьете, цирк, кино и джаз – «музыка повседневности», как он определял их в «Петухе и Арлекине», – были сырьем для искусства изощренной банальности. Критики заученно толкуют о присвоении им образцов общераспространенной культуры. Однако они редко проверяют природу этого материала или характер его общедоступности; не анализируют они также намерение и способ такого «облагораживания района за счет вытеснения малоимущих». Как оказывается, «популярные источники», права на использование которых заявлял Кокто, оказывались на самом деле принадлежностью стиля времяпрепровождения и развлечений высшего класса Франции[267]267
Кокто заявляет об этом в предисловии к «Новобрачным на Эйфелевой башне». См.: Jean Cocteau, The Infernal Machine and Other Plays (New York: New Directions, 1963), p. 155.
[Закрыть]. Именно там, где «пасся» весь Париж, Кокто, его самопровозглашенный авангардист, и находил материал для приготовления жидкой похлебки его развлечений.
Еще будучи ребенком, Кокто хорошо знал цирк; будучи подростком, он открыл для себя мюзик-холл. (Вместе с друзьями-лицеистами он забрасывал охапками сирени популярную актрису мюзик-холла Мистингетт.) Став юношей, отдал себя «высокому» искусству театра. Война с неизбежностью изменила многое. Погрузив во тьму большинство парижских театров и значительно сократив деятельность оставшихся, она возродила интерес к домашней стороне жизни и совсем иным способам восстановления духовных сил. Когда Кокто потерпел поражение в попытке заполучить Стравинского в список создателей «Давида», он включил некоторые из своих идей в другой отчаянный проект – «Сон в летнюю ночь». Подобно «Давиду», пьеса предназначалась для цирковой арены; она была оформлена Альбером Глейзесом, малоизвестным кубистом, и сопровождалась музыкой Сати. Однако характерное для Кокто смешение вкусов высшего света с пристрастием к общедоступным развлечениям провозглашало новую эру. Постановка, осуществленная Габриелем Астрюком, первым французским импресарио Дягилева, в качестве вклада в Фонд театральных менеджеров в поддержку инвалидов войны, была поставлена в настоящем цирке – солидном и многоуважаемом Цирке Медрано, с настоящими клоунами в ролях Основы, Дудки и Заморыша. «Сон» оказался не только репетицией «Парада», но и предшественником «Быка на крыше» Кокто, «спектакля-концерта», профинансированного графом Этьеном де Бомоном и показанного в Комедии Елисейских Полей в 1920 году: там, выступая перед публикой, пестрящей знаменитостями, братья Фрателлини и пятеро их коллег из Цирка Медрано включили общедоступные развлечения в круг времяпрепровождения всего Парижа.
Как и многие шикарные парижане, Кокто был частым гостем у Медрано в годы войны. Его визиты не сделались реже и после ее окончания. Уж если на то пошло, это стало основным занятием его повседневной жизни, постоянной принадлежностью (как домашние шлепанцы, если можно так выразиться) еженедельных встреч-обедов с «верными» – Франсисом Пуленком, Дариюсом Мийо, Жаном и Валентиной Гюго, Люсьеном Доде, Артюром Онеггером и Полем Мораном. Время от времени компания прогуливалась до ярмарки на Монмартре – отрезка бульвара с тянущимися вдоль него лавками между Плас Бланш и Плас Пигаль – или до ярмарки и места народного гулянья Фуар-дю-Трон, торговой улицы на восточной окраине Парижа. Здесь, писал позже Жан Гюго, Кокто и «его музыканты» искали и порой находили вдохновение. Гюго, оформлявший несколько постановок Кокто, начиная с «Быка», мог бы смело добавить к этому списку и художников[268]268
Steegmuller, Cocteau, pp. 170, 245–247, 327, 328; Jean Hugo, Avant d’oublier 1918–1931 (Paris: Fayard, 1976), pp. 57–59, 64, 65.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































