Текст книги "Русский балет Дягилева"
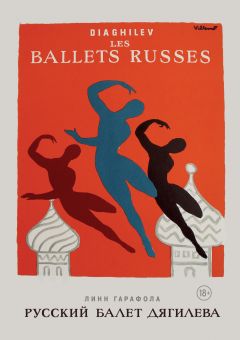
Автор книги: Линн Гарафола
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
После кинематографического пролога занавес открывает сверкающую и необычную декорацию… Там была сверкающая рампа, слепящая публику; праздно шатающийся пожарный, куривший без остановки; женщина в вечернем платье, проходившая через холл… восемь мужчин в смокингах; игры для женщины и нескольких марионеток, которые продолжались до тех пор, пока одна из марионеток не уносила ее[297]297
Ibid. P. 77.
[Закрыть].
Следуя сумасбродному параду образов (в котором ненадолго появлялись сам Пикабиа и его друзья), авторы «вели артобстрел публики» плакатами с такими провокационными строчками, как «Недовольным настоятельно рекомендуется покинуть зал» или «Здесь есть некоторые слабоумные – бедные идиоты, предпочитающие балет в Опере». Марионетки возвращались, сбрасывали верхнюю одежду и оказывались клоунами. Пожарный переливал воду из одного ведра в другое, а затем обратно. Балет – если его можно считать таковым – вызвал скандал и настоящую обиду серьезных критиков. Многие, как можно предположить, были бы счастливы занять место рядом с «бедными идиотами» в Опере[298]298
Ibid. P. 77–79.
[Закрыть].
Рольф де Маре покинул Шведский балет через три месяца. Модернизм как стиль, идущий от образа жизни, тем не менее продолжал процветать. Следующим летом гвоздем танцевального и оперного сезона, организованного Маргаритой Бериза, бывшей примадонной Бостонской и Чикагской опер, стал балет «Радуга» (Arc en Ciel) Жана Винера. Концертирующий пианист, специализирующийся на джазе, Винер играл в «Быке на крыше», известном ночном клубе, взявшем себе название из фарса Кокто, художественный стиль – у дадаизма, а социальную направленность – у высокой богемы. «Радуга», так же как «Бык» и «В пределах квоты», эксплуатировала образы мифической Америки. «На протяжении всего балета, стилизованного в джазовых ритмах, – писал корреспондент “Мьюзикал Америка”, – негр, играющий на банджо, стоит в углу сцены и наигрывает джаз, то мягкий и низкий, то резкий, в водевильной манере»[299]299
Henrietta Malkiel, “Paris Modernists Rebel Against Outmoded Ballets”, Musical America, 25 July 1925, p. 3. О Жане Винере см.: Goddard, Jazz Away From Home, pp. 116–119.
[Закрыть]. Даже Бронислава Нижинская, явившаяся в дягилевской труппе богиней возмездия для Кокто (их конфликт мы рассмотрим позже), пала жертвой этой лихорадки. Для Хореографического Театра, камерной труппы, которую она создала вместе с художницей Александрой Экстер, после того как покинула Дягилева в начале 1925 года, Нижинская поставила три балета в современных костюмах: «Туризм» (или «Спортивное и туристическое балетное ревю» – Sports and Touring Ballet Revue) с музыкой Пуленка; «Джаз» на Регтайм Стравинского, в котором Нижинская надела национальную гавайскую юбку хула (наряду с Америкой в 1920-х Европа открыла для себя Гавайи); «Священные этюды» (Holy Etudes), абстрактный балет на музыку Баха, исполнявшийся одними женщинами, одетыми в платья с плиссированными юбками и заниженной талией. В следующем году в Театре Колон в Буэнос-Айресе она поставила «На морском побережье» (A Orillas del Mar), с костюмами «по мотивам Шанель», музыкой Мийо и спортивной темой, что подозрительно напоминало «Голубой экспресс», но уже без Кокто. Вернувшись в Париж в 1927-м, она поразила публику Оперы «Впечатлениями от мюзик-холла» (Impressions de Music-Hall), показав танцы герлс, «музыкальных клоунов» и кэк-уок в исполнении Карлотты Замбелли – этуали-долгожительницы Парижской оперы[300]300
О балетах Нижинской, созданных для Хореографического театра, см.: Nancy Baer, Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy (San Francisco: The Fine Arts Museums of San Francisco, 1986), p. 75. Критик буэнос-айресской газеты «Ла Пренса» писал: «Балет “На морском побережье”, имеющий подзаголовок “Спортивный танец”, – современная постановка. Подчас тривиальная музыка Дариюса Мийо звучит хорошо, богата ритмически и довольно реалистично подсказывает сценическое действие, которое изображает ряд спортивных движений и игр, в которые играют купальщики на пляже: теннис, плавание, акробатику. Эта музыка для движения на открытом воздухе, полная аллюзий на парижские песни и танцы, свежа и энергична, и представляет собой конгениальное обрамление действия. Бронислава Нижинская, Людмила Шоллар, Летисия де ла Вега, Дора дель Гранде, Бланка Зирмайя и кордебалет воплотили это спортивное видение в жизнь». “Teatro у musica. Colon. Segundo espectaculo coreografico”, La Prensa, 22 September 1916, p. 14. Про «Впечатления от мюзик-холла» см.: Stephane Wolff, L’Opéra аи Palais Garnier (1875–1962), introd. Alain Gueulette (Paris: Slatkine, 1983), p. 288; Ivor Guest, Le Ballet de l’Opéra de Paris, trans. Paul Alexandre (Paris: Théâtre National de l’Орéra/Flammarion, n. d.), pp. 166, 167. «Туризм», «Джаз» и «Священные этюды» были впервые показаны 3 августа 1925 г. в театре Винтер Гарденс (Маргейт, Англия); «На морском побережье» – 21 сентября 1926 г.; «Впечатления от мюзик-холла» – 6 апреля 1927 г.
[Закрыть].
С самого начала этот стиль, инспирированный новыми жизненными явлениями, был связан с джазом. Но, за исключением «Сотворения мира» Мийо, где джазовые элементы сочетались с более развернутыми классическими формами, в немногих балетах джаз отличался хоть какой-нибудь степенью разработанности. В большинстве случаев он служил фоном, подобно костюмам для купания от Шанель, что привносило в действие балета ауру современности. Это происходило не только на балетной сцене, но и в мюзик-холлах, куда многие танцовщики и хореографы пришли работать в 1920-е годы. Такое массовое вторжение неизбежно вызвало ответную антиджазовую реакцию, проявившуюся к середине десятилетия. Борис де Шлёцер, рецензируя в «Нувель ревю франсез» в 1925 году «Зефира и Флору» у Дягилева, выразил определенное удовлетворение тем, что Владимир Дукельский (позднее, в Америке, уже как Вернон Дюк он сделает карьеру в качестве автора популярных песен) предпочел Чайковского «улице дребезжащих жестянок» (Tin Pan Alley[301]301
«Улица дребезжащих жестянок», в конце XIX в. квартал на Манхэттене, в районе Западной 28-й улицы, где были сосредоточены музыкальные магазины, нотные издательства и фирмы грамзаписи. Позднее выражение стало означать всю индустрию популярной музыки. – Примеч. пер.
[Закрыть]): «И на этот раз можно было ожидать эффектов, идущих от джаз-банда; слава богу, автор их избежал, и в основе “Зефира” нет и следа негроидного американизма, ставшего таким же отличительным знаком модернизма, каким еще вчера была целотонная гамма». Двумя годами позже, в обзоре дягилевского сезона, сделанном для «Крисчен сайенс монитор», коллега Шлёцера Эмиль Виллермоуз одобрительно заметил, что «“Аркейская школа”, которая развенчала и рассеяла “Группу Шести”, в значительной степени возвращается к гармонии и музыке, приятной для слуха». Об авторе «Сотворения мира» он отозвался так: «И любой может заметить, что Дариюс Мийо мудро отбросил свои дикие диссонансы и политональность, чтобы писать пьесы разумные, приятные и традиционные, как “Карнавал в Экс-ан-Провансе”»[302]302
Boris de Schloezer, “Les Ballets Russes. Erik Satie”, Nouvelle Revue Française, 1 August 1925, p. 248; Emile Vuillermoz, “Russian Ballet, 20 Years After”, Christian Science Monitor, 25 June 1927, p. 10.
[Закрыть].
К середине десятилетия не только танцовщики привычно мигрировали между театральными и мюзик-холльными сценами, но и неудержимо стиралась сама «демаркационная линия» между ними. «Это уже установленный факт, – отмечал Жан Брён-Берти во французском ежемесячнике “Ла Данс”, – что, исходя из хореографической перспективы, театр дает нам то, что в прошлом предлагал мюзик-холл, и наоборот. “Голубой экспресс”, показанный Русским балетом, подтверждает это правило»[303]303
Jean Brun-Berty, “22 Juin. – Théâtre des Champs-Elysées. Ballets russes (le Train bleu)”, La Danse, August-September 1914, n. p.
[Закрыть]. Ему вторил Андрей Левинсон:
С «Голубым экспрессом» авангардный балет дал нам знак своего добровольного отказа от грации, своего торжественного отречения в пользу мюзик-холла. Мы восприняли это предзнаменование и покинули балет Монте-Карло ради привлекательности Олимпии… Кто знает, не имеет ли мюзик-холл намерения перед лицом банкротства и заблуждений великой оперно-балетной сцены стать прибежищем великих традиций театрального танца?[304]304
André Levinson, La Danse d’aujourd’hui: Etudes, Notes, Portraits (Paris: Duchartre et Van Buggenhoudt, 1919), p. 337.
[Закрыть]
Вопреки невниманию исследователей танца, главным местом балетной активизации в 1920-х и ключевым фактором в стремительном распространении балетного модернизма была коммерческая арена. Леонид Мясин мог достичь ранних успехов в Русском балете, но его художественная индивидуальность по-настоящему созрела на сцене ревю. «Того, или Благородный дикарь» (Togo or The Noble Savage), его «американоиндианский» балет для ревю 1923 года со звездой Джорджем Роби под названием «Вы будете приятно удивлены» (You’d Be Surprised), имел все задатки постановок Шведского балета: афро-бразильскую партитуру Мийо, «модерновое» оформление Дункана Гранта, Америку в качестве места действия (гостиница «Дикая кошка» в Аризоне) и набор экзотических американских персонажей – мексиканцы, негры, индейский вождь. Что представлял собой этот балет, можно только гадать. Лидия Соколова, долголетняя участница дягилевской труппы и временно покинувшая ее, находила эту постановку «настолько бедной», что едва ли могла что-то вспомнить, кроме того, что «была от шеи до пят в коричневом трико, черном парике, с африканским гримом и исполняла воинственный танец». Т. С. Элиот, с другой стороны, притом что не испытывал ничего кроме презрения к самому ревю, красноречиво назвал Мясина «величайшим из актеров, имеющихся в Лондоне». «Того» не был единственным танцевальным номером в этой «джазовой экстраваганце» в двух актах и пятнадцати сюрпризах. Там были номер под граммофон, в исполнении Нинет де Валуа, полька «Триктрак» Штрауса для Мясина и Лидии Лопуховой, «ригодон из Чайна-тауна», «балет» на музыку Шопена под названием «Элегантные дамы» (Les Elégantes) и даже вариация из «Спящей красавицы». (Подбор нетанцевальных номеров представлял такую же мешанину: Литтл Тич, Мари Леконт в одноактной комедии Робера де Флера, отрывки из «Сказок Гофмана» и Савой Гавана Банд в «подлинной сатурналии синкоп»[305]305
Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 167. “Sitter Out”, Dancing Times, March 1923, pp. 600, 601; Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), p. 198; T. S. Eliot, “Dramatis Personae”, The Criterion, 1, No. 3, p. 305. Программа шоу, открывшегося в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в феврале 1923 г., и газетная вырезка из Кёртен (Curtain) хранятся в архиве Кейнса.
[Закрыть].)
Двумя годами позже Мясин пришел работать к ярчайшему продюсеру Уэст-Энда Чарльзу Кокрэну, осуществив три «сцены» – «Карьера мота» (The Rake), «Венгерская свадьба» (A Hungarian Wedding) и «Крещендо» (Crescendo) – для ревю, описанного в «Дансинг таймс» как «самое замечательное “танцевальное шоу”… когда-либо представленное лондонской публике». Ревю «Продолжение танца» (On With the Dance) объединило Мясина с Ноэлем Коуардом, который, будучи либреттистом шоу, тесно сотрудничал с хореографом при создании картины бешеной жизни современного города, получившей название «Крещендо». В своих мемуарах Мясин писал:
Балет отражал реальный период и на свой манер излагал сущность начала 1920-х годов. Персонажи, включая Кинозвезду [Элис] (Делайзия), Маникюршу (Элеанора Марра), Манекенщицу (Пат Кендалл), являлись в высшей степени современными типами. В противовес женским образам мы создали мужское джаз-трио под названием «Три поросенка». Сам я исполнял Бобо – «Духа эпохи». Моя хореография была стремительной и сатиричной, гармонировавшей с партитурой – попурри, составленным из популярных джазовых мелодий, среди которых ведущая роль отводилась мотиву «Покончи со своими грехами»[306]306
Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 172. Цитата из «Дансинг таймс» взята из колонки «Завсегдатай» (Sitter Out), Dancing Times, June 1925, p. 953. Ревю открылось в Лондонском павильоне 30 апреля 1915 г.
[Закрыть].
Мясин, в отличие от Кокто, наполнил «сцену» хореографическим движением. Фотография, возможно сделанная во время спектакля, запечатлела самую суть персонажей-типажей: Пат Кендалл в позе манекенщицы; Амелию Аллен на «мостике»; Лори Дивайн, стоящую на руках; Элеанору Марру в первой невыворотной позиции. Декорационный задник с угловатыми, абстрактными формами и словом «кафе», написанным крупными буквами, был пронзительно модерновым. Такими были и костюмы: строгие черные – для оркестра, короткие модные платья – для женщин. «Крещендо» имитировало реальность. Спектакль, однако, стремился убедить в том, что реальность – подходящий материал для танца, движения вообще. В интервью «Морнинг пост» Мясин говорил о необходимости модернизировать классический танец, чтобы он шел в ногу с XX веком:
Каждый век имеет свою собственную манеру двигаться и свои собственные стили танца, и мы не можем продолжать приспосабливать приемы нашей хореографии под предписания школы XVII, XVIII и XIX столетий. Так называемый классический стиль не соприкасается с современной жизнью. Что мы должны сделать сегодня, чтобы заставить танец быть живым, – так это перенять все, что мы можем, у итало-французской школы с ее трехсотлетней историей и перенести на то лучшее, что есть в современном джазе. Мы должны изменить направление старинной школы и путем приспособления ее канонов, ее форм и ее движений сотворить новый дух, достойно представляющий дух нашего века[307]307
Цит. по: “Sitter Out”, Dancing Times, August 1925, p. 1139. Фотография «Крещендо» была опубликована в: Dancing Times, June 1925, p. 961.
[Закрыть].
Модернизм, идущий от новых реалий жизни, был рожден «Парадом», впервые связавшим на балетной сцене авангардные формы с реалиями коммерческого театра. Импульс к такому альянсу исходил от футуристов; его расцвет тем не менее связан с другими деятелями культуры, список которых возглавлял Кокто, офранцузивший футуристическую формулу и, наряду с этим, притупивший ее остроту и дерзость. Пикантный, курьезный, насыщенный атрибутами современной жизни, этот новый бренд модернизма был скроен по меркам всего Парижа – или, по крайней мере, по вкусу тех, кто смаковал блюда, приготовленные Дягилевым, Рольфом де Маре и графом Этьеном де Бомоном. Начавшись «Парадом» и найдя свое продолжение в «спектаклях-концертах» Кокто, Шведском балете Маре, «Парижских вечерах» Бомона и дягилевском репертуаре после 1922 года, этот стиль совпадал с новым потребительским шиком высшего класса. Темой предыдущих страниц были преобразования в балете, хореографы которого блуждали далеко в стороне от классических традиций Мариинского театра. С этим, подсказанным жизнью, модернизмом берега отдалились настолько, что тот, от которого пустились в плавание первопроходцы, исчез из виду. Изобретенный авангардом, с презрением относившимся к прошлому, и пропагандируемый художниками, едва ли знавшими его, этот род модернизма демонстративно отвергал двойное основание классического наследия: саму технику классического танца и символическую многомерность практики, связанной с ней. Став неотличимым от других сценических зрелищ, балет утратил как свой выразительный язык, так и свой смысл.
Несмотря на то что описываемый вариант модернизма воспринимается как превалирующий стиль балета двадцатых, он представлял лишь одно направление в репертуаре труппы Дягилева. Другое направление, «ретроспективный классицизм», мало учитывается исследователями. Однако между 1921-м, годом постановки «Спящей красавицы», и 1928-м, когда Баланчин создал «Аполлона Мусагета», это направление оставило след почти на дюжине работ, отдававших дань grand siècle – эпохе, во французской истории примерно совпадающей с правлением Людовика XIV. Так же как Пикассо открыл для себя Энгра после авантюр кубизма, так и Дягилев в ходе своих футуристических экспериментов «переоткрыл» для себя величие французского классического прошлого. Осознав это, он привел Русский балет к глубоко консервативному феномену – отступлению многих художников и интеллектуалов в послевоенный период, особенно во Франции, с передовых рубежей авангардистского экспериментаторства.
Кеннет Силвер в своем увлекательном и смелом исследовании французского искусства 1914–1925 годов[308]308
Kenneth E. Silver, “Esprit de Corps: The Great War and French Art 1914–1925”, Diss. Yale 1981.
[Закрыть] проанализировал это отступление, выразившееся в возврате к фигуративным стилям и подчеркнуто национальным темам в качестве ответа на реакционную идеологию, которая была составной частью пропагандистских акций военного времени. Кокто, как мы видели, стоял в самом центре этой внутрикультурной перегруппировки, занимая «посредническую» позицию, позволяющую сохранять приверженность авангарду. Поворот в сторону консервативных тенденций ощущался и в музыкальном театре. Взрыв военных действий в 1914 году закрыл драматические и оперные театры, отправив молодое поколение профессионалов, от рабочих сцены до первых танцовщиков, в окопы. Поскольку война, вопреки ожиданиям, быстро не закончилась, а переползла на второй год, публика начала беспокоиться. «Нужно давать людям моральное успокоение, – сказал Жак Руше, директор Парижской оперы, корреспонденту “Мьюзикал Америка”, – и здесь ничто не может оказать больший психологический эффект, чем музыка, поднимающая дух»[309]309
Цит. по: R.B.D., “Historical Review of Music in the Paris Opera Season”, Musical America, 26 February 1916, p. 38.
[Закрыть]. В 1915 году Опера начала давать утренние представления несколько раз в неделю. Эти концерты, описываемые Руше как «озвученная история драматической музыки», и благотворительные спектакли, число которых неизмеримо возрастало по мере того, как от года к году длилась война, стали идеологической основой «ретроспективного классицизма».
По контрасту с космополитическим характером довоенных программ, представления Руше военного времени были исключительно французскими и связанными с национальной историей. В порыве националистического угара немецкие композиторы были изгнаны со сцены, и публика слушала теперь Люлли, Детуша и Рамо – создателей французской оперы. Планировалось поставить также «балет-фантазию, в котором должен был быть показан Людовик XIV, сам танцевавший в балетах в молодые годы, и так называемые музыкальные ужины, развлекавшие его в зрелости». То, чему Руше платил щедрую дань, далеко не всегда оказывалось шедеврами. Исторической оправой концертов он возвеличивал аристократические и монархические традиции, связанные с grand siècle, когда Франция правила искусством, манерами и политикой всей Европы:
Мы представляем не только музыку иных времен, но также и обстановку, в которой она звучала. Репетиция «Эсфири», разыгранной дочерями из благороднейших семейств перед госпожой Ментенон; музыкальный вечер в доме Пуплиньера, покровителя Рамо; заседание Французской академии, на котором Баиф озвучивал свои оригинальные переложения на музыку ритмов поэтических строк Горация и Сафо, и концерт во дворце, в Компьене перед императорским двором[310]310
Ibid.
[Закрыть].
Культурная ксенофобия не закончилась с наступлением мира. Одержимость классическим и монархическим прошлым Франции по мере перехода к мирной жизни только ширилась. Версальская мирная конференция породила вспышку интереса прессы к архитектуре, садово-парковому искусству, истории, а также осознание необходимости реставрировать замок, который, более чем какое-либо другое общественное сооружение, характеризовал эпоху Людовика XIV. В 1920 году в Версале распахнул свои двери Музей костюма, в следующем году в его залах можно было увидеть обширные выставки живописи Фрагонара и Ватто, а также постановку «Докучных» Мольера, в свое время предназначавшуюся для одного из празднеств «короля-солнца». Возрастал интерес к танцевальному искусству XVII и XVIII веков, и его кульминацией стала выставка в престижной галерее Шарпантье в январе 1923 года, где демонстрировались гравюры с изображением балетов, представленных при дворе «короля-солнца» и его внука Людовика XV[311]311
Melissa A. McQuillan, “Painters and the Ballet, 1917–1926: An Aspect of the Relationship Between Art and Theatre”, Diss. New York Univ. 1979, 1, pp. 149–151.
[Закрыть].
«Спящая красавица» (точнее было бы говорить «Спящая принцесса» – так Дягилев переименовал балет Петипа) была первой постановкой, в которой проявились новые настроения. Хотя балет появился в Лондоне, он казался скроенным для Парижа, что подчеркивали многие французские критики, которые пересекали Ла-Манш ради премьеры, и многие британские критики, особенно среди интеллигенции, рассматривавшие эту постановку как измену Дягилева модернистским принципам. Более того, существовал план даже ранее премьеры привезти спектакль в Париж. 8 октября 1921 года Дягилев и Жак Руше подписали контракт, обязательным пунктом которого значился показ «Спящей красавицы» в Опере в мае следующего года[312]312
Контракт между Сергеем Дягилевым и Жаком Руше от 8 октября 1921 г., AJ13/1292, Archives Nationales (Paris).
[Закрыть].
Конечно, этого не случилось. Декорации и костюмы были конфискованы, и Дягилев спешно перебрался через пролив, скрываясь от преследовавших его кредиторов. Руше был в гневе. 26 апреля он писал ему:
Вместо «Спящей красавицы» Вы предлагаете показать фрагмент этой постановки – «Свадьбу Авроры». Вы понимаете, какая разница для билетной кассы будет при замене полностью новой постановки одноактным балетом… Я рассчитывал на безусловный коммерческий успех, ведь «Спящая принцесса» уже известна… по ее многочисленным показам в Лондоне грандиозными декорациями, костюмами авторства Бакста и калибром исполнителей… Решение, которое Вы предлагаете, несет сплошной урон: нет звезд, нет декораций, нет mise-en-scène…[313]313
Жак Руше, письмо Сергею Дягилеву от 26 апреля 1922, Fonds Kochno, Piece 86, Bibliotheque de l’Opera (Paris).
[Закрыть]
В конце концов Руше взял то, что смог получить. Премьера «Свадьбы Авроры», компиляции танцев из дворцовых актов «Спящей красавицы», с добавлением хореографии Нижинской, состоялась в самом престижном театре Франции 18 мая 1922 года. «Классический балет Мариуса Петипа, французского хореографа (1822–1910), представлен по случаю столетия со дня его рождения», – эта фраза в программе к спектаклю подчеркивала французские, классические корни балета.
Попытка Дягилева переиграть французов на их собственном поле – то есть возрождение картины величия французской монархии посредством шедевра из русского репертуара – провалилась. Однако имперская тема отнюдь не исчезла из его репертуара. Скорее наоборот: обосновавшись осенью 1922 года в своей новой штаб-квартире в Монте-Карло, зимнем пристанище для азартных игроков из числа респектабельных парижан, Русский балет стал уделять непропорционально много внимания «старому порядку», то есть временам королевского режима. В июне 1923 года, участвуя в благотворительном гала, организованном обществом «Друзей Версаля» для сбора средств на реставрацию дворцово-паркового комплекса, он поразил парижскую элиту великолепным зрелищем в Зеркальном зале – «Свадьбой Авроры», усилив для такого случая колорит эпохи процессиями и вокальными интерлюдиями. Окружающая обстановка не менее, чем размах «балета», делала его исполнителей причастными славы самого «короля-солнца». Этот «великолепный праздник» стал предвестием того, что станет для Дягилева образцом при планировании следующих программ. В 1924 и 1925 годах он осуществит постановку более полудюжины опер и балетов, использующих французские классические формы и темы. Немногие из них являлись подлинными произведениями прошлого: только «Искушение пастушки» (Les Tentations de Bergère) Мишеля де Монтеклера датировано той эпохой. Другие привносили grand siècle через произведения XIX века: «Неудачное воспитание» (Une Education Manquée) Эмманюэля Шабрие, «Филемон и Бавкида», «Голубка» (La Colombe) и «Лекарь поневоле» (Le Médicin Malgré Lui) Шарля Гуно. А иные – «Докучные» (Les Fácheux) и «Зефир и Флора» – были вновь созданными произведениями с классическими темами и названиями.
Немногие из этих работ точно повторяли оригиналы. В сознании Дягилева скорее они ассоциировались с поверхностным видением прошлого, пригодного для перестилизации современной палитрой. Чтобы сократить и переоркестровать существовавшие партитуры, он позвал Дариюса Мийо, Франсиса Пуленка и Эрика Сати. Жорж Орик, сочинивший отдельные музыкальные фрагменты для возобновления «Докучных» в 1922 году, был избран написать и балетную версию, в то время как партитуру «Зефира и Флоры» Дягилев заказал Владимиру Дукельскому. В визуальном ряду несоответствие между формой и содержанием было еще более разительным. За исключением «Филемона и Бавкиды» и «Лекаря поневоле», оформленных Бенуа, Дягилев доверил этот цикл классических работ модернистам. С участием Хуана Гри и Жоржа Брака, получивших львиную долю заказов Дягилева, это подношение монархическому прошлому с изрядной долей иронии отразило красоты авангарда.
Тем не менее эти работы никак не могут быть признаны экспериментальными. Как ничто другое, они придерживались традиционных способов изготовления оформления – живописных декораций, подчеркнуто исторических костюмов, общепринятого использования пространства сцены – всего того, от чего отказались конструктивисты и деятели Баухауса и чего сам Дягилев, по крайней мере частично, избегал во время Первой мировой войны. На самом деле, единственной связью этих постановок с авангардом являлись личности самих художников. Работа ни одного из них не была сотрудничеством в полном смысле слова. Скорее Гри и Брак оказались на положении наемных рабочих, взятых для воплощения готовой концепции Дягилева. В большинстве своем сделанное ими оформление было совершенно нетипично для их живописи, оно содержало лишь едва уловимый намек на то, что его авторы в недавнем прошлом – создатели кубизма. Будучи «визуализаторами» предуготованного замысла, они обнаружили, что сфера применения их изобретательности ограничена, что их возможности сводятся в основном к деталям и выражаются главным образом в тенденции к упрощению. Хотя оба, и Гри, и Брак, опирались на источники XVII и XVIII веков, в целом их эскизы оставались в пределах ретроспективизма. Андрей Левинсон писал:
В «Искушении пастушки» пренебрежение Гри к оптической иллюзии сводит декорацию к жесткой рамке. Его классический ум, естественно вовлеченный в очаровательные и бесполезные свободы стиля Регентства – эпохи Монтеклера, – берет за образец скорее Лебрена, чем Ватто. Розовый и фиолетовый поддельный мрамор колонн… вызывает в памяти пилястры Мансара в Зеркальном зале в Версале. Но и здесь Гри приуменьшает барочную помпезность Мансара, очертания картушей, контуры капителей до неких упрощенных формул. Нет сомнений, что Анри Беро мог бы обвинить его в янсенизме[314]314
Levinson, La Danse d’aujourd’hui, pp. 27, 28.
[Закрыть].
В «Искушении пастушки», как и в «Зефире и Флоре» и «Докучных» Брака, костюмы обнаруживали сходное смешение исторических и абстрактных элементов. Фасоны упрощались; края одежды заострялись для большей драматичности. В отделке возникали рельефные геометрические мотивы, вместо шляп появлялись нимбы и объемные полусферы. Вычурные парики завершали целое.
В то же время критики усматривали в костюмах многочисленные аллюзии на современную одежду. Венера, изображенная на интермедийном занавесе Брака для «Докучных», по замечанию Хоуарда Ханнея в лондонском «Обзервере», носила «поношенный пеньюар» богини, одетой по-домашнему. Эскизы костюмов к «Зефиру и Флоре» «по большей части были связаны с образцами современной моды», комментировал «Скетч». «Обзервер» оказался более обстоятельным в своей критике. Алисия Никитина – Флора была «одета в модную блузку, словно собралась прогуливаться по Елисейским Полям… Музы носили шикарные маленькие шляпки и серьги, придерживаясь моды, принятой на том единственном Олимпе, который они когда-либо знали – и который находился куда ближе к Довилю, чем к Фессалии»[315]315
H[oward] H[annay], “Les Fâcheux”, Observer, 26 May 1927, p. 15; “‘Zephyr and Flora,’ and ‘Betty in Mayfair’”, Sketch, 18 November 1925, p. 321; H[oward] H[annay], “‘Zephyr and Flora’”, Observer, 15 November 1925, p. 11.
[Закрыть].
Если в костюмах для этих балетов исторические каноны и современные модные тенденции накладывались друг на друга, то это только выражало логику разнородности, господствующей в этом стиле в целом.
В этих работах, однако, художник и хореограф действовали изолированно, а подчас и с противоположными намерениями. В «Искушении пастушки» громоздкие декорации Гри с платформами разной высоты, казалось, больше мешают, чем помогают хореографическому замыслу Нижинской. Костюмы Брака к «Докучным» скрывали движения актеров, вынужденных их носить. «В них было очень трудно танцевать, – вспоминала Лидия Соколова. – Они были совершенно неподходящими, с тяжелыми плоскими шляпами, нависающими на глаза, и тяжелыми париками, все это придавало впечатление тяжести»[316]316
Sokolova, Dancing for Diaghilev, p. 218.
[Закрыть]. При отсутствии творческого обмена хорошие идеи «уходили в песок». Среди них была и идея Брака, чтобы танцовщики исчезали на глазах у публики: все костюмы спереди соответствовали исторической эпохе, сзади же все они были коричневого цвета, и, поворачиваясь спиной, актеры должны были «раствориться» на фоне коричнево-охристого задника. Нижинская из каких-то соображений не обыграла эту задумку в своей хореографии. В результате, как заявил Кокто, «подлинным танцем в “Докучных” стала игра бежевых, каштановых и серых цветов Брака»[317]317
Theâtre Serge de Diaghilew: Les Fâcheux (Paris: Editions des Quatre Chemins, 1924), p. 6.
[Закрыть]. Балеты этого периода – не плоды сотрудничества постановщиков, скорее смешиваемые в мыслях Дягилева коктейли, чей вкус и аромат создавался более художественным оформлением, чем танцем.
Ретроспективный классицизм едва ли был исключительной прерогативой Дягилева. Шведский балет, как и «Парижские вечера», также эксплуатировал французские исторические темы – впрочем, как и Парижская опера, – часто в тандеме с наиболее крикливыми и вульгарными проявлениями модернизма. Сценарий Ролана Мануэля для «Поединка» (Le Tournoi Singulier), поставленного в Шведском балете в 1924 году, черпал вдохновение из поэмы XVII века Луизы Лабэ «Спор безумия и любви». Работа была плодом модернизированной мифологии: Эрос становится жертвой Безумия в то время, как читает парижскую газету и грезит наяву о двух женщинах в боксерских трусах, играющих в гольф. В соответствии с темой, танцы Жана Бёрлина и костюмы Цугухару Фудзита сталкивали «старинный» и современный стили. Годом ранее «Парижские вечера» представили два произведения в классическом духе: «Салат», комический балет, помещенный в XVIII век, с постановочной группой, объединившей Мясина, Брака и Мийо, и «Жигу» с хореографией Мясина на музыку Баха и Генделя, в оформлении Дерэна. В «Жиге» просматривалось желание уловить дух grand siècle. Декорации Дерэна – ширма с изображением рощи, статуи и вазы, – писал Андрей Левинсон, стремились к «ироничному краткому изложению королевского, “барочного” представления». Хореография – со сверкающими заносками, быстрыми frappés и ronds de jambe sautés в заключительном па-де-труа – тоже тяготела к барочному стилю[318]318
Maré, Ballets Suédois, pp. 70–71; Levinson, La Danse d’aujourd’hui, p. 412; Аи Temps du “Boeuf sur le Toit”, introd. Georges Bernier (Paris: Artcurial, 1981), pp. 76, 77.
[Закрыть].
В Парижской опере танец также отдавал должное французскому прошлому. В 1924 году Фокин поставил «Сон маркизы» (Le Rêve de la Marquise), одноактный балет на музыку Моцарта, где временем действия был XVIII век. Двумя годами позже появился балет «Сидализ и сатир» (Cydalise et le Chèvrepied), возможно бывший ответом Руше на «Спящую красавицу». Эта «очаровательная вещь, изящная, как севрский фарфор, – писал Левинсон, – представляет собой игру анахронизмов и исторических парадоксов. Что важно, так это… грация увядающих вещей, их порочная и меланхолическая улыбка; не букет, а его аромат; не истинная правда, но воображаемое великолепие». Хореография Лео Стаатса, балетмейстера Оперы, менее вдохновенная, чем того требовала тема идеализированной сельской галантности, полагалась в основном на пантомиму. Но были здесь также и намеки на «Послеполуденный отдых фавна» Нижинского – в угловатых жестах и профильных позах фавнов, на «Дафниса и Хлою» Фокина – в «монологе», танцуемом и мимируемом Стираксом, и на его «Видение Розы» – в деликатно-чувственном «диалоге» стыдливой девицы и ее деревенского обожателя[319]319
Andre Levinson, “13 Janvier. ‘Cydalise et le Chevre-pied’”, La Danse au Theatre: Esthétique et actualité meleés (Paris: Bloud et Gay, 1924), pp. 210, 212–214, 215.
[Закрыть]. В 1925 году «Триумф любви» (Le Triomphe de l’Amour), придворный балет на музыку Жана-Батиста Люлли, появившийся на свет еще в 1682 году, «возвратился» в репертуар. Эта постановка с работой художника Максима Детома и хореографией Стаатса вызывала в памяти скорее дух, чем букву своего отдаленного предшественника. Наряду с прославлением классического прошлого Опера также уделяла внимание и недавнему наследию. В 1919 году «Сильвия» (с новой хореографией Стаатса) появилась вновь в Пале Гарнье; в 1924 году последовала «Жизель» (поставленная Николаем Сергеевым, бывшим режиссером балета Мариинского театра), а год спустя – одноактная версия «Ручья» (в хореографии Стаатса). Романтические пастиччо также нашли себе место в репертуаре: балет «Тальони у Мюзетты» (Taglioni chez Musette), воскрешавший в памяти музыку 1830-х годов, поставленный Стаатсом в 1920-м, и «Сюита танцев» Ивана Хлюстина – довоенные мечтания в духе «Шопенианы», восстановленные в 1922 году[320]320
Полный список постановок Опера, включая возобновления, см.: Wolff, L’Opéra au Palais Garnier.
[Закрыть].
В целом ряде балетов этого периода, связанных с культурой и историей Франции, можно усмотреть импульс, родственный неоклассицизму, который возникнет во французской литературе и искусстве непосредственно в послевоенные годы. Я употребила слово «импульс», потому что дягилевская одержимость прошлым не распространялась на танец. Только в редких случаях, таких, как кода, придуманная Нижинской для «Докучных», и некоторые из ее танцев в «Искушении пастушки», в какой-то степени сближали хореографию с этим стилем. Однако даже здесь присутствовали пронзительно модернистские элементы: угловатые позы, неуклюжие жесты, позиции с параллельным положением ног. В «Докучных» Левинсон усмотрел также элемент пародии: танец для игроков в воланы (одной из участниц которого была Нинет де Валуа) напомнил ему насмешки Кокто над классической хореографией в «Новобрачных на Эйфелевой башне»[321]321
Levinson, La Danse d’aujourd’hui, pp. 28, 36. Фотографии «Докучных» см. в книге Кокто об этом балете.
[Закрыть]. Эти несоответствия, возможно, отразили дискомфорт Нижинской при общении с материалом. Но, поскольку со столь же раздражающим эффектом они появлялись в работах других дягилевских хореографов того периода, это наводит на мысль, что к середине десятилетия Дягилев утратил веру в способность балета освоить нечто более фундаментальное, чем присущую ему изначальную нелогичность.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































