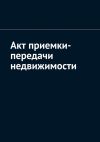Текст книги "Непрямое говорение"

Автор книги: Людмила Гоготишвили
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Приведем в поддержку нашего выбора понятия «состояние сознания» в качестве наиболее близкого, хотя и не полностью адекватного, аналога ивановского понимания природы символических референтов несколько мест из «Эллинской религии страдающего бога». Служение Дионису было, по Иванову, психологическим состоянием по преимуществу (с. 318); дионисийский миф по отношению к психологии культа имеет, с его точки зрения, значение этиологическое: фактами священного предания ищет он объяснить неподдающуюся рациональному истолкованию наличность специфических особенностей обрядового оргиазма (с. 319); не экстаз возник, по Иванову, из того или иного представления о боге, но бог явился олицетворением экстаза (с. 334), и т. д. «Состояние сознания» – это и есть условный, секуляризованный и частичный, синоним экстаза; так что путь, мыслившийся Ивановым, пролегает, как видим, не от имени (или символа) к состоянию, но от состояния – к символу и вообще к языковому выражению. А это и значит, что именно состояние сознания есть, по Иванову, референт мифа.[54]54
Аналогичное понимание возможности несубъективного по последствиям скрещения трансцендентной и имманентной сфер развивается в русле хайдеггеровских идей и П. Рикером, использующим для этого особую интерпретацию восприятий и ощущений, преодолевающую их «буквальный» первичный характер. Ср., например, из Рикера: ощущения имеют более глубокие корни, заключающиеся в том, «чтобы ввести нас в пределы мира необъективирующим способом»; «…мы настроены на реальность в основном посредством ощущений. Но эта настроенность есть не что иное, как отражение в терминах ощущений расщепленной референции как вербальной, так и имагинативной структур» (Указ. соч. С. 432). При всем сходстве интенций имеются все же, как уже говорилось, и принципиальные расхождения с Ивановым. Так, сохраняя в центре внимания метафору (а не символ), Рикер сохраняет, соответственно, и языковое облаченье «главного» субъекта метафорического высказывания (принципиально отсутствующее, как мы помним, в ивановских символических фигурах), а значит и продолжает тем самым мыслить природу своего особого референта как некоего содержания или смысла, а не как «состояния сознания», лишенного любого конкретного содержания и всегда порождаемого, по Иванову, «косной материей» языка, (ср. у Рикера: поэтические ощущения «суть не просто внутренние состояния, но интериоризованные мысли»; ощущение не противоречит мысли, «оно – мысль, сделанная нашей» – Указ. соч. С. 430).
[Закрыть]
Так писал, скажут, ранний Иванов. Однако и поздний Иванов писал аналогичное. Поэзия, согласно последним его статьям, это целостное двойное КАК: «как» видит художник и «как» выражает (3, 675). Первое «как» Иванов соотносит с «зиждущей» формой, второе – с формой «созижденной». И именно «зиждущая» форма является при этом, согласно ее ивановской интерпретации, предметом идентификации для слушающего, то есть – в принятых здесь терминах – предметом референции. Все это непосредственно следует из утверждений Иванова. И хотя поздний Иванов не использует собственно символическую терминологию, им мыслился по отношению к «зиждущей» форме все тот же особый (необъективирующий и неименующий) символический способ референции.[55]55
Понятие «зиждущей формы» не было для Иванова «неожиданно» приобретенной и качественно все меняющей новацией 30-х годов; аналогичные словоупотребления с эксплицированной, так же, как и у Иванова (3, 667), опорой на очевидную в данном случае традицию различения понятий «natura naturans» и «natura naturata», активно, в частности, использовались в 1910-х годах многолетним другом Иванова В. Эрном, причем иногда – в как бы прямо «ивановских» по мысли контекстах; см., например: «Где нет Диониса, там нет основы для творчества. Где нет Аполлона, там нет исхода для творческого порыва… Всякое творчество есть преодоление формой (конкретной, зиждительной идеей) косности и упорства материала (материи)» – ЭрнВ. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 281. Тот же Эрн, кстати, высоко ценил в ивановском символизме его обсуждаемую нами здесь принципиальную установку на модальность (на «как»), особо выделяя при этом «четкую формулу» Иванова о понимании культуры «как модуса по отношению к субстанции» (Там же. С. 124).
[Закрыть] Даже если «созижденная» форма (а это, напомним, вся языковая плоть высказывания – и звучание, и грамматика, и семантика с ее объективирующей образностью и событийностью) сотрется, по Иванову, из памяти слушающего, то «зиждущая» форма – если она действительно была референцирована – может при этом остаться в ней навсегда (3, 668).[56]56
Интересно, что эта ивановская идея находит неожиданную поддержку со стороны психолингвистики, согласно многочисленным «экспериментам» которой реципиент сохраняет в памяти прежде всего референцирующие компоненты предложенного ему для запоминания текста (неважно при этом, что с точки зрения психолингвистики референцию осуществляют имена существительные в позиции субъекта суждения, которые, как выяснилось, и запоминаются – так и должно мыслиться в лингвистике, анализирующей те типы речи, которые сохраняют функциональное противопоставление субъекта и предиката; главное, что здесь, как и у Иванова, речь идет о сохранении в памяти именно референта).
[Закрыть] Может остаться, следовательно, некий новый модальный настрой (то есть состояние сознания, к которому была произведена референция), способный самовоспроизводиться при совершенно других языковых и ситуативных обстоятельствах, что как раз и свойственно всем языковым референтам в целом.
Стирающаяся же из памяти «созижденная» форма – это второе КАК ивановского двойного КАК и, одновременно, это то самое ЧТО, которое мыслится в «логически спокойном» смысловом пространстве. Однако это ЧТО не является в ивановских символических фигурах референцией к некоему реальному «предмету» из внешнего языку «объектного уровня реальности», оно здесь такое ЧТО, которое самолично ничего не референцирует, оно создано самим языком и ему же принадлежит, а потому и не способно (или не предназначено) налагать на сами символические референты какие-либо «объективирующие» их сетки. Действительно, если первое ивановское КАК является непосредственным референтом символической речи, то обычное логическое ЧТО превращается из самостоятельного объекта или из объективации в языковой способ выражения этого, референцируемого символической фигурой КАК (то есть логика здесь обратная той, которая обычно мыслится между этими понятиями). И это отнюдь не периферийный завиток ивановской мысли, это – один из его фундаментальных постулатов, согласно которому через референцию «первичного» КАК поэт больше говорит о реальной субстанциальности вещей, чем то, лишь с виду субстанциально насыщенное ЧТО, которое в научной речи мыслится «истинностным» отражением субстанции действительности, но которое на деле способно, по Иванову, референциально прикоснуться лишь к модальному КАК вещей (3, 665).[57]57
Интересно, что об аналогичных возможных взаимозаменах, череде и других «сложностях», происходящих в языке между ЧТО и КАК, говорится и в книге М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского, из которой нами было заимствовано понятие «состояние сознания» – см.: Символ и сознание. С. 41–44 и др.
[Закрыть] В лингвистическом зеркале эта утверждаемая Ивановым череда взаимных метаморфоз в речи ее ЧТО и КАК отражается в той специфической особенности символической референции, которая выше была описана, с одной стороны, как невозможность свертывания мифа в символ (в имя), то есть в некое одно ЧТО, а, с другой стороны, как принцип взаимной синтаксической обратимости субъекта и предиката без потери исходной референции, то есть, фактически, как принцип взаимообратимости ЧТО и КАК.
Если, таким образом, акцентировать вслед за Ивановым в понятии «зиждущей» формы ее связь с тем, КАК видит художник (в той же статье Иванов намечает и другие, также играющие на руку нашей интерпретации, нюансы этого понятия, от которых мы здесь отвлечемся), то ее почти полным контекстуальным синонимом как раз и окажется принятое нами в качестве наиболее адекватного ивановской идее понятие «состояние сознания». Именно к состоянию сознания отсылает мифологическое высказывание, именно оно является предметом символической референции.
Такое же трансцендентно-имманентное и одновременно модусное понимание природы символических референтов, закрепленное здесь в понятии «состояния сознания», просматривается во многих других – беглых, но тщательно выполненных – словесных зарисовках Иванова. Просматривается оно, в частности, и у Иванова «среднего» периода – в его описании соотношения обряда и мифа в «Дионисе и прадионисийстве». Обряд, согласно лингвистической интерпретации этого описания, воспроизводит (постоянно возобновляет) некое представление, выделившееся из эмоциональной сферы и приобретшее господство над ней.[58]58
Дионис и прадионисийство. С. 269.
[Закрыть] При своем постоянном возобновлении в обряде это представление и закрепляется в сознании как то конкретное, имеющее онтологический статус архетипическое состояние, которое и становится «предметом» символической референции в словесном мифе. Миф, по Иванову, это языковая проекция обряда (там же). Будучи таковой проекцией, миф редуцирует прагматические и эмоциональные составляющие обряда и придает фиксируемому и возобновляемому обрядом состоянию сознания соответствующую природе языка форму суждения с глагольным предикатом, чем «событизирует» его и придает ему специфическую образность. Исходное же представление и закрепляющее его в обряде состояние сознания не включают в себя, согласно Иванову, ни ощущения собственной личностной субъектности, ни образной, вовне сознания ориентированной, объектности, ни прямой событийности. Осуществляемое в «точке» такого рода состояний сознания трансцендентно-имманентное касание первоначально не имеет, в соответствии со своей сущностной исходной природой, никакой субъектно-объектной рефлексивной обработки (некоторые концептуальные, но не совпадающие по оценочной интерпретации, параллели этому пониманию можно найти в теории О. М. Фрейденберг[59]59
См.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 206–212 и др.
[Закрыть]). Конкретный бог, связуемый впоследствии с каждым данным референцируемым мифом состоянием сознания, и соответственно имя этого бога, моложе мифа как языковой проекции обряда, а сам миф моложе выражаемого (референцируемого) им представления и состояния сознания, как тому и следует быть в любых способах языковой референции.
Выделившееся и господствующее эмоциональное представление о жертвенности как таковой лежит, по Иванову, в субстрате всего дионисийства, а трансцендентно-имманентная природа происхождения самого этого представления рождает при его словесной проекции соответствующую, двойственную же, субъект-объектную и предикативную синтаксическую структуру. Таким образом, словесный миф у Иванова вторичен по отношению к обряду;[60]60
О возможности и последствиях других пониманий этого соотношения, в частности, о версии первичности мифа по отношению к обряду, см.: Топоров В. Н. О Ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 7—60.
[Закрыть] раз возникнув, он становится способен к идентификации и воспроизведению в человеке того же состояния сознания, что и соответствующий обряд, в том числе – и уже без самого обряда, что аналогично, как мы помним, описанному поздним Ивановым соотношению между «зиждущей» и «созижденной» формами. Эта внеобрядовая возможность и означает, что миф способен самолично осуществлять языковую референцию к состоянию сознания. Миф не само состояние, но референция к нему. Осуществляя же референцию к состоянию сознания, «расположенному» на принципиально необъектном и необъективируемом уровне реальности, миф тем самым не может являться именем своего референта, то есть именем состояния сознания.
Вместе с тем, отражая трансцендентно-имманентную природу состояния сознания присущим ему в качестве языкового явления способом (двойственной субъект-предикативной структурой), словесный миф изначально приспособлен тем самым к тому, чтобы иметь возможность стать естественной формой для вмещения в том числе и отрефлектированного религиозного содержания, тоже, как и неотрефлектированный миф, всегда «говорящего» о той или иной связи трансцендентного и имманентного. Здесь оказываются возможными самые разнообразные случаи совмещения, пересечения, взаимозамены и т. д. референтов. Так, субъект «смутного», с рефлексивной точки зрения, пра-мифологического суждения может впоследствии персонифицироваться, получив тем самым помимо прочего и статус самостоятельно референцирующей языковой единицы, вплоть до статуса собственного имени. В развитом, то есть подвергшемся рефлексивной аналитической обработке мифе трансцендентное и имманентное не слиты в некое недифференцированное одно, которое нуждается в целостной референции, но осознаются как онтологически раздельные «срезы» бытия, вступившие в касательную связь. При таком раздельном понимании уже нет места и смысла для действующего в символических фигурах речи ивановского запрета на использование объективирующих и субъективирующих потенций языка. В ивановском же пра-мифе не может быть реальной объективации и тем более персонификации трансцендентного, поскольку в нем нет и изолированной имманентной субъектности: пра-миф референцирует только сам факт и общий (архетипический) имманентный результат касания двух сфер. Имеющее онтологический статус касание исходно испытывается человеком, по Иванову, как его внутреннее состояние, которое, соответственно, само по себе «выше», по ивановской шкале ценностей, нежели любые его аналитические и семантические обработки. Будучи абсолютным и «чистым» началом религиозного «чувства», это состояние тем самым – по логике вечно возрождающейся и возвращающейся к истокам Памяти – ближе и к его абсолютному, все разрешающему и чаемому финалу.
Иванов, таким образом, не только не отрицал, но считал естественной и закономерной возможность появления в определенных случаях на месте субъекта-символа мифологического суждения собственного имени, как того требовал, как мы помним, Булгаков и как это единожды сделал сам Иванов в своем определении пра-мифа, данном в «Дионисе и прадионисийстве». Имя может, по Иванову, появиться в предрасположенной к тому синтаксической позиции мифа в результате длительной мифологической, философской и языковой рефлексии (как, например, в случае Диониса); в таком случае появившееся имя – это имманентно данное имя трансцендентного, то есть имя, несущее в себе языковое аналитически свернутое указание на семантически определенное иерархическое место именуемого бога в данной системе мифологического мышления (см. первый раздел статьи). Важно, однако, здесь и то, что в своей долгой исторической жизни в культуре, особенно – в поэзии, имя «Дионис» опять теряет, по Иванову, статус имени, превращаясь в изолированный (со всеми вытекающими отсюда последствиями) символ исходно-первоначального для дионисийства в целом состояния сознания.
Сказанным, однако, проблема далеко не исчерпывается. Очевидно, что в мифах, основанных на Откровении, субъектную синтаксическую позицию может занять не имманентное, а трансцендентное Имя трансцендентного – Имя, данное человеку свыше. В таких случаях, по Иванову, «действуют» совершенно иные по типу и статусу состояния и модусы как сознания, так и языка, нежели в преимущественно интересовавших его архетипических состояниях сознания и, соответственно, словесных пра-мифах. Именно такие, основанные на трансцендентном языковом откровении, состояния и языковые структуры сознания были в центре внимания имяславия, Иванов же стремился пробиться через не именующий символизм к «дооткровенным» архетипическим состояниям сознания, продолжая видеть в них, несмотря на массированную критику за скрытое язычество, самостоятельную, в том числе и религиозную, ценность «абсолютного начала».
Архетипические «дооткровенные» референты имеют, по Иванову, далеко не только историческое, реликтовое значение; именно к ним (а не к врожденным объектно-статическим, рационалистическим и/или семантическим языковым структурам сознания) стремятся пробиться современные символические фигуры речи, цель которых аналогична цели воссоздания пра-мифов. Символизм призван, по Иванову, воссоздавать в новых языковых формах исконную чистоту архетипических состояний сознания, порожденных изначальными и принципиально, с его точки зрения, свободными от языковых по генезису «объективации» и «субъективаций» касаниями трансцендентного и имманентного, которые в долгом развитии культуры и под прессом рефлексирующей и прагматической мысли содержательно расплылись в своем языковом выражении до неузнаваемости, а возможно и до искажения, и тем самым почти полностью утратили способность референцировать свои истинные исходные референты.
Естественные же мифы откровенных религий построены, согласно такой пресуппозиции, и на ином типе символизма (поэтому и имяславие не есть, с ивановской точки зрения, завершение мыслимой им разновидности символизма), и, соответственно, на ином типе референта. Именная объективация трансцендентных сил имеет другие цели; она не направлена на референцию необъектных и необъективируемых «состояний сознания», в которых нерасчлененно и совместно были бы скрещены трансцендентный и имманентный «срезы» бытия. Не случайно в той же рецензии на статью Белого о соотношении пушкинской и тютчевской манер, о которой говорилось в начале данной статьи, Иванов вводит на общем фоне противопоставления «имяславия» Пушкина и «мифологичности» Тютчева и их различие по критерию трансцендентности и имманентности. «Имяславец» Пушкин обладает, по Иванову, способностью право именовать именно силы трансцендентного, а следовательно, либо непосредственно объективированного, либо поддающегося языковой объективации в идеях-словах, мира, Тютчев же, мифолог-символист, погружен, по Иванову, в имманентный мир и изнутри этой имманентности ищет следы (или субстрат) «трансцендентного» и затем строит соответствующие символические высказывания. «Погруженность» символического поэта в имманентно данное и означает – если не выпускать из виду базовый ивановский постулат о принципиальной возможности прорыва символического высказывания в высший мир – его установку на символическую референцию архетипического состояния сознания, порожденного нерасчленяемым трансцендентно-имманентным «касанием».
Не случайно на этом фоне и то, что среди глобальных тенденций своего времени Иванов отмечал коренной сдвиг в мироощущении – кризис явления и болезненную смену самого образа мира в нас, как «разложение внутренней формы являющегося», которая «в нас обветшала и омертвела» (3, 369–370), то есть кризис именно того, что здесь предложено называть «состоянием сознания». Символизм, с его точки зрения, – естественное противоядие разразившемуся кризису, только с помощью которого возможно восстановить затемненную или вовсе утерянную референцию к фундирующим всю человеческую культуру архетипическим формам связи имманентного и трансцендентного.
В лингвистическом смысле ивановский «кризис явления» означает, что преобладающие интенции рационалистического сознания, основанного на преимущественной эксплуатации объективирующих сил языка, произвели и закрепили в культуре и сознании систему неадекватных искусственных объективации и имманентной, и трансцендентной сфер, как бы накинув на них неправомерно сплетенную дискретную сеть. Не имеет при этом принципиального значения, как – впрямую или условно – понимается система этих дискретных объективации. Отказавшись от веры в предустановленный состав трансцендентных по природе платоновских идей (а, соответственно, и от веры в их прямое именование языком) и обратив взор исключительно на имманентную субъектную сферу и на «предметный» уровень чувственной реальности, сознание естественно пришло к абсолютной конвенционализации имен языка (и языка вообще), воспринимаемых в таких условиях как сугубо условные значки для установленного «состава» предметного и ментального миров, конвенционально же или неконвенционально при этом понимаемого. Язык все более становится похожим на искусственные, в частности, логические, поручни для «самодвижущейся» субъективности, все более отдаляющейся от полюса «реального». Почти исключительно словесное или семантическое понимание «предметности» и установка на синтаксический аналитизм – и одна из причин, и следствие кризиса явления.
Возврат к естественному «касанию» в языке трансцендентного и имманентного не значит в этих условиях простого возврата к мифу как к определенному содержанию в определенной словесной форме, напротив: символический способ референции в условиях кризиса явления возможен, по Иванову, как мы видели, через преодоление искусственной дискретности «предметов» посредством особого обращения с собственно языковой семантикой. Выше эта «языковая стратегия» ивановского символизма уже была описана как установка на скрещение в предикативном акте полярно противопоставленных в их статике антиномичных семантических зон – скрещение, обнаруживающее возможность взаимообратимости синтаксических позиций этих зон и их способность к осуществлению совместной одновременной референции единого, необъектного и необъективируемого, символического референта.
Уже не раз говорилось, что ивановская символическая референция – это референция не только к необъектному, но и к принципиально языком не объективируемому пласту реальности. Последнее обстоятельство необходимо, однако, уточнить – в связи с тем, что и при «обычной» референции могут мыслиться существующими наряду с объектными и необъектные по своей природной экзистенции, но тем не менее объективируемые языком референты (в простом случае – «процесс» или «действие», поддающиеся языковой объективации и именно с ее помощью референцируемые). Ивановские же символические референты метафизически мыслятся принципиально не поддающимися языковой объективации.
Именование (и все его синтаксические модификации, включая дескрипции) – очевидный и самый востребованный способ референции не только в повседневной речи, но и в позитивистски или рационалистически окрашенных философских концепциях, для которых высказывания в конкретной «посюсторонней» ситуации либо с чувственно данными, либо с ментально-образными явлениями или фактами (расселовскими событиями) являются не просто одним из возможных регистров речи, но базовым, фундирующим все другие регистры речи принципом языка как такового. С ивановской точки зрения, данный принцип, основанный на редуцированном понимании референцирующих форм языка и предполагающий, соответственно, приоритет чувственно-объектного, ментально объективированного или «смешанного» уровней реальности, не должен, да и не может захватывать другие, онтологически более высокие ее уровни. Невинная с виду и как бы чисто языковая экспансия оборачивается и «гносеологическим», и прямо онтологическим диктатом, так как принцип всеподавляющей языковой объективированности – не только очевидное для Иванова пассивное следствие соответствующих философских идей; опасность состоит в том, что он может стать и уже стал активной причиной искусственного искажения форм восприятия и философского толкования не только чувственного и непосредственно мыслимого мира (о чем уже говорилось), но и онтологической природы «высших» уровней реальности. В частности, именно подминающий мысль своей как бы очевидностью диктат принципа всеподавляющей языковой объективации стал одной из причин широкого распространения по большей части абсолютно произвольного дискретного понимания природы референтов «высших» сфер и даже причиной встречающейся сознательно-бессознательной и в любом случае парадоксальной «отливки» в статичные формы самого энергийного онтологического начала, столь активно и чаще всего в пику сущностной онтологии обсуждаемого в философии последних десятилетий.[61]61
Здесь не место углубляться в суть этого вопроса, скажем только, что и в ивановской концепции, и в имяславии (хотя и по-разному – см. ниже) оспаривался как раз тот статический, без аристотелевской динамической прививки, платонизм с его статуарными сущностями, в котором обе эти концепции, как концепции символические, неправомерно, на наш взгляд, обвиняются, в том числе и в теориях расселовского типа.
[Закрыть]
Следует, возможно, специально оговорить также и то, что и для Иванова процесс языковой объективации того, что будет помещено в позицию субъекта суждения, – это константа языка, которую нельзя ни преодолеть, ни обойти, но которую можно использовать по-своему. Эта языковая константа понималась им (примерно по той же логике, что и поверхностная событийная канва речи – см. выше) как сугубо «техническое» требование, идущее от имманентной природы языка и потому никак не связанное, особенно – в случае символических референтов, с их онтологической природой. Да, в определенном смысле объективирует и сам изолированный ивановский символ, взятый в форме, например, имени существительного, но «объективирует», минуя «фикцию буквальных реалий слова», предикат, а не сам референт, а, следовательно, ни в каком смысле не именует и, соответственно, не референцирует. Объективирующая и референцирующая предмет сообщения языковая константа трансформировалась в ивановской теории в объективацию предиката, которая ни сам этот предикат, ни предмет не именует и не референцирует.
Во всем сказанном не совсем отчетливо, но все же проступают очертания конвенционального понимания языка, действительно, в определенном смысле свойственного Иванову. Однако, если это и конвенциональность, то конвенциональность особого рода.
Выше мы видели, что тезис о необъектности и необъективируемости символических референтов, для выражения которых неизбежно тем не менее использование, хотя и в особых формах, константных объективирующих потенций языка, сопряжен у Иванова с введением в онтологию референтов («состояний сознания») имманентного модуса восприятия. Следовательно, за этим тезисом стоит не жестко конвенционализирующий язык абсолютный философский дуализм, а монистически окрашенная идея сглаживания в недрах «трансцендентно-имманентной» природы символических референтов «субъект-объектной пропасти».
Понимание субъекта и объекта как «сделанных из одного куска» роднит Иванова, с одной стороны, с известными версиями феноменологии, с другой – с соответствующими религиозно-мистическими традициями. Известно, что идея субъект-объектного сближения порождает в феноменологии своего рода онтологизацию самого языка (Хайдеггер), инициируя введение языковых структур внутрь самой реальности на ее экзистенциальном уровне. А это уже абсолютно иной процесс, нежели описанная выше искажающая объективация или искусственная «дискретизация» реальности под влиянием некритически воспринимаемых и бессознательно онтологизируемых объективирующих потенций языка. Здесь внутрь экзистенциальной реальности «вмонтируются» другие силы языка – его семантические и синтаксические «механизмы».
Иванов мыслил в аналогичном направлении. Не укореняя язык, как мы видели в предыдущем разделе, в абсолютно трансцендентной онтологии, он сроднил язык и символические референты в трансцендентно-имманентной сфере, усматривая основу этой общности в по-особому понимаемых им предикативном акте и принципе семантической контрастности. Насколько и как миф и символические фигуры в целом укоренены в предикативных и семантических процессах языка, настолько и так сам язык сближен с трансцендентно-имманентной природой символических референтов. Насколько и как символические фигуры отдаляются от других сил языка (в частности, от прямого перенесения объективирующей потенции языка на понимание самого референта), настолько и так язык дистанцирован от символических референтов, которые в принципе не поддаются объективации (напомним, что Иванов с того и начал, что принципиально растождествил символ, неизбежно помещаемый в константную языковую позицию субъекта, и имя, самолично, по определению, осуществляющее референцию, то есть ввел презумпцию необъектности и необъективируемости символических референтов). Язык, таким образом, оборачивается у Иванова двуликим Янусом – но именно таково было исходное «задание» символизма: дезавуировать значимость буквального смысла речи, но не разлучить ее при этом с «высшей правдой».
Уточняются в связи с идеей исчезновения субъект-объектной пропасти и отличия ивановской позиции от имяславия, если учитывать в последнем его мистическую составляющую (имевшуюся и у Иванова). Имяславие исходило в своей языковой стратегии не из объектного и не из необъектного или «смешанного», а из субъектно-личностного уровня реальности в его религиозном понимании. На этом уровне феноменологическая по происхождению идея субъект-объектного срастания (а имяславие, наиболее отчетливо – в лице Лосева, включало в свои интеллектуальные процедуры феноменологическую технику) претерпевает, естественно, существенные модификации. На место субъект-объектного сближения в имяславии выдвигается сближение субъект-субъектное (мистическая составляющая), то есть сближение трансцендентной Личности с имманентным (человеческим) личностным уровнем. Акцентирование имяславием в этом процессе сближения именно языкового аспекта подчеркивает не субстанциально-сущностное взаиморастворение этих субъектных зон, но их коммуникативное (энергийное – см. сноску 19) схождение «лицом к лицу» на территории «низшего» субъекта. Своего рода местом или топосом такого схождения и мыслится в имяславии, как мы видели в первом разделе, язык (референты межличностного общения «располагаются» при таком понимании как бы внутри самого этого общения). Иванов же, также предполагавший и схождение субъектов разных онтологических уровней, и возможность диалога между ними (жизнь как «роман с Богом»), не вводил тем не менее в общий межличностный топос этого схождения язык в его лексической ипостаси.
В имяславии исток, своего рода «первотолчок» языка мыслился в абсолютно трансцендентной области (ср. отчетливую в этом смысле булгаковскую идею о наличии «трансцендентного» субъекта языка), а отсюда и само слово понималось как естественная коммуникативная объективация трансцендентного в человеческом сознании. Слова здесь и есть сами платоновские идеи, которые предицируются в человеческое сознание трансцендентным субъектом языка (все это, кстати, весьма далеко от какого бы то ни было статично-сущностного понимания платоновских идей). По Иванову же, приятие человеком действия трансцендентных сил происходит без, вернее – до языка, появляющегося не в самом дионисийском экстазе, а только в его нисходящей аполлонийской обработке.
В этом отношении чрезвычайно показателен один из редких эксплицированных моментов ивановских разногласий с Флоренским: высказываясь в личном письме к Флоренскому от 4 июня 1915 г. об одной из работ последнего, связанной в том числе и с пониманием природы экстаза, Иванов с отчетливой оппонирующей ноткой говорит, как бы между прочим, что аполлонийского (то есть, в нашем контексте, «основанного на языке», связанного с ним) экстаза вовсе не существует, что все экстатическое заимствовано из дионисийской сферы. В имяславии же формы общения с трансцендентным непосредственно связывались с языком, с его прежде всего именующей силой.[62]62
См., в частности, булгаковское положение, неслучайно, конечно, высказанное в статье, посвященной Иванову, о наличии «глубокой грани» между природно-мистическим безыменным оргиазмом и религиозным экстазом, ведающим имя (Сны Геи. С. 99).
[Закрыть] Не сосредоточение на слове порождает, по Иванову, экстаз, но экстаз – при нисхождении – порождает слово.
Можно привести еще одно, связанное с этим же кругом вопросов, но, правда, не эксплицировавшееся Ивановым специально и потому гипотетически реконструируемое нами принципиальное отличие его позиции от позиции Флоренского: в ивановской символической фигуре мыслится, как мы видели выше, одновременная субъект-предикативная двунаправленность взгляда на референт, Флоренский же говорил о приращении референцируемого смысла за счет принципа панорамного «вращения» одной фиксированной и временно статичной (в имени или термине) точки зрения. Ивановская двунаправленность взгляда появляется при этом опять-таки лишь на этапе нисхождения, Флоренский же имел в виду словесное приращение смысла за счет вращения точки зрения, достигнутой в том числе и на вершине мистического экстаза. Согласно Флоренскому, как в закрепленном словесном термине, так и при восхождении на вершину «путник, достигший высшей точки своего пути, заменяет продвижение – вращением», «созерцанием с самой вершины».[63]63
Флоренский П. А. У водоразделов мысли. С. 205.
[Закрыть]
Интересно, что при взгляде «со стороны» в имяславской и ивановской позициях имеется некий параллельный, но противоположный по смыслу, внутренний дисбаланс. Так, Иванов, с одной стороны, одним из первых, как известно, утверждал принцип диалогического отношения к «другому» (сюда относятся все его многочисленные вариации на тему «Ты еси»), но, с другой стороны, Иванов предполагал наличие единственной адекватной языковой формы даже в символических фигурах речи, говоря, в частности, что гениальное стихотворение и даже гениальное умозрение заложены в языке (4, 677). Иными словами, Иванов, выстроивший все здание своего разветвленного миросозерцания на принципе «Ты еси», не счел тем не менее нужным внести этот принцип в язык и не принимал в расчет языковые модификации, неизбежно привносимые в речь ее коммуникативными аспектами, в том числе пестуемыми им взаимоотношениями «я» и «ты» и вообще всем тем, что в современной лингвистике называется прагматикой (выше мы видели, в частности, что Иванов как бы искусственно «прагматизировал» свою поэзию, вводя в нее разного рода диалоги – аналогично принципу чисто языковой «событизации» референта мифа).
В имяславии же, с одной стороны, утверждается «неизменность» получаемого свыше Имени в его собственно «человеческом» пользовании (а «свойства» божественного Имени подобосущи, согласно имяславию, в каждом вспыхивающем в сознании слове-идее), с другой стороны, акцентируются именно коммуникативный и прагматический аспекты языка, предполагающие активные изменения языковой формы в зависимости от происходящих сдвигов в коммуникативных и прагматических координатах речи. Эта достаточно неожиданная «прагматическая составляющая» имяславия, наиболее последовательно проявившаяся у Булгакова, целенаправленно вводившего в речь принцип ее распадения по местоименным ролям (разрабатывавшего, в частности, идею о «я» говорящего как о неотмысливаемой предпосылке речи – ФиБ, 53), существенно опередила по времени формирование в лингвистике специально «прагматики», как и ивановские идеи в области предикативно-фигурной «не именующей» семантики опередили формирование и «синтактических» (по терминологии Ю. С. Степанова) версий языка, и теорию метафоры как семантического взаимодействия, в том числе между субъектом и предикатом, с ее возрождающими интерес к символизму идеями отклоняющейся предикации и расщепленной референции.