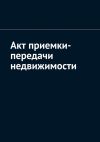Текст книги "Непрямое говорение"

Автор книги: Людмила Гоготишвили
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Вывод этот явно был адресован Иванову (недаром упомянутому в начале развития темы), у которого в позицию субъекта мифологического суждения настойчиво помещается, как мы видели, не только не «собственное» имя, но вообще – не имя, а символ. Одна из фундаментальных для концепции Иванова причин «неименного» заполнения субъектной позиции мифологического суждения уже называлась выше. Если имя самолично осуществляет референцию к своему «предмету», то изолированный, взятый вне мифа символ реальной референцирующей силой, по Иванову, не обладает. Осуществляет же особую неименную референцию символического типа миф, причем только своим целостным составом: «одновременное» (а не поэтапное, как в имяславии) выполнение субъектом и предикатом мифа их равно референцирующей функции является условием реального и полного осуществления этой функции. Имеются, конечно, и другие, также фундаментальные, причины отказа помещать в субъектную позицию мифа имя, например, особое понимание Ивановым категории «события» в качестве референта символического мифологического суждения (это понимание, в частности, не предполагает в таком референте наличия «объекта», способного поддаться именованию, но об особом отношении Иванова к событию ниже будет говориться специально). Однако и без перечня такого рода причин уже достаточно очевидно, что требование к ивановской концепции (так и не признавшей возведение символа в как бы верховный сан имени) сменить символ на его «законном», с точки зрения этой концепции, месте именем невыполнимо, ибо «иноконцептуально».
Тем интереснее оказывается то обстоятельство, что несговорчивый Иванов однажды уступил этому булгаковскому требованию. Этим единственным, насколько удалось выяснить, местом, где Иванов как бы послушался Булгакова, является определение мифа, данное в «Дионисе и прадионисийстве»: «Пра-миф высказывает – и исчерпывает – древнейшее узрение в форме синтетического суждения, где подлежащим служит имя божества» или анимистически оживленной и воспринимаемой как даймон конкретности чувственного мира, «сказуемым же глагол, изображающий действие или состояние, этому божеству приписанное».[21]21
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 269.
[Закрыть]
Это послушание Иванова Булгакову имеет, однако, двойное дно. Прежде всего, имелись внешние самому этому спору причины постановки имени в позицию субъекта – таковы были терминологические декорации, принятые в данном тексте, где Иванов использует понятие символа преимущественно для обозначения «непосредственной», как он говорит, «символики» дионисийского культа, то есть использует это понятие, в отличие от своего обыкновения, не в связанном с языком (см. сноску 13), а в нейтрально-распространенном, зримо-вещественном и чувственном, смысле (говорится, например, о символике плюща и тирса).
Интереснее, конечно, разгадать внутренний смысл этого уступчивого ивановского словоупотребления. Здесь также важен контекст всего ивановского исследования в целом. Уступка Булгакову совершается здесь на таком фоне, который может ее практически дезавуировать. Одна из ключевых тем книги – долгий поиск облика и имени бога, поиск, который продолжался и тогда, когда не только связанные с этим неведомым богом обряды уже имели действенную силу, но и соответствующие словесные мифы уже сложились и тоже «действовали», то есть осуществляли референцию. Но к чему или к кому?
Все «иноименные Дионисы» – не что иное в этих пра-мифах, как именно символы «вызываемых неведомых духов», то есть и здесь на месте подлежащего у Иванова мыслятся символы, а не имена, тем более собственные. Чем же иным, кроме символов, могут в ивановской концепции быть временные имена богов? Эти «иноимена», так же, как это происходит, по Иванову, и в открыто «неименных» мифах, не осуществляли в своей отдельности реальной референции; пра-миф имел полную референцирующую действенность только как словесное целое: символ-«иноимя» вкупе с глагольным предикатом.
Чем же тогда было, по Иванову, найденное наконец имя «Дионис»? Это было именем в аналитическом лингвистическом смысле, но все таким же символом с точки зрения референции. Имя Дионис описывается Ивановым как обретенное аналитически-лингвистическим путем: как только идея бога экстатических радений соединилась с идеей его сыновства по отношению к верховному богу, так сразу же и укрепилось имя Дионис, внутреннюю форму которого Иванов склонялся толковать как «сын Зевса» (так ли это на самом деле – для нас здесь несущественно, нам важна лишь соответствующая интенция ивановской мысли). Такое объяснение появления имени Дионис может естественно «жить» только в аналитически-лингвистическом и рациональном контексте, то есть в той области бытования языка, которую Иванов называл логической речью с аналитическими суждениями (в отличие от мифологической – см. сноску 10) и в которой признавал действенность собственно языковых – лексических и синтаксических – закономерностей, в том числе и процесс взаимообратимости слова (и имени как тоже по природе слова) с предложением. Ведь именно так и толкует здесь Иванов момент нахождения истинного имени Дионис (свертывание мини-суждения «сын Зевса» в одно имяслово).
Но как только имя Дионис переносится в «живой», осуществляющий действительную референцию миф, оно сразу же теряет, по Иванову, свое аналитически-содержательное, рационально воспринимаемое и тем более конкретно-чувственное или образное значение. Дионис превращается здесь в чистое КАК, без всяких ЧТО или КТО, то есть это имя трансформируется в символ определенного религиозного состояния. «Существо религиозной идеи Диониса» не сводимо, по устойчивому утверждению Иванова, «ни на какое определенное „что“, но изначала было и навсегда осталось определенным „как“».[22]22
Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Эсхил. Трагедии. М., 1989. С. 319. О понятии «состояния» в связи с оригинальной ивановской концепцией референции и о значении в ней модусного понятия «как» будет подробно говориться ниже.
[Закрыть] Иванова не раз упрекали за подобного рода высказывания в религиозной уклончивости (это совершенно иной, нежели здесь, тип содержательного анализа его концепции), но зато в интересующем нас лингвофилософском контексте подобные высказывания, напротив, «неуклонно», как мы видим, поддерживают стратегический курс ивановского символизма.
В «Дионисе и прадионисийстве», написанном уже по зрелым впечатлениям об имяславии, можно выделить два важных в этом смысле момента. Здесь, как ни в одном другом ивановском тексте, безусловно, отдана дань и культурно-исторической, и религиозной весомости проблемы имени как такового, что, несомненно, было сделано под влиянием имяславия (в частности, общения с Флоренским, с которым они обменялись в разное время и не «в лицо» эпитетом «гений»). Но с другой стороны, здесь же Иванов провел отчетливую грань между именем и мифом, а значит и символом: связующее два мира касание выражает (то есть референцирует это касание) только символическая сила целого мифа; имя, как лексико-семантическая языковая единица, способная к изолированной и объективирующей референции, может войти в такой миф и занять в нем позицию субъекта, только преобразовавшись в символ.[23]23
Нет, вероятно, необходимости уточнять здесь то обстоятельство, что ивановская символическая теория референции относилась им преимущественно к дооткровенным религиям; непростой вопрос о понимании Ивановым имен Бога в «откровенных» религиях частично будет затронут нами в конце статьи.
[Закрыть] Что же касается разовой уступки Иванова булгаковскому требованию, то в 1922 году (то есть после написания «Диониса и прадионисийства») в рецензии, с обсуждения которой была начата данная статья, Иванов вновь без всяких оговорок воспроизвел в авторских примечаниях к тексту свое исходное определение мифа как синтетического суждения с символом в позиции подлежащего (4, 784). Напомним, что именно в этой статье содержится и самое открытое, на наш взгляд, по дискуссионной напряженности ивановское упоминание имяславия, в подтексте которого между именем и символом, в принципе нацеленными, по Иванову, на выполнение единой (референцирующей) функции, проведена «заповедная» черта, разделяющая именующий (объективирующий) и неименующий (символический) типы референции. Ивановский символизм и имяславие близки в том смысле, что по своему «лингвистическому пафосу» они являлись апологией референции, причем в обеих концепциях референция понималась в ее модифицированно-расширенном, вбирающем в себя предикативность смысле (в то время, как большинство вновь формировавшихся тогда концепций были нацелены на саму предикативность или прагматику и склонялись к почти полной дискредитации имен из-за, по большей части, маячивших за ними и нуждающихся, с этой точки зрения, в ниспровержении «метафизических сущностей», а – в перспективе – и к дискредитации референции в целом, то есть двигались по направлению к абсолютной конвенциональности). Разногласия же Иванова с имяславием сводились в принципе к тому, что он не принимал идею отождествления символизма с именованием, как угодно высоко толкуемым, и ограничивал безгранично понимаемую в имяславии силу имен, обосновывая возможность, наряду с никак им не отменяемым именованием, особого, отделенного от него (как, кстати, и от других выделяемых в лингвистике способов референции – дескрипций, местоимений и др.), символически-мифологического способа референции.
Итак, ивановский символ – принципиально не имя,[24]24
Что, конечно, никак не мешало «языкославцу» Иванову ценить и даже «любить», как это справедливо и отмечается в литературе, языковые имена (см. например, насыщенное интересными идеями и сопоставлениями предисловие А. Е. Барзаха «Материя смысла» к кн.: Иванов Вячеслав. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 1. СПб., 1995. С. 5–8 и др.). Эта «любовь» к именам не делает, однако, Иванова «имяславцем» в терминологическом смысле слова; речь в ивановском символизме, подчеркнем это еще раз, идет об особых – не именующих – и лингвистически еще не отрефлектированных референцирующих потенциях языка.
[Закрыть] но это только «половинка» лингвистического смысла проблемы символа. И в истории становления ивановского типа символизма, и в сложившейся традиции его понимания есть еще одна остающаяся «темной» сторона. Имеется в виду достаточно загадочная история с толкованием ивановского символа как метафоры. Особую роль в этой загадочной истории сыграл А. Белый.
Сам Белый определенно и недвусмысленно высказывал свое понимание символа как словесной метафоры,[25]25
См., в частности, его программную статью «Магия слов»; цит. по: Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 141.
[Закрыть] что в принципе соответствует одной из самых устойчивых и до сих пор обрабатываемых традиций толкования символа. Загадочный же момент состоит при этом в том, что Белый многократно и без тени сомнения возводил это свое понимание именно к Иванову – как к своего рода создателю и «обоснователю» обновленной и пленившей его модификации самой идеи толкования символа как метафоры. А это, на наш взгляд, достаточно спорно – аналогично тому, как спорным оказалось и распространенное мнение об отождествлении ивановского символа с именем. Все это тем более интересно, что символ, действительно, в определенном смысле «помещался» Ивановым между именем и метафорой. Стремление отождествить символ с одним из этих «соседей» имеет своей пресуппозицией отрицание (или во всяком случае – сомнение) наличия у символа и связанного с ним мифа статуса собственно языкового явления, обладающего в том числе и самостоятельной референцирующей силой. В ивановской же концепции такого рода сомнений и колебаний, с нашей точки зрения, нет.
Взглянем на фактическую сторону ситуации. Постоянно споря с Ивановым, порой яростно, по многоразличным другим вопросам, Белый даже в 1928 году, потерявший уже не только всякую связь с Ивановым, но, видимо, и интерес к ней, издавший уже не только статью «Вячеслав Иванов», но и ее ужесточенно переработанный вариант «Сирин ученого варварства»,[26]26
В этом варианте 1922 года (то есть, вероятно, еще во время пребывания Иванова в Баку) Белый, в частности, писал: «Издалека-далека, в громы „мифов“, овеявших нас, долетает его (Иванова. – Л. Г) недовольный, брюзжащий, ненужный голос», и кончает статью так: «Пожалеем его.» – см.: Белый А. Сирин ученого варварства (по поводу книги В. Иванова «Родное и вселенское»). Берлин, 1922. С. 22, 24.
[Закрыть] тем не менее настойчиво и по-своему благодарно утверждает (в итоговой работе «Почему я стал символистом…») в качестве твердой и неизменной константы своей памяти, что понимание символа как языковой метафоры «заимствовано» им «из заявлений Вячеслава Иванова» и что именно этот тезис является одним из углублений лингвистической базы символизма.[27]27
Цит. по: «Символизм как миропонимание…». С. 446.
[Закрыть]
Загадка состоит в том, что в текстах Иванова невозможно отыскать прямых утверждений о тождестве символа с метафорой. Конечно, такого рода утверждения (и возможно в достаточно сильной форме, особенно в начале 1890-х годов – ведь нечто аналогичное писал о метафоре, хотя и с несколько другим знаком, Ницше) скорее всего действительно высказывались Ивановым в многочисленных устных обсуждениях темы, но и при таком уточнении мы не можем игнорировать смысловую волю Иванова, так и не переведшего эту, возможно, словесно и опробовавшуюся им идею, непосредственно в свои тексты (вероятно, в связи с все той же стратегией неупоминания).
А между тем вопрос столь же принципиален, как и в случае с именем. Естественно, любая ассоциация символа с метафорой предполагает именно и только языковой аспект символического мировоззрения и именно и только словесную выраженность символа, а Иванов в интересующих нас контекстах, действительно, акцентировал, как мы видели, языковую сторону универсальной проблемы символа. Что же могло значить, в так акцентированных координатах, возможное ивановское понимание символа как метафоры? Это должно было бы означать, что словесный символ всегда по своей языковой структуре обязательно есть метафора (в метафизической перспективе это ведет к включению в число константных постулатов символизма того глобального тезиса, что любые, в том числе и несловесные по природе, символы, воплощаясь в языке, обязательно принимают вид метафор; ср. аналогичный по логике образования, но противоположный по смыслу фундаментальный имяславский тезис о воплощении всего символического в языке в виде имен).
Что, однако, представляет собой метафора? Теории метафоры до сих пор лишь множатся, будучи весьма далеки от унификации. В «Магии слов» сам Белый понимал языковое тождество символа-метафоры как «соединение двух предметов в одном – новом, третьем».[28]28
Там же. С. 141.
[Закрыть] Эта метафора-символ затем получает самостоятельное бытие, оживает и действует, как, например, белый рог месяца, который становится «белым рогом некоего мифического существа». Так символ, по Белому, становится мифом. Конечно, продолжает Белый, я не утверждаю прямого существования мифического животного, «но в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением которой является метафорический образ, мною созданный» (там же).
Интересно, что и эту константу своего собственного символического мировоззрения (идею взаимосвязи символа-метафоры с мифом) Белый непосредственно возводил к Иванову. В устах Белого этот тезис звучит в работе «Почему я стал символистом…» как «единство восстания языковой метафоры и мифа, где миф есть религиозное содержание языковой формы, а эта последняя есть реализация мифа в языке (спайка с В. Ивановым)».[29]29
Там же. С. 447.
[Закрыть]
Казалось бы, сходства с ивановским пониманием мифа очевидны. Идеи Иванова и Белого, действительно, развивались параллельно, но тем не менее что-то содержательно существенное мешало им сойтись и реально сблизиться друг с другом. У Белого язык как бы первичен по отношению к символу и мифу, которые фактически мыслятся порожденными за счет аналитических сил языка. Иванов же, всегда пестовавший в языке синтетические силы, всегда же «подозревал» Белого в излишней до неправомерности тяге к аналитизму: «…нельзя не видеть, – пишет Иванов в той же рецензии на новейшие разыскания в области стиха, в которой его внимание среди прочего привлекли и внутренние причины особого интереса Белого к противопоставлению Тютчева и Пушкина, – что Андрей Белый, выставляя образцом Пушкина (для каких только целей не кричали нам: „назад к Пушкину“[30]30
Напомним, что именно здесь Иванов назвал Пушкина «имяславцем».
[Закрыть]), ищет как бы обнажить иррациональные корни поэзии, исторгнуть их из обители Матери-земли на солнечный свет логического сознания, проникнув их «логосом» (или логикой?[31]31
Сам Белый признавал в 1928 году в работе «Почему я стал символистом…» (цит. по: Символизм как миропонимание…), что в его «Эмблематике смысла» – программной работе 1910 года, в которой мыслилось «хоть собрать кое-что из идеологических лозунгов в связном виде» и в которой «ответственнейшие места испорчены невнятицей только спешного изложения, а не невнятицей мысли» (с. 449), установка была именно «аналитической» (с. 460); осознанный же затем недостаток аналитизма – его «статика» – мыслился Белым поддающимся преодолению посредством подключения динамического начала диалектики (там же).
[Закрыть]), укротить дионисийские энергии музыкально экстатического прорыва за грань, обуздать в слове первородный грех (не чадородную ли силу?) «козловидного Пана»» (4, 638). Не случайно, по-видимому, что и самое насыщенное по просматриваемому архетипическому дисбалансу ивановское упоминание имяславия появилось именно в этой, спорящей с Белым, статье: при всем очевидном различии позиций имяславцев и Белого у них была для Иванова некая общая, оспариваемая им черта – расширение сферы компетенции в общем-то традиционных языковых процессов (будь то именование или семантический аналитизм) за некую границу, мыслимую самим Ивановым как «заповедная» для этих процессов и «поддающаяся» лишь особым, нетрадиционно понимаемым, силам языка.
О сущностном различии, а не близости позиций Иванова и Белого в этом вопросе свидетельствуют, на наш взгляд, и практически все имеющиеся в ивановских текстах, хотя чаще всего косвенные и, как всегда, несколько завуалированные, высказывания о метафоре в ее связи с символом (во многих из которых, кстати, критически упоминается позиция Белого – см., например, 4, 636–637; 4, 164–165). Наиболее выразительным в этом смысле является, вероятно, высказывание в «Мыслях о символизме»: «Но если символизм не умер, то как он вырос!.. Еще недавно за символизм принимали многие прием поэтической изобразительности, родственный импрессионизму, формально же могущий быть занесенным в отдел стилистики о тропах и фигурах. После определения метафоры (мне кажется, что я читаю какой-то вполне осуществимый, хотя и не осуществленный, модный учебник теории словесности), – под параграфом о метафоре воображается мне примечание для школьников: „Если метафора заключается не в одном определенном речении, но развита в целое стихотворение, то такое стихотворение принято называть символическим“».[32]32
Чтобы закрепить слегка завуалированное здесь, но тем не менее очевидно отрицательное, отношение Иванова к сближению символа с метафорой, продолжим цитату: «Далеко ушли мы и от символизма поэтических ребусов, того литературного приема (опять-таки лишь приема!), что состоял в искусстве вызвать ряд представлений, способных возбудить ассоциации, совокупность которых заставляет угадать и с особенною силою воспринять предмет или переживание, преднамеренно умолченные, не выраженные прямым обозначением, но долженствующие быть отгаданными…» (2, 611).
[Закрыть]
Предварительно можно следующим образом наметить причины так и не состоявшегося пересечения на первый взгляд сходным образом развивавшихся идей Иванова и Белого о символе и метафоре. Аналитической установке Белого Иванов почти везде противопоставлял синтетическую идею (напомним, что в число четырех константных моментов в ивановском определении мифа входит и всегда сопутствующая этому определению на том или ином текстовом расстоянии критика чистого или приоритетно понимаемого аналитизма). Отождествленный с метафорой символ Белого уже на внешнем уровне принципиально многосоставен, как и всякая языковая метафора, ивановский символ – чаще всего на внешнем уровне лексически односоставен, хотя, как ниже мы убедимся, и ивановский символ имеет в своих глубинных пластах многокомпонентную структуру (так и не совпавшую, однако, с компонентами метафоры). С другой стороны, символ-метафора Белого самолично осуществляет референцию к некоему объективируемому «третьему», к которому затем добавляются мифологические предикаты разной смысловой наполненности (например, олицетворяющие предикаты); ивановский же символ, несмотря на свое тяготение к лексическому полюсу и даже как бы «вопреки» ему, не обладает способностью к самостоятельной, вне мифа осуществляемой, референции. В целом, позиция Белого (новатора и модерниста, по всеобщей оценке) более традиционна как в понимании субъекта (а значит и референции), так и в понимании предиката суждения. Действительный же «консерватор» Иванов стремился (как мы увидим ниже при попытке лингвистической интерпретации его идей) по-новому проблематизировать, или, во всяком случае, «расшатать», традиционное понимание и способов референции, и самого предикативного акта. Непосредственно лингвистическая интерпретация обновленного ивановского понимания референцирующих и предицирующих механизмов языка, к которой мы и переходим, позволяет точнее понять и конкретно языковые, и – в перспективе – метафизические причины ивановского отказа отождествлять символ как с именем в его имяславском понимании, так и с метафорой.
2. Между субъектом и предикатом (лингвистический аспект)
До сих пор мы пользовались понятиями «предикация» и «референция» без всяких дополнительных уточнений, несмотря на то, что отсутствие таковых на фоне явной акцентировки обоих терминов при обсуждении проблемы символа, несомненно, создавало в тексте ощутимое смысловое напряжение. Действительно, в обобщенно-нейтральном употреблении эти термины обычно обслуживают четко противопоставленные смысловые пространства. Лингвисты говорят, что в предложении производится, во-первых, референция к определенному денотату (или, что то же, референту), которая осуществляется посредством синтаксической позиции субъекта; и, во вторых, – предикация к этому денотату, осуществляемая посредством соответствующей предикативной синтаксической позиции. Только соединение этих принципиально разных по смыслу функций и порождает, с этой точки зрения, само предложение как реальную единицу речи и мышления. У нас же противопоставление референции и предикации часто оказывалось «смазанным». Но «оказывалось» оно таковым преднамеренно – по той причине, что переосмысление, более того, своего рода «сглаживание» предполагаемого в лингвистике принципиального функционально-смыслового противопоставления референции и предикации, отвечает, на наш взгляд, главной тенденции ивановской мысли, что и станет основной темой предлагаемой ниже уже собственно лингвистической интерпретации ивановского типа символизма.
Второй – непосредственно связанной с первой и тоже прямо касающейся проблемы символа – парой терминов, отношения между которыми сознательно обострялись в настоящем тексте, являются «референция» и «именование». Собственно, статья достигнет своей цели, если удастся – хотя бы предварительно – лингвистически связать все эти традиционно иначе соотносимые категории таким образом, чтобы отразить тем самым специфику ивановской позиции.
Если, как это утверждалось в первой части статьи, в изолированно взятом символе-субъекте мифологического синтетического суждения нет, по Иванову, именующей силы по отношению к референту мифа как целого, то есть ли вообще между ними какая-либо «привязка»? По всей видимости, да. Отрицая непосредственную объективацию символического референта (денотата) в символе-субъекте суждения и, следовательно, возможность его именовать, но, с другой стороны, используя как неименующий символ «чужое» имя (ведь всякий словесный символ ивановского типа является буквальным именем другого денотата), Иванов тем самым, действительно, ослаблял в этом «чужом» имени его объективирующую и референцирующую силу, но, как следствие, он неизбежно активизировал при этом символическую силу потенциальных предикатов этого «чужого» имени. Можно, следовательно, полагать, что ивановский символ – это не «чужое» имя (не «метонимия», ведь «собственное» имя, которое можно было бы метонимически заменить, в данном случае отсутствует) и не имя вообще, а совокупность плавающих, снятых с объективированных «гнезд» предикатов. Именно предикат (или предикаты) без объективирующей гнездовой привязки фиксируется таким изолированным символом. А так как в ивановском мифе (то есть уже не изолированно) символ берется в именной языковой форме, он этой формой одновременно, во-первых, объективирует предикаты (что, конечно, может быть только псевдообъективацией – объективацией без всякой контурной или предметной образности, то есть чисто семантической объективацией) и, во-вторых, снимает реально существовавший, семантически-буквальный (иногда – прямо чувственный) образ, стоявший за «чужим» именем в его непосредственном прямом употреблении. Следует, видимо, полагать, что по «свернутому» (имманентизированному) в нем языковому механизму ивановский символ – это безобразная объективация предиката. Все это пока напоминает содержательно холостую логическую игру. Чтобы данная нами абстрактная лингвосемантическая формулировка действительно «заговорила», необходимо насытить все ее компоненты реальным языковым смыслом.
Что, например, можно мыслить за «плавающим предикатом без образного гнезда»? Среди разнообразных ивановских обоснований выбора того или иного символа есть и такое прозрачное: «Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тайное Розой…» Здесь идея выбора символа именно по предикату дана почти в схематическом виде, но что это за предикат? Чей он? Что уподобляется чему по предикату «нежный»: тайное – розе или роза – тайному? Скорее – последнее, ибо чувственное, согласно постулатам символизма, есть символ «идеи», а не «идея» – символ чувственного. Следовательно, лежащий в основе уподобления предикат первоначально «принадлежит» тайному. Однако, в случае ивановского символа вообще нельзя говорить об уподоблении в обычном смысле речевых тропов, ибо здесь лингвистически отсутствует один из членов уподобления – первоначальный «хозяин» обобществленного предиката, причем отсутствует не только его имя, но и его образ. Предикат «нежный» сам по себе образа нам не дает; это предикат, так сказать, второго порядка, рожденный от факта восприятия, а не сам таковым являющийся. Ср. искусственное: Тайна, о братья, красна: знаменуйте же Тайное Розой. Здесь бы мы имели намек на чувственно-образное и тем хотя бы минимально объективированное явление «тайного», а значит, могли бы применять и операцию уподобления в её традиционном понимании.
Строго говоря, относительно изолированно рассматриваемого (не изнутри мифологического суждения) ивановского словесного символа невозможно даже однозначно определить вектор направленности уподобления по предикату: от тайного к розе или обратно. Смысл уподобления здесь урезан; оно редуцировано до более «простой» идеи отождествления[33]33
Идея отождествления – не по сущности или субстанции, а по предикату – может быть при желании «вычитана» в ивановских рассуждениях о стихотворении Тютчева на смерть Гете (4, 165).
[Закрыть] неких общих предикатов второго порядка. Предикатов, как и утверждалось, без гнездовой, сколько-нибудь отчетливой привязки: ни «тайное» (референт символа) не предоставляет здесь возможности образной или хотя бы объективирующей фиксации плавающего предиката второго порядка, ни роза – ведь чувственная образность, стоящая за этим словом, относится не к его символическому смыслу, а к его преодолеваемому символизмом буквальному, именующему значению.
Вторичный характер несомого символом предиката не означает, в координатах ивановского реалистического символизма, его субъективности. Здесь имеется в виду особая по типу трансформация в «ином» (в имманентном) неких объективных моментов символического (трансцендентного) референта. Так же несубъективна в этом предикате и имманентная трансформация объективных моментов розы, ведь предикат «нежность» по отношению к розе может пониматься в далевой перспективе как основанный на «тактильной» образности. Об особом ивановском понимании образности и трансцендентно-имманентной природы символических референтов ниже еще будет говориться специально.
На выбор розы в качестве искомого символа влияет в ивановском символизме в том числе и эта далевая тактильная образность предиката «нежный» по отношению к розе. В самом деле, почему было бы «просто» не предложить «братьям» воспользоваться предоставляемой языком возможностью и не осуществить символизацию «тайного» посредством объективации, здесь – субстантивации, самого предиката, то есть почему не: Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тайное нежностью! Метафизическая причина очевидна: ознаменование символического референта через чувственно данное явление относится к постулатам ивановского типа символизма. Роза, с ее далевой тактильной образностью, и берется здесь как чувственная символизация нежности. Подчеркнем: не как чувственная символизация самого символического референта, а как символизация именно и только его предиката. Референт в изолированном символе знаменуется только «чуть-чуть», только косвенно, по имманентной, то есть в определенном смысле – вторичной, предикативной касательной.
Имеет ли этот метафизический план ивановского символизма отражение в его языковой стратегии? Если, как мы утверждаем – да, то, следовательно, возможно сформулировать и собственно языковую причину ивановского отказа использовать в качестве символа «простую» субстантивацию предиката. В лингвистическом контексте причина отказа заключается в том, что непосредственная субстантивация предиката уводила бы в другую сторону от ознаменовательного ивановского символизма, так как субстантивация и по синтаксической, и по семантической функции приближена к именованию – если не сразу самого референта, то его предиката, а через него в определенном смысле и референта. И в имяславии, действительно, как раз и мыслится нечто аналогичное: предикат первичного именовательного суждения (субъектом которого, как мы помним, служит местоимение) оказывается в конечном счете именем предполагаемого данным суждением референта. По Иванову же, в такой субстантивирующей языковой «тактике» излишне сокращается принципиальное – ив языковом, и в метафизическом смысле – расстояние между символическим референтом и словом (здесь, собственно говоря, мы лишь перевели в лингвистическую транскрипцию тот уже сделанный выше вывод, что Иванов, напомним, оспаривал в имяславии в том числе и его тенденцию к сращению мистического опыта, то есть символического референта, с языком).
На первый взгляд, предложенная нами «предикативная» интерпретация ивановского символа, предполагающая снижение роли «буквального» чувственного образа, стоящего за использованным в символических целях словом, вступает в резкое противоречие с распространенной и даже господствующей точкой зрения, выдвигающей чувственное (а значит – образное и объективированное) восприятие символа на первый план. Известно, что аналогичные моменты в понимании символа можно найти не только в имяславии (в частности, у Флоренского), но и у Иванова. Однако, при некоторой смене смыслового ракурса противоречие «самоснимается». Да, в качестве символов могут выступать как конкретные чувственные «вещи», так и, соответственно, словесные имена этих вещей, однако тот смысловой модус, который и при восприятии чувственной «вещи-символа», и при понимании соответствующего имени является собственно символическим, связан не с объектно-образной и чувственной, а с безобразной и безобъектной синтаксической семантикой, этими символами индуцируемой. В идее безобразной языковой семантики нет, кстати, ничего экстравагантного, во всяком случае – со времен Л. С. Выготского, считавшего внесение в языковую семантику образных компонентов одним из главных заблуждений ориентированной на психологизм лингвистики и обвинявшего в активной поддержке этого заблуждения (на наш взгляд, конечно, беспочвенно, но не в этом здесь сейчас дело) именно потебнианскую традицию и, соответственно, символизм в целом.[34]34
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. С. 45–72 (ср., в частности, на с. 67: «Легко убедиться в том, что по самой психологической природе слова оно почти всегда исключает наглядное представление…»; специально об Иванове—с. 58).
[Закрыть]
Иванов не только не отрицает возможность безобразного смысла, но даже обостряет идею безобразности языковой семантики до идеи ее безобъектности, подчеркивая, как мы видели, основанность символического модуса смысла не на синтаксической семантике в ее целом, которая всегда (в том числе и у Выготского) понимается как обязательно включающая в себя и именовательно-объективирующую семантику синтаксического субъекта, но преимущественно на ее предикативных, не именующих компонентах. Эта предикативность может быть разного рода: не только тем, что выше было названо «вторичной» предикативностью, но и предикативностью в ее обновленном понимании, скажем, у Б. Рассела или К. И. Льюиса, согласно которому в предикате язык «отражает» отношения «вещей» между собой и сами «вещи» как пучки отношений, но при этом предикат не именует эти отношения.[35]35
Обобщенный теоретический смысл этой обновленной позиции хорошо выражен применительно к нашей теме в исследовании Ю. С. Степанова «В трехмерном пространстве языка» (М., 1985), в котором фактически впервые был принципиально поставлен на фоне общетеоретических лингвистических проблем и по-своему (отлично от развиваемой нами гипотезы) решен вопрос о соотношении между «философией имени» и символизмом, в том числе и ивановского типа. Согласно Степанову, в этой новой, ориентированной на предикат, а не на имя, парадигме лингвистического мышления, считается, что «предложение (пропозиция) не именует положение дел, а сигнифицирует его» (с. 19); что «теперь нельзя представлять себе мир состоящим из вещей, мир состоит не из вещей, а из событий или фактов», факты же, по Расселу, «могут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут быть именуемы» (с. 125); что «предложение-пропозиция, описание факта, создается предикатом и именами (термами), занимающими места, предусмотренные в предикате» и что, соответствуя не «вещам», а «отношениям» между вещами, предикаты вместе с тем «не именуют этих отношений» (с. 127).
[Закрыть] Ивановский символ и может быть понят по аналогии как пучок предикатов разного рода – не именующих, не объективирующих и не опирающихся на чувственный образ. Возможность такого понимания подкрепляется и тем, что даже в состав так называемых «архетипических символов» (который, впрочем, не установлен, да и не может быть установленным полностью и «навсегда») включаются в том числе необъектные и необразные по самой своей природе, а в нашем контексте это и значит – предикативные, символы: например, «беспредметные» символы у М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского, «никакая редукция» которых «не приведет нас к объекту».[36]36
Мамардашвили М. К, Пятигорский А. М. Символ и сознание. М., 1997. С. 200. Интересно, что в качестве «беспредметных» здесь понимаются не только символы типа «верх» и «низ», или «я» и «ничто», но и, например, столь значимый у Иванова символ «змеи»: «Когда мы говорим „змея в индуизме символизирует креативную силу женского начала“ или „змея в гностицизме символизирует созерцательную мудрость“, то символизируемые вещи здесь – не вещи, а мнимости ментальной и сознательной жизни» (Там же), то есть, добавим от себя, самые что ни на есть по своему синтаксическому «поведению» и функциям предикаты (в обычном лингвистическом понимании этой категории).
[Закрыть]