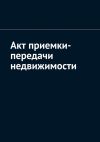Текст книги "Непрямое говорение"

Автор книги: Людмила Гоготишвили
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
На деле, однако, указанные внешние несогласования вряд ли являются действительными внутренними дисбалансами этих позиций. Коммуникативность явным образом входила в самую сердцевину имяславия.[64]64
Подробней о коммуникативной составляющей имяславской концепции см.: Гоготишвили Л. А. Коммуникативная версия исихазма // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М, 1994. С. 878–893.
[Закрыть] Совершенно очевидно также, что и языковой «недиалогизм» Иванова сознательно и целенаправленно совмещался им с принципом метафизического и религиозного «диалогизма» – в том числе и по той, вероятно, причине, что объективируемое языком содержание, будучи отнесенным в его концепции в разряд «косной материи», не могло при таком своем «низком» статусе мыслиться в качестве действительной основы межсубъектного сближения, которое всегда, по Иванову, ориентировано на религиозную перспективу мистического сближения с трансцендентными личностными силами. Не став топосом межсубъектного сближения, объективируемое языком содержание закономерно не стало и тем общим фоном, на котором могли бы проявиться индивидуальные диалогические обертоны речи.[65]65
«Языковой недиалогизм» настолько принципиален и органичен для Иванова, что если в его всегда до мелочей выверенных и обдуманных с точки зрения языкового построения текстах и встречаются некоторые семантические «погрешности», то это именно погрешности от принципиального игнорирования внутренней диалогической структуры речи, выражающегося, например, в безразличии к некоторым, диктуемым в том числе и диалогической структурой, семантико-синтаксическим «правилам» согласования.
[Закрыть] Это разведение языка и принципа диалогизма по разные стороны бытия было отмечено уже Бахтиным, писавшим, что диалогизм был монологической темой Иванова, не переведенной им в принцип языковой формы, как это впоследствии сделал сам Бахтин, во многом опиравшийся именно на Иванова.[66]66
См.: БахтинМ.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 12–13. Вообще бахтинская языковая концепция, сформировавшаяся непосредственно вслед за имманентным глубинным противостоянием Иванова и имяславия, может рассматриваться на этом фоне как совмещение в языковой сфере тех периферийных потенций ивановской и имяславскои позиций, которые изнутри самих этих позиций рассматривались как не собственно языковые.
[Закрыть]
Из того принципиального факта, что язык не является в ивановской концепции непосредственной общей территорией религиозного субъект-субъектного сближения, следует и то многозначительное обстоятельство, что человек не может, по Иванову, непосредственно воспроизводить даруемое ему свыше Имя Бога, но должен отвечать на него новым, от себя исходящим, именем, причем именем себя самого. Такова во всяком случае внешняя сюжетная завязка его мелопеи «Человек», в которой в качестве «достойнейшего» из дарованных человеку Имен, на которое следует найти «правильный» – от человека исходящий и иной по языковой форме – ответ, названо «Аз-Есмь» и его религиозно-языковой ответный аналог «Ты ecu», понимаемые как вариация Имени «Сущий» (так же оценивал это Имя и Аквинат). «Аз-Есмь» понимается при этом не просто как одна из действительно многочисленных вариаций, но как вариация, наиболее адекватная и даже тождественная этому Имени; в авторских примечаниях к мелопее сказано (3, 741): «Аз-Есмь» – Имя Божие (Исх. 3.14)». В «Аз-Есмь» учтена, согласно принципиальной, как мы видели выше, ивановской установке, исходная семантическая и синтаксическая «сложносоставность» этого Имени, включающего в себя (что весьма существенно для описанной выше специфики ивановского понимания природы символических референтов) и акт предикации: «Я буду тот, кто буду». На это Имя человек и должен найти адекватный языковой ответ, принципиально же не должный, по Иванову, совпасть с самим Именем.
Различие с имяславием здесь очевидно, хотя оно и не поддается простому толкованию и даже зачинает как бы новый усложненный виток в длинной спирали сопоставления этих концепций – слишком далеко и глубоко сокрыты корни этого различия. Иванов, как известно, долго и терпеливо ждал комментария к своей мелопее от Флоренского, но ждал, если наша интерпретация его позиции близка к истине, в том числе и как ждут ответной реплики в принципиальном, хотя для внешнего наблюдателя и завуалированном, споре. Может быть, с этим же связано и то, что комментария так и не последовало. Флоренский, как и Иванов, придерживался в определенных случаях стратегии умолчания.
В метафизической и религиозной глубине этого явно имевшегося в виду обеими сторонами архетипического дисбаланса лежит сложнейшая теологическая тема о соотношении двух «главных» Имен Бога – ветхозаветного «Иегова» («Сущий») и новозаветного «Иисус»; тема, по отношению к которой все отмеченные нами лингвистические разногласия в позициях имяславцев и Иванова могли восприниматься обеими сторонами лишь как ее поверхностные рационалистические рефлексы. Во всяком случае именно соотношение этих двух Имен стало центральной проблемой «Философии имени» Булгакова, не склонного к стратегическим (в отличие от этикетных) умолчаниям, но, напротив, стремившегося к максимальной интеллектуальной проговоренности центральных тем имяславия. Собственным решением этой проблемы Булгаков так, видимо, никогда и не был до конца удовлетворен (во всяком случае, если судить хотя бы по тому, что именно она снова была поставлена Булгаковым в центр написанного им уже в 1942 году заключительного раздела книги и что там эта проблема опять подавалась им в открыто гипотетической модальности).
Не предполагая возможным ни рассматривать саму эту тему, ни даже поднимать ее по существу, отметим лишь один из ее поверхностно-рационалистических, в нашем случае – лингвистических, рефлексов. Ивановская преимущественная ориентация на имя «Аз-Есмь» тоже может быть прочитана в лингвистическом контексте как вариация ивановского утверждения о принципиальной необъективируемости референтов теперь уже не только символической, но и – шире – трансцендентной сферы, ведь в этом Имени Ивановым фактически мыслилось осуществление реального именования без языковой объективации. Возможность такого необъективирующего именования основана, по Иванову, на совершенно особом, с его точки зрения, онтологическом (сакральном) статусе глагола «быть», «присутствующего» в самом Имени Бога и потому составлявшего отдельную и весьма оригинально трактуемую им тему. Минуя все промежуточные стадии развития ивановской мысли в этом направлении и все ее модификации, а также отвлекаясь от собственно религиозного смыслового наполнения этой темы, можно все же говорить, что в отличие от имяславцев, утверждающих в качестве самого имени то слово, которое находится в именовательном суждении в позиции предиката («А есть имярек», где именем является «имярек»), Иванов утверждал статус имени не за предикатом и не, естественно, за субъектом суждения, а за самим актом предикативного скрещения, генетически восходящим к сакральному, с его точки зрения, глаголу «быть».[67]67
Тот факт, что глагол «быть» лежал в глубине, фактически – на самом «дне», архетипического разлома между ивановским символизмом и имяславием, подтверждается и тем обстоятельством, что в авторских примечаниях к «Человеку», написанных после напрасного ожидания комментария от Флоренского и, следовательно (если наша версия причины самого этого терпеливого ожидания верна), содержащих очередную реплику в диалоге с имяславием, Иванов специально оговаривает особый статус этого глагола (3, 742–743). Эта реплика вполне могла быть адресована в том числе и Булгакову, много (и иначе, чем это понималось Ивановым) писавшему о глаголе «быть» в «Свете невечернем»; в частности – о том, что понятие «есть» в применении к Богу условно и что вообще категория «бытия» сама по себе к Богу не приложима (с. 28), что вера «содержит в себе опознание не только того, что трансцендентное есть, но и что оно есть; она не может ограничиться голым экзистенциальным суждением, а включает и некоторое содержание: к ЕСИ всегда присоединяется некоторый, хотя бы и минимального содержания, предикат… Божество открывается вере не вообще, но конкретно, окачествованно…» (с. 50) и др. Возможно, что именно с постоянными размышлениями над этой инициированной Ивановым темой связано и то, что в ФиБ позиция Булгакова усложнится и станет гораздо «вместительней», в частности – по отношению к экзистенциальным суждениям, которые уже вплотную будут примыкать к именованию.
[Закрыть]
А это уже, собственно, и не именование – во всяком случае ни в его традиционном, ни в его модернизированном лингвистическом понимании; это и есть особый ивановский символический способ референции: референция через акт предикации (способ, который, возможно, распространялся Ивановым и на трансцендентную, а не только на трансцендентно-имманентную, сферу; с нашей стороны это голая гипотеза, высказанная лишь для того, чтобы пунктирно наметить перспективы темы). В том и состоит, по Иванову, природа предикативного акта, что в нем (и, вероятно, из всех языковых процессов только в нем) не действует объективирующая сила языка; и если референцию через предикативный акт и должно в определенных случаях называть именованием, то лишь в онтологическом, метафизическом или религиозном, а не в собственно лингвистическом смысле, поскольку здесь отсутствует главный, с точки зрения лингвистики, компонент именования – нет языковой объективации. Достоинством такого «деликатно» не объективирующего свой референт именования (фактически же, конечно – неименующей референции) является, с ивановской точки зрения, то, что оно не предполагает никаких насильственных языковых вторжений в сферу референта, по отношению к природе и сущности которого язык в таких случаях сохраняет свое природное целомудрие, человеком часто нарушаемое. Онтологически «целомудрен» в этом смысле и отстаиваемый Ивановым особый способ символической референции, во всяком случае – в теории. Осуществим ли этот целомудренный по своему замыслу способ на практике и как он проявлялся в поэзии самого Иванова – это уже вопросы совсем иного порядка.
Антиномический принцип в поэзии Вяч. Иванова
Антиномизм пронизывает не только архитектонический, тематический и формально-композиционный уровни поэзии Вячеслава Иванова, но проникает и в ее молекулярный лингвистический состав: языковая плоть ивановского стиха сверхобычно насыщена антиномическими синтаксическими конструкциями самого разнообразного строения (ложь истины; в розах Крест; святиться в грехе; Жизнь – Смерти гимны; тайна нежная безмолвъем говорит; Не видит видящий мой взор и т. д.). Сама по себе синтаксическая игра с антонимами – общее место и в символической и в досимволической поэтике, но весомость антиномической идеи в теоретических работах Иванова, где она в некотором смысле является единым сквозным принципом, позволяет предположить, что всепроникающее присутствие в ивановской поэзии антиномических конструкций не может быть расценено как просто количественное наращивание стандартных поэтических приемов, которое можно было бы объяснять, например, субъективными языковыми пристрастиями. Эта сверхобычная насыщенность может означать, что хотя антиномические синтаксические конструкции номинально и не фигурируют в теоретических текстах Иванова по поэтике в качестве первостепенного языкового элемента того, что А. Белый называл «лингвистической базой символизма», им придавался некий обновленный и более высокий по сравнению с традиционной поэтикой статус. Не исключено и то радикальное предположение, что из всех тропов и языковых фигур или приемов не, скажем, метафора (как утверждал Белый) или именование (как утверждается в некоторых современных работах), а именно антиномические синтаксические конструкции составляют «лингвистическую базу» ивановского символизма, соответствуя его магистральной языковой стратегии.
Теоретическая предпосылка такого предположения – в вычитываемой из ивановских текстов идее функционального, а в определенном смысле и генетического родства антиномических конструкций с мифологическими высказываниями. Вся поэзия состоит, согласно одной из обостренных ивановских формулировок, исключительно из синтетических суждений (4, 645),[68]68
Цитаты приводятся по вышедшим четырем томам издания «Вячеслав Иванов. Собрание сочинений» (Брюссель, 1971, 1974, 1979, 1987); сноски даются непосредственно в тексте в скобках, где первая цифра обозначает номер тома, вторая – номера страниц.
[Закрыть] миф же как раз и представляет собой, согласно регулярно воспроизводимой Ивановым формуле, синтетическое суждение с подлежащим-символом и глагольным предикатом. Практически во всех случаях приведения этой формулы Иванов добавляет, что цель синтетических мифологических высказываний – вызывать «удивление»: антиномические синтаксические конструкции выполняют и это требование. В одной же из ивановских формулировок этот «удивляющий синтетизм» мифологического высказывания напрямую связан с антиномизмом. Миф, говорит здесь Иванов, эпичен по форме, но трагичен по внутреннему антиномизму (4, 437). Антиномическую синтаксическую конструкцию можно, следовательно, толковать в ивановском смысловом пространстве как редуцированную лингвистическую транскрипцию синтетических мифологических высказываний.
На «внутренне антиномичные» мифологические высказывания Иванов возлагал миссию достижения стратегической цели символизма – знаменования (или, если говорить сухо лингвистически, референцирования) мира «бестелесного, слышного и незримого» (2, 591)[69]69
Стандартная в символизме аллюзия к тютчевскому: «Смертных дум, освобожденных сном, /Мир бестелесный, слышный, но незримый…»
[Закрыть] чувственно данными и объективированными формами языка. Если антиномическая конструкция действительно выдвигалась Ивановым в качестве «героя» символического поэтического дискурса, то в ней, следовательно, должны были усматриваться и некие собственно лингвистические особенности, которые соответствовали бы особенностям ивановского понимания этой общесимволической цели.
Дело не могло при этом состоять только в том, что сведенные в единую синтаксическую конструкцию антонимы формально-семантически «указывают» на мыслимые в символизме как долженствующие соприкоснуться предельные топографические координаты поэтического мира (небо/земля, верх/низ, жизнь/смерть, личина/лик и т. д.). В лексической способности антонимов к такому формальному «указанию» на предельные грани никаких особенностей собственно символического типа референции нет: это дейктическое свойство антонимов не выходит за рамки обычного – несимволического – понимания референции, и одного его недостаточно для того, чтобы непосредственные сочленения антонимов в разнообразных синтаксических конструкциях могли мыслиться как преображающиеся из набора стандартных поэтических приемов с неотчетливой или незаданной телеологией в специально символическую языковую форму референции. Характерным же нюансом ивановского понимания символического «знаменования» можно, по-видимому, считать принципиальную несубстанциальность символического референта, взятого как в модусе «данности», так и в модусе «заданности». При всей значимости вовлечения в аполлонийскую статичность топографии поэтического мира динамического дионисийского импульса ивановский символизм принципиально не предполагал субстанциальной встречи предельных топографических координат. Да, «ткань завес» между предельными гранями должна в символизме, по Иванову, становиться «сквозною» (2, 358) – «опрозрачниваться» поэтическим языком, однако Ивановым мыслились лишь «сквозящие свидания» светов, а не самих топографически противопоставляемых светил. То, что долженствует знаменовать символическому стиху, не только изначально «бестелесно» и «незримо», но и должно, по Иванову, оставаться таковым и при его символическом референцировании. Общесимволическая установка на «вещей обличение невидимых» толковалась Ивановым принципиально не субстанциально: не в смысле «придать невидимому облик» (опредметить беспредметное), т. е. не в смысле обретения, нахождения или создания контурно-отчетливого образа или прямо «лика» вещей невидимых, но в смысле поиска способов для того, чтобы знаменовать символический референт вопреки невозможности обрести его лик (облик, образ). Если А. Белый ждал от символического стиха дарования облика «вещам невидимым», будучи с оговорками, но готов, например, видеть за метафорическим сочетанием «белый рог месяца» образ (почти лик) некоего «тайноскрытого» для нас небесного животного,[70]70
«Когда я говорю Месяц – белый рог», то «в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением которой является метафорический образ, мною созданный… Белый рог месяца становится белым рогом мифического существа… месяц есть теперь внешний образ тайноскрытого от нас небесного быка или козла» (Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 141).
[Закрыть] то для Иванова «каждый лик, глядящий с облаков, лишь марево зеркальности воздушной» (3, 564).
При радикальном лингвистическом уплотнении этой ивановской идеи она предстает в виде парадоксального, на первый взгляд, тезиса, что для достижения референции «невидимого» и «бестелесного» символический стих должен отказаться от акта именования, поскольку последний предполагает предметный или опредмечиваемый именованием референт (Душа… /Единым и Вселиким – /Без имени – полна! – 1, 749). Разумеется, содержание этой идеи не следует понимать лингвистически формально: речь идет о жертвовании, конечно, не именами как грамматическими формами (такое понимание бессмысленно), но – о жертвовании актом именования, т. е. речевым действием, референцирующим через именование. К идее жертвования именованием ведут смысловые тропы от многих теоретических тем Иванова: о трагической ошибке Ницше, вызвавшего из дионисийского КАК фиктивное ЧТО с произвольно определенными чертами (1, 723, 720), об опосредованном характере символического знаменования (референцировании ЧТО через КАК), о сущности трагедии, о кризисе явления, а с ним и внутренних форм привычных имен зримого мира, и о соответственном движении символического стиха от реального к реальнейшему, при котором стих должен, по Иванову, постепенно высвобождать свою знаменующую энергию «из граней данного» (2, 611) и перенаправлять ее из мира чувственно или ментально конкретных языковых образов и имен в мир «несказанного» и «невидимого» (не имеющего облика и имени).
Имплицитно содержится идея отказа от акта именования и в самой ивановской формуле мифа, которая тем и выделялась на фоне тогдашних многочисленных толкований мифа, что в ней не предполагалось акта именования – и не предполагалось принципиально: в позицию субъекта синтетического мифологического суждения в ней помещается символ, символ же у Иванова—подчеркнуто не имя референта (символы наши– не имена[71]71
«Романтик называет по имени тени своих мертвецов, которые он тревожит в их могилах. Мы же вызываем неведомых духов. Символы наши – не имена; они – наше молчание. И даже те из нас, которые произносят имена, похожи на Колумба и его спутников, называвших Индией материк, что вот-вот выплывет из-за дальнего горизонта» (2, 88).
[Закрыть]), а, если воспользоваться стандартной лингвистической терминологией, – предикат (Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тайное Розой – 3, 30).
Сколь бы ни были настойчивы попытки переубедить в этом пункте Иванова, он (за одним, и то, по-видимому, формальным, исключением) так и не ввел акт именования в синтаксическую структуру лингвистической пра-формы мифа, а значит – не мыслил акта именования и в мифологическом пике символического стиха. В ивановской поэзии имена, которые претендовали бы прямо именовать маркированные символические «референты», и прежде всего, имена собственные, чаще всего приносились в ритуальную жертву, что и было, по всей видимости, причиной сыпавшихся на Иванова со всех сторон упреков в уклончивости, тактике замалчивания и даже лицемерии. Так, в ходе диалога-тяжбы Иванова с С. Н. Булгаковым о мифе сложилась чрезвычайно показательная для данного контекста ситуация. Если в ивановском мифе в позицию субъекта помещается символ, т. е. принципиально – не имя, то Булгаков пишет в «Свете невечернем»: содержание мифа «всегда конкретно, речь идет в нем не о боге вообще и человеке вообще, но об определенной форме или случае определенного богоявления». И далее делает показательный для нас вывод: «Подлежащее мифа, его субъект может быть обозначен только „собственным“, а не „нарицательным“ именем».[72]72
Булгаков С. И. Свет невечерний. М., 1994. С. 58.
[Закрыть] Аналогичный упрек делался Иванову и А. Белым. Откликаясь на ивановские мысли о драме и мистерии. Белый пишет: «…мистерия – богослужение; какому же богу будут служить в театре: Аполлону, Дионису? Помилуй Бог, какие шутки! Аполлон, Дионис – художественные символы и только: а если это символы религиозные, дайте нам открытое имя символизирующего (так в издании. – Л. Г) Бога. Кто «Дионис»? – Христос, Магомет, Будда? Или сам Сатана?».[73]73
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 344–345.
[Закрыть]
Белый разглядел за ивановской языковой многоликостью бога – козла, быка, барса, змеи, лозы, рыбы – идею безликости и безымянности символического референта, но не принял, расценив ее как «ужасающую даль старины», заревевшую безликим «мраком на нас».[74]74
Белый А. Сирин ученого варварства (по поводу книги В. Иванова «Родное и вселенское»). Берлин: Изд-во «Скифы», 1922. С. 9.
[Закрыть] Да, лик, по Белому, может быть не дан, но он (по известной формуле) задан, финал символического пути – обретение лика, отказ от такого финала – провал в дионисийскую бездну. Иванов, в свою очередь, усматривал в поисках «ликов» нечто вроде лингвистического пантеизма: Белый, говорил он, «суеверно» стремится приурочить символические языковые обозначения «вещей невидимых» к эмпирически объективированному «носителю», «к обманчивым, мимо бегущим теням» (4, 621).
В ядре этого противомыслия Белого и Иванова – разные толкования равно признаваемого ими необходимым «союза Аполлона и Диониса». Каждым из них противоположная версия представлялась нарушением этого прокламируемого союза. Белый расценивал ивановское уклонение от образной «отчетливости» языковых форм и имен либо как хотя и не заявленный, но свершившийся отказ Иванова от самой идеи такого союза (Дионис у Иванова, по Белому, «упал» в свое безликое прошлое, Аполлон – взлетел в мертвую светлость холодных абстракций), либо как постановку этого союза под доминирующий знак по-язычески понятого Диониса «…бога нет еще в мрачном лоне безбожнейших состояний людоедов, сбежавшихся в стадо… Бог – сон, ими созданный… Вакх – безликий убийца и жертва, живущий в сердцах и исполненный сладострастной жестокостью».[75]75
Там же.
[Закрыть] Иванов, в свою очередь, симметрично расценивал позицию Белого как превалирование Аполлона (логики) над Дионисом: «Андрей Белый, выставляя образцом Пушкина (для каких только целей не кричали нам: „назад к Пушкину“]), ищет как бы обнажить иррациональные корни поэзии, исторгнуть их из обителей ночи… на солнечный свет логического сознания, проникнув их логосом (или логикой?), укротить дионисийские энергии…, обуздать в слове первородный грех (не чадородную ли силу?) „козловидного Пана“ (4, 638). Контрапункт очевиден: Белый считал, что посредством единения аполлоново-дионисовых сил можно по-неокантиански достичь не данных, но заданных новых ликов и образов, а значит и имен, Иванов ждал от этого союза не опредмечивающего «невидимый» символический референт благоприобретенного и именованного ЧТО, а подобного катарсису модального, непредметного и неименуемого КАК. Требование имен в символизме, по всей видимости, уподоблялось Ивановым трагической, с его точки зрения, ошибке Ницше, искавшего вызвать из дионисийского КАК ясное видение, некоторое зрительное ЧТО, и стремившегося затем удержать это видение, пленить его, придать фиктивному ЧТО произвольно определенные черты и длительную устойчивость, как бы окаменить его (1, 723, 720), т. е., в нашей терминологии, опредметить и именовать (противопоставление КАК и ЧТО сохранено и поздним Ивановым).
Однако идея отказа от акта именования «реальнейшего» ни в каком смысле, конечно, не означала отказа от его референции (тезис о возможности рефере-цировать невидимое и несказанное – движущий импульс и регулятивная идея символизма). Она предполагала другое: поиск иных – неименных – способов символической референции. Антиномические синтаксические конструкции потому и выдвинулись на стратегическую авансцену ивановского символизма, что Иванов усматривал в них некие собственно лингвистические особенности, которые позволяют им референцироватъ, не именуя. Антиномическая конструкция предстает при этом, как и положено в ивановском символизме, не только в качестве жреца, но и в качестве жертвы: ведь образующие эти конструкции антонимы сами суть в своем изолированном существовании вне этих конструкций не что иное, как имена, способные осуществлять (нередко в том же стихе) акт номинации.
Происхождение и природа этой стратегически интересующей Иванова способности антиномических конструкций к особой неименующей референции понимались, вероятно, в соответствии с общим ивановским толкованием проблемы антиномий.[76]76
В абстрактно общем плане ивановская идея отказа от именования может быть воспринята как реплика в тогдашней острой дискуссии о статусе антиномий в философском дискурсе – и тогда она как бы веером разворачивается в сторону сразу нескольких оппонентов. С одной стороны, ивановский символизм оспаривает аналитическую версию, предполагающую контекстуальное подавление одного из антиномических начал другим и фактически приводящую к тому, что победившей антиномии как приз вручается сан главенствующего в синтаксической конструкции имени-субъекта, непосредственно референцирующего «вещь». Поскольку антиномии, по Иванову, предикативны по своей природе, ни одна из них не может самолично референцировать предмет, не может стать его именем (Кто ты, белый, что возник /Предо мной во мгле просветной…? Ангел жизни? Смерти демон?… Супостат или союзник? Мрачный стражник? Бледный узник? Кто здесь жертва? – кто здесь жрец! – 2, 308–309). С другой стороны, не готов Иванов и оставить противоречие «глубоким, как есть» (Флоренский), что, с его точки зрения, фактически ведет – хотя, возможно, и против теоретической воли сторонников этой позиции – к пониманию встретившихся в дискурсе антонимов как всегда имеющих свои дуалистически раздельные референты и как раздельно их именующих. Иванов взыскует «касания» миров – и потому ищет соединения антиномичного. Но, с третьей стороны, ивановский символизм не предполагает и такого доведения «касаний» антиномий вплоть до их синтеза в земных гранях, которое было бы подобно диалектическому синтетическому целому, понимаемому как предметное или опредмечиваемое и потому как именуемое земным языком (см. у позднего Иванова: Если белый цвет и черный…/ Сумиленностью притворной / Тянут жалобный дуэт, /Я в тоске недоумелой / Отвожу стыдливый взор: / Ханжеством прикрыв раздор, /Лгут и черный цвет, и белый – 3, 605). Ивановский символизм ищет формы касания антиномий – но такой, в которой они, будучи взяты совместно (нераздельно) и референцируя своей соположенностью незримый синтез, сохраняли бы, тем не менее, неслиянность: не нейтрализовались бы в лоне общего верховного имени. Таковую форму Иванов и находит в разнообразных синтаксических сочленениях антиномий, включая и форму их непосредственного субъект-предикативного скрещения – см. в продолжении того же стиха о «черном» и «белом»: Есть в их ласках красота, /Если страсть их дико сводит (эрос же в ивановском смысловом пространстве есть помимо прочего и символ глагольной связки в суждении – подробней см. ниже).
[Закрыть] Если сфокусировать эту многовекторную тему на интересующем нас вопросе, то, согласно ее ивановскому толкованию, антиномичные начала, с одной стороны, могут и должны «в земных гранях» не оставляться «глубокими, как есть», а сополагаться в рамках целостных «земных» форм, в том числе, в рамках единого синтаксического целого, но, с другой стороны, финальный синтез антиномичных начал обречен, по Иванову, оставаться в гранях этих «земных» целостных структур «невидимым» – вследствие чего трагедия, например, отображает финально-катартический синтез боровшихся внутри героя антиномических сил через его гибель или преображение.[77]77
Распространение идеи незримости синтеза из искусства диады на все пространство его поэзии предполагалось самим Ивановым: хотя в качестве «поэзии диады» в собственном смысле им рассматривалась только трагедия, тем не менее, как писал Иванов в специальном экскурсе «О лирической теме», и в лирике выражению диады предоставлен простор (2, 203). Лирика подразделялась им в этом отношении на тяготеющую к аполлонийскому и тяготеющую к дионисийскому полюсу (204); его собственную лирику можно понимать в этом смысле как тяготеющую к последнему.
[Закрыть] В собственно же лингвистическом контексте эта идея трансформируется в принцип невозможности нейтрализовать антонимы, соположенные в «земных» рамках целостной синтаксической конструкции, в едином синтетическом имени (Земная песнь, молчи / О славе двух колец в одном верховном – 2, 423). Тем не менее антонимы, по Иванову, сохраняют способность к референции: не поддаваясь в гранях земного языка синтезу в верховное имя, но будучи соположены в рамках целостной синтаксической формы, они осуществляют искомую неименную референцию. Ее механизм мыслился, скорее всего, по аналогии с трагическим катарсисом: антиномическая конструкция может при определенных условиях достичь знаменования невидимого символического референта вопреки отсутствию в ней акта именования – подобно тому, как этого достигает через гибель героя трагедия вопреки отсутствию в ней видимого земным зрением синтеза борющихся в герое антиномических сил.
Факт соположенности не нейтрализуемых в верховное синтетическое имя антонимов в рамках единораздельной цельности синтаксической формы имеет для неименной ивановской референции принципиальное значение: он коррелирует с той повышенной значимостью, которая придавалась им поэтической форме. Приверженность к «строгим» поэтическим формам – ивановская мзда Аполлону. Аполлонийский импульс, согласно Иванову, отражается в создаваемой под знаком союза двух богов поэтической речи «стройным телом ритмического создания», из которого возникает целостная «словесная плоть» художественного творения (2, 630). Дар Аполлона – не разного рода ЧТО и их имена, не именование символического референта, а недвижно пребывающая верховная форма творения (2, 191); поскольку же и Дионис приносит в этом союзе свои дары, то аполлонийская форма образуется в своей целостности соединением антиномичных начал («подобно тому как противоположный упор двух столбов упрочивает стойкость арки» – 2, 193). В нашем контексте такова синтаксическая форма сочленения антонимов, не нейтрализуемых в общем имени. Такая форма видна, как арка или как (другой характерный для Иванова образ) кристалл, насквозь: ее очерченное внешними гранями внутреннее пространство не оплотнено предметами и именами, и потому через такую прозрачную форму можно различить и то, что «за» ней. Неименная референция в этом контексте – это референция через лингвистически конкретно наполненную,[78]78
Идея неименующей и неопредмечивающей референции никак не означала, конечно, отказа от принципа художественного выражения «несказанного». Синтаксическая конструкция без именования – это тоже выражение неэмпирического через эмпирическое: подобно воплощению творческого сознания в эстетической форме произведения в целом, референт воплощается в такой конструкции не как непосредственно объективированное, материально чувственное, конкретно-образное и именованное явление, а через взаимоотношения чувственных элементов, в данном случае – через синтаксическое взаимоотношение антонимов как объективированных элементов языка (сам символический референт остается при этом необъектив ированным).
[Закрыть] но прозрачную, не оплотненную предметными образами форму антиномических синтаксических конструкций. Антиномические конструкции референцируют, согласно замыслу Иванова, не субстанциальное (объективированное) и потому именуемое верховным синтетическим именем ЧТО, а модально-катартическое (предикативное) КАК, сквозь которое мы опосредованно узнаем, ЧТО реально увидел художник. Согласно антиномической вязи этого ивановского рассуждения, сила референции при таком опосредовании не ослабляется, а увеличивается: при сообщении нам через акт опредмечивания и номинации любого ЧТО мы, напротив, говорит Иванов, в действительности узнаем лишь модальное КАК, а не субстанциальное ЧТО символического референта (3, 665).
Разумеется, тезис об отказе от именования – это заостряющая лингвистическая радикализация языковой поэтической стратегии Иванова. И разумеется, речь идет о телеологической тенденции, а не о повседневной языковой жизни ивановского стиха, которая остается подвластной общему закону. Ритуальное жертвование актом именования могло пониматься как стратегическая сверхзадача, как то, что осуществимо лишь в маркированных позициях, в катартически-референциальном пике стиха. Однако в качестве условия и формы предуготовления символического стиха к неименующей катартической референции Ивановым могло мыслиться расшатывание и ослабление именовательных потенций языковых форм во всех других фрагментах стихотворения, во всяком случае – в тех, которые облачены в антиномические конструкции, а также в тех, на которые эти конструкции отбрасывают антиномическую тень. Имена и предназначенные к именной референции словосочетания должны в этих омытых антиномическими волнами поэтических островках не уверенно исполнять свою мессианскую референцирующую миссию, а сгибаться под ее тяжестью, будучи расшатываемыми антиномическими конструкциями и раздираемы собственными внутренними антиномическими противоречиями. Имена образов зримых предметов и устойчивых логических смыслов должны в этих фрагментах, согласно ивановскому замыслу, приходить в синтаксическое движение, сбрасывать именующие и облекаться в предикативные тона[79]79
Постепенно и по нарастающей слабеющие имена должны преображаться в составе и окружении антиномических конструкций в предикаты, приближенные к зоне глагола. См. мимоходом брошенное замечание у проницательного Гершен-зона: «Фраза Вяч. Ив. – многолюдная трапеза… Власть домохозяев – подлежащего и сказуемого – почти не чувствуется, но все совершается по их тайному замыслу…… каждое существительное – не существительное, а глагол…» (Гершензон М. О. Теория словесности. Из рукописного (пародийного) журнала «Бульвар и Переулок» // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 204). Вместе с именованием преображаются в составе антиномических конструкций ивановской поэзии и все основанные на предметной языковой образности тропы (не исключая самую метафору).
[Закрыть] – с тем, чтобы, нарушив привычные представления зрения и мышления, подготовить тем самым катартически-референциальный пик стиха, когда не сквозь лицо проступит лик, а сквозь кружева синтаксических антиномических сочетаний земных имен «просквозит» остающееся невидимым и несказанным (не имеющее и не получившее образа и имени).
В том, что антиномические конструкции из земных имен размывают привычные зрительные образы и другие эмпирические ощущения, распредмечивая их именования, Иванов видел не побочный отрицательный эффект установки на знаменование «невидимого», а правое упразднение «в нас обветшавших и омертвевших» восприятий предметов земного зрения. Логическое заострение этой линии теоретической мысли Иванова – теория «кризиса явления», проблематизирующая адекватность именования уже и самого видимого мира. «Кризис явления» означает кризис привычных форм явленности сознанию «видимой» предметности и, следовательно, кризис ее именования.[80]80
Кризис явления соответствует, по Иванову, еще более глубокому сдвигу отношений внутреннего порядка, в существе и основе которого лежит «некая загадочная перемена в самом образе мира, в нас глядящегося… Мир являющийся еще так недавно являлся человеку иным… Человек еще не забыл того прежнего явленья, а между тем не находит его более пред собой и смущается, не узнавая недавнего мира… Где привычный облик вещей?» (3, 369).
Тематически идея распредмечивания зримого мира не была, конечно, индивидуальным новаторством Иванова. В теории об аналогичных изменениях в восприятии поэзией зримой предметности, о ведущем к потере контурности слиянии «знакомых представлений зрения» – но без радикальных выводов – говорил, в частности, И. Коневской, высоко ценимый Ивановым (в написанной в тридцатые годы академической энциклопедической статье о символизме Иванов, говоря о русском символизме, упоминает многих «пользовавшихся наибольшею славою» – Бальмонт, Брюсов, Мережковский и др., но вводит разряд «заслуживающих особое внимание», и первым в этом ряду назван Коневской). В написанной в 1900 г. статье «Мистическое чувство в русской лирике» Коневской писал, что нарастающее в русской поэзии мистическое чувство, это – «ощущение пребывания личности в таких состояниях сознания, которые находятся вне доступного обычным условиям восприятия предметов» (Коневской И. Мечты и думы. Томск, 2000. С. 265). Когда кончался день, Тютчев уже не ощущал более «многого, из чего слагались знакомые ему представления предметов, их красок и очертаний их, в движении и в покое… И тут же, когда слились многие знакомые представления зрения, вместо них явились новые, невидимые прежде» (266). Иванов радикализировал эту тему, нарастив ее до идеи неадекватности здесь и сейчас существующих образов и имен «вещей» видимого эмпирического мира (Коневской же говорил не только о «чрезмерной зрячести» Пушкина, но и о «чрезмерной слепоте к внешним предметам» Боратынского. – Там же. С. 275).
[Закрыть] Если стратегическая идея жертвования именованием в референциальном пике стиха противостоит идее прозрения не данных в наличности, но заданных имен и ликов (в частности, А. Белому), то тактическая идея расшатывания актов именования, соответствующая ивановскому пониманию движения стиха от реального к реальнейшему, противостоит идее неназывания (сокрытия) наличных имен. Иванов отнюдь не оппонировал здесь требованию подчинить поэзию заповеди «не произносить имен всуе» (напротив, это выставлявшееся и самим Ивановым требование хотя опосредованно, но коррелирует с идеей жертвования именованием), он оппонировал идее сокрытия насущных «земных» имен – тому, что в его текстах называлось (с упоминанием И. Анненского, Ш. Бодлера, С. Малларме) «ассоциативным символизмом». Это направление символизма толковалось Ивановым в том числе и как предпочитающее при описании имеющего имя земного предмета не называть это имя прямо и сразу, но вызывать у читателя ряд ассоциативных представлений, совокупность которых позволила бы с особенной обновленной силой воспринять, при угадывании подразумеваемого имени, этот не названный предмет (2, 574). Ивановская версия символизма предполагает не разгадывание или загадывание имен, а заклание или преображение имен: в своем движении per realia ad realiora символический в ивановском смысле стих «сразу называет предмет, прямо определяя и изображая его ему присущими, а не ассоциативными признаками, чтобы потом… сорвать или опрозрачнитъ его внешние завесы» (2, 576); в лингвистическом контексте это и значит: чтобы, назвав, расшатать потом отчетливую контурность образов зримых предметов, стоящих за этими названными именами.[81]81
Энергия ивановской идеи расшатывания актов именования выплескивалась далеко за пределы внутрисимволистских споров. Так, Пушкин, по Иванову, мыслил самим (видимым, зримым) миром, и ему поэтому оставалось только именовать вещи и их отношения – ас ними и их вечные идеи. Отсюда, говорит Иванов, и кристалличность Пушкина, и свобода его выражения от субъективных апперцепции, и – это уже прямо наша тема – чистая, неокрашенно-отчетливая контурность вызываемых им образов, т. е. предметных или опредмечиваемых референтов. Отсюда же и доминирование именования: именно Пушкин, по Иванову, имяславец (4, 636), Тютчев же, а с ним, надо понимать, и сам Иванов, нет. Опредмечивающему «видению» Иванов противополагает «внутреннее ощущение»: в поэзии референцируется и передается. модальность (не ЧТО, а КАК). Тютчевские «лес, вода, небо, земля значат не то же, что лес, вода, земля, небо у Пушкина… Пушкин заставляет нас их увидет ь в их чистом обличий (создавая, как сказано у Иванова выше, зрительные контурно-отчетливые образы. – Л. Г.), Тютчев – анимистически их почувствовать» (4, 636–637), т. е. передает некое имманентное модальное состояние, достигая этого через создание мифологических суждений, которые всегда несут в себе, согласно Иванову, внутреннюю антиномичность («Тютчев – удивляющийся поэт», там же). В статьях об искусстве диады референцируемые символическим текстом состояния сознания прямо связывались Ивановым с антиномизмом («ощущение сокровенных противоречий душевной жизни, зияние которых будет приоткрывать взору тайну бытия» – 2, 193).
[Закрыть]
Применительно к синтаксической ткани стиха все сказанное означает, что в соответствии со стратегическим тезисом об отказе от акта именования в катартически-референциальном пике стиха ивановская тактика обращения с антиномическими конструкциями во всех других фрагментах стиха могла быть нацелена на поиск различных способов ослабления и погашения именовательных потенций составляющих и окружающих эти конструкции языковых компонентов.
* * *
Прежде чем обратиться к конкретике, оговорим: конечно, антиномизм участвует в формировании общей ивановской топографии поэтического мира, конечно, он связывается Ивановым с его излюбленными поэтическими формами в их целостности, влияет на внутреннюю структуру циклов и книг, на тематическое развертывание стиха, пронизывает его композиционные формы, в том числе форму диалога (не только в трагедиях, но и в лирике, где эта форма также применялась Ивановым). Однако от этих и от других – относящихся к архитектонике и к т. н. «макросинтаксису» или «большому» синтаксису – сторон ивановского антиномизма мы здесь отвлекаемся в пользу «малого» и частично «среднего» синтаксиса, как своего рода молекулярного уровня языковой плоти стиха, который в некотором смысле является тем фундаментом, над которым результирующим эффектом вспыхивает архитектоническая радуга «большого синтаксиса».