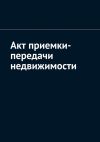Текст книги "Непрямое говорение"

Автор книги: Людмила Гоготишвили
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 57 страниц)
§ 20. Лингвистический неопозитивизм (логический и феноменологический позитивизм в лосевском понимании). Все разнообразные события в лингвистике XX века вплоть до конца 80-х гг. происходили на глазах у Лосева. Его сформировавшаяся в 20-е гг. исходная позиция, при всех очевидных дополнениях, поправках и т. д., оставалась в течение всего этого времени, по всей видимости, неизменной: философия языка, с его точки зрения, должна органично срастить феноменологические, неокантианские и символические принципы, чего Лосев в известной ему лингвистике XX века, признавая весомость достижений новых концептуальных подходов, не усматривал.
Если сформулировать главный критический аргумент Лосева, то он, по всей видимости, заключался в том, что и аналитическая лингвистика (близкая, по Лосеву, к неокантианству), и постгуссерлева феноменология сменили свойственный феноменологии Гуссерля и неокантианству (и разделяемый, напомним, Лосевым) принципиальный исходный постулат о приоритете смысла на разные версии позитивизма в его, разумеется, интеллектуально обновленном виде.[189]189
Столь же принципиально, хотя и с характерными нюансировками обработки темы, были настроены против «лингвистического позитивизма, не видящего ничего дальше языковой формы», и ученые из «круга Бахтина» (см.: МФЯ, 56).
[Закрыть] Неопозитивизм окрашивал, по Лосеву, разные направления лингвистики середины века по-разному: он мог входить в них теоретически обоснованно или контрабандно, эксплицированно или неотрефлектированно, в качестве гносеологического постулата или в виде идеологического или телеологического импульса, иногда контрастирующего с гносеологическими постулатами, и т. д. Именно этот общий «тренд» в сторону позитивизма во многом и привел, по Лосеву, к «лингвистическому повороту» в науках о духе, поскольку язык был при этом понят как то, что, сохраняя статус смыслового явления, одновременно не ставит непреодолимых препятствий натуралистическим мотивам, а при определенном ракурсе – прямо предполагает их. Так, по Куайну: «Когда философ натуралистического склада обращается к философии духа, он обязан говорить о языке».[190]190
О. Куайн. Онтологическая относительность (материал из интернета).
[Закрыть] Все значения, по Куайну, «суть значения языка», а не «призраки мысленных сущностей», значит – и не «призраки» эйдосов.
Содействовало отказу от принципа приоритета смысла или его смягчению и обычно датируемое началом века формирование современной лингвистики «как науки», поскольку научный статус лингвистики предполагает понимание языка как изолированного и обособленного предмета познания (обособленного от логики и от сознания в целом). В большинстве случаев научно ориентированная лингвистика расценивает подлежащие изучению языковые явления как такие внеположные сознанию «факты», в которых смысл объективирован и сращен с чувственной материей и которые поэтому следует исследовать (в том числе и феноменологически описывать, если отказываться от принципа редукции) в качестве внешних данностей, что предполагает, как минимум, допустимость, если не первенство позитивистских методов.
Получил определенную значимость позитивизм, отрицающий установку на приоритет смысла, и в аналитическом лингвистическом лагере, ориентированном на приоритетно понимаемую логику и на отношение к грамматике как к разделу логики. Здесь набрала силу и выдвинулась в центр (аналогичная, по Лосеву, неокантианской) тенденция расценивать логические, в том числе связанные с языком, например, с синтаксисом, закономерности как напрямую коррелирующие с «объективным миром» или изоморфные ему. См., например, концовку книги Б. Рассела «Исследование значения и истины»: «Со своей стороны, я убежден в том, что хотя бы посредством изучения синтаксиса мы можем получить значительное знание относительно структуры мира».[191]191
Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999. С. 394.
[Закрыть] Аналогично понималось соотношение языка и мира в «Логико-философском трактате» Витгенштейна: «Предложение – образ действительности… Предложение показывает логическую форму действительности»[192]192
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 45, 51.
[Закрыть] (напомним, что неокантианцы сходным образом говорили о единстве форм суждения и форм бытия). В литературе эта теория Витгенштейна иногда именуется «концепцией изоморфизма»[193]193
Печенкин А. А. Комментарий № 2 к авторскому переводу статьи У. В. О. Куайна «Онтологическая относительность» // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: Учебная хрестоматия/ Сост., пер., примеч. и коммент. А. А. Печенкина. М.: Издательская корпорация «Логос», 1996.
[Закрыть] или, как у Куайна, теорией копирования (the copy theory).[194]194
О. Куайн. Онтологическая относительность (материал из интернета).
[Закрыть] Проблемы корреляции сменяются проблемами референции, вплоть до проблем истинностных высказываний (о мире), которые выдвинулись в концептуальный центр обсуждения логического позитивизма и аналитики в целом. При развитии этих идей смысловые закономерности, включая лингвистические, также стали иногда пониматься как допускающие свою верификацию через чувственный опыт (о своеобразии неопозитивизма в феноменологическом и неокантианском «лагерях» лингвистики см. далее).
Общим фоном, возможно, несколько поглотившим – приглушившим – резкий поворот постнеокантианской и постгуссерлевой феноменологической лингвистических зон от принципа абсолютного приоритета смысла к неопозитивизму, послужила та лингвистика, которая продолжала, минуя новейшие философские веяния начала века, двигаться в русле традиционно понимаемого эмпиризма и не изымала себя из рамок тех психологических, позитивистских или типологических направлений, которые были отвергнуты в начале века и феноменологией, и неокантианством (и символизмом).[195]195
Поскольку, однако, методологический престол пуст от противоборств с новыми претендентами не бывает, и эта двигавшаяся в традиционном эмпирическом направлении лингвистика также испытывала подспудное влияние новейших философских методов. Из всех философских течений наибольшее влияние на традиционную эмпирическую лингвистику также оказали – несмотря на их принципиальный изначальный антипозитивизм – неокантианство и феноменология. Именно их интеллектуальные методы и процедуры наиболее часто использовались – не всегда эксплицированно и отрефлектированно – в проводимых в так ориентированной лингвистике исследованиях и анализах. Напр., типологические синтаксические теории, двигавшиеся от эмпирических постулатов – от сбора и накопления фактов, т. е. от эмпирически накопленного разнообразия реальных предложений– к их типологическому обобщению, а затем и к их абстрактным схемам, пользовались в применяемых при этом процедурах и феноменологическим описанием, и неокантианским абстрагированием. В качестве фундаментального арсенала средств, необходимых для выявления и типологии синтаксических схем, использовалась не столько формальная в традиционном смысле, сколько аналитическая логика, поскольку в центр типологического синтаксиса выдвинулась при этом проблема корреляции синтаксической схемы в целом или ее компонентов с действительностью, а неокантианский принцип корреляции приоткрывал для синтаксистов возможность говорить о соответствии предложений с действительностью. С другой стороны, те версии стилистики или социолингвистики, которые считали себя исходящими из «объективно существующих» и, следовательно, эмпирически наблюдаемых фактических различий в экспрессивной или социально-диалектологической окраске слов как «объективных фактов» языка, нередко пользовались при этом средствами феноменологических по импульсу теорий выражения. Эклектизм и здесь был неизбежен, поскольку принцип выражения, предполагающий вектор «от смысла к тексту», вступает в противоречие с исходным позитивистским принципом этих направлений, предполагающим, напротив, эмпирическую преднаходимость «фактической» экспрессивности в языковых явлениях (т. е. подход «от текста к смыслу»).
[Закрыть]
Вопрос о позитивизме в лингвистике сложен. Любая наука, занимающаяся своим определенным предметом, не может не включать в себя процедуры «позитивистского» характера для сбора и накопления материала. Однако проблема ведь в том и состоит, что в любой науке, а в науке о языке (который сущностно связан со смыслом и с которым операционально связан любой смысл) тем более, за любым вычленением «фактов», в том числе языковых «фактов», стоит та или иная, отрефлектированная или нет, смысловая (концептуальная, перцептивная, ценностная, модальная, «естественная», редукционистская, идеологическая или мифологическая) установка или «точка зрения», в подчиненной зависимости от которой вычленяется и формируется то, что становится «фактами», в том числе то, что считается исходными и как бы «непосредственно данными» «фактами».[196]196
См., напр., о проблематичности, дискуссионности и в целом нерешенности в современной философии истории проблемы «Что такое исторический факт» в кн.: Анкерсмит Ф. Нарративная логика. М., 2003. С. 24 и сл.
[Закрыть] Любая позитивная наука при вычленении своего автономного «предмета» в гуссерлевом смысле интенциональна, т. е. любая наука изучает те «предметы», которые высвечены в ее каждый раз специфически (в зависимости, в том числе, от «точки зрения») направленном, сфокусированном и смодулированном интенциональном луче внимания. В случае с языком организация интенционального фокуса направленного на него научного мышления имеет свои особые качества, связанные с тем, что и язык сам по себе также является сложноорганизованной интенциональностью.
§ 21. Пиррова – по Лосеву – победа феноменологии. Номинально неокантианство почти полностью исчезло с философской и еще в большей степени лингвистической сцены. Примерно с конца 20-х гг. считается (во всяком случае – в ареале континентальной европейской философии), что в борьбе феноменологии и неокантианства последнее полностью проиграло и что, соответственно, большинство формировавшихся в то время философских направлений, двигавшихся от эпицентра этого спора, развивались в качестве разных вариантов феноменологии.
Лосев, по всей видимости, оценивал произошедшее иначе: неокантианство и феноменология начали, с его точки зрения, в на рубеже 20-х гг. движение к сближению, но это сближение, однако, осталось недостигутым, что освободило место, по мнению Лосева, неорганическому эклектизму двух методов. Расценивать поэтому все дальнейшее как победу феноменологии, считал, по-видимому, Лосев, неверно: при формально феноменологическом фасаде многие вышедшие на первый план направления на деле сохранили в своих исходных постулатах неокантианскую доминанту на корреляцию-референцию (в частности, структурализм). В действительности победила и не феноменология, и не неокантианство – победила философия жизни; и вместе с ней позитивизм – как скрытая, сама себя смущающаяся внутренняя форма философии жизни. Философия жизни начала века – это внесмысловой динамизм (в отличие от смыслового динамизма неокантианства), а неопозитивизм – это внесмысловая чувственная статика (в отличие от смысловой статики феноменологии). И из того, и из другого направления был изъят принцип приоритета смысла, а это для Лосева и означало, что проиграли как неокантианство, так и феноменология.
Уточним только, что Лосев имел в виду в такой своей оценке ортодоксальную феноменологию. Напомним, что и Гуссерль считал так же, оценивая феноменологическое движение конца 20-х гг., прежде всего концепцию Хайдеггера, как покинувшее рамки феноменологии, поскольку в нем не была принята (или не была в должной мере осознана) феноменологическая редукция в ее конститутивной для феноменологии принципиальности.
§ 22. Неоправдавшиеся компромиссные ожидания Лосева. Констатируя принципиальность противостояния неокантианства и феноменологии, ранний Лосев, вместе с тем, считал, что представители этих направлений напрасно абсолютизируют взаимные разногласия, поскольку между ними имеется общее исходное поле, которое может привести к их органичному обогащенному сращению. Обоюдное поражение неокантианства и ортодоксальной феноменологии Лосев фиксировал лишь в конечном счете – как реальный итог, на протяжении же 20-х гг. он был более оптимистичен, ожидая в соответствующих течениях лингвистики полноценных шагов сторон по направлению друг к другу.
Это относительно оптимистическое прогнозирование Лосевым компромиссных поисков в лингвистике основывалось на сравнительно скором оправдании аналогичного прогноза относительно самой философии. Через несколько лет после написания «Философии имени» Лосев отмечал усиление такого рода стремлений. В частности, внутренняя эволюция в сторону компромисса с феноменологией произошла, по Лосеву, в неокантианстве – у позднего Наторпа и Кассирера. В тексте о «Философии символических форм» Кассирера Лосев не без трогательного пафоса констатирует: «…крупнейшее событие современной мысли вообще[197]197
Обращаем внимание на время написания этого текста – 1926 г. – и на соответствующую историческую ситуацию.
[Закрыть], это – разложение старого неокантианства и переход его на совершенно новые, можно сказать, небывалые рельсы… Эволюция неокантианства – событие весьма показательное, и без волнения ее никто не может переживать, кому дороги вообще интересы философии и научной методологии».[198]198
Лосев А. Ф. Теория мифического мышления у Э. Кассирера // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 730–731. Отметим, что и в кругу Бахтина положительно расценивали эту книгу Кассирера как некий «поворот» неокантианства (МФЯ, 15).
[Закрыть] В качестве доказательства эволюции неокантианства именно в сторону союза с феноменологией Лосев приводит несколько фактов, в том числе «новое» прочтение Наторпом Платона – теперь в духе неоплатонизма (о необходимости такого прочтения детально толковалось в лосевских текстах). Это «перепрочтение» оказалось, по Лосеву, возможным потому, что поздний Наторп признал, наконец, то, чего ранее не хватало неокантианству: категорию диалектической необходимости и теорию световой и символической природы смысла и идеи (там же, с. 731). Признание символической и световой природы смысла несомненно мыслилось Лосевым как самопрививка к неокантианству феноменологического черенка. Неслучайно, говорит Лосев, Кассирер (с идеями которого он также связывал эволюцию неокантианства к компромиссу) включает в свой обновленный метод ранее отрицавшуюся интуицию (с. 736) и «хвалит Гуссерля за различение акта и предмета» (с. 738). Последнее в лосевской системе координат означает, что Кассирер признал наряду с процессуальностью (актами) наличие предметно-статичных аспектов смысла (эйдетики), что, напомним, оценивалось Лосевым как главный параметр противостояния феноменологии и неокантианства. В конечном счете, говорит Лосев, «Кассирер открыто закрепляет свою связь с Гуссерлем» (с. 755).[199]199
Это, по Лосеву, «крупнейшее событие современной мысли вообще» (см. выше по тексту) лишь сравнительно недавно стало объектом пристального и детального анализа. См. в кн.: Христиан Мёкелъ. «Символическая выразительность» – феноменологическое понятие? Об отношении философии символических форм Эрнеста Кассирера и феноменологии Эдмунда Гуссерля (материал из интернета): «Взгляд на рецепцию идей Кассирера и Гуссерля показывает, что „детальный разбор отношения Кассирера к Гуссерлю… до сих пор не проводился“ (Orth, 1988…. Orth, 1989, 349). Наряду с Ортом на близость философии символических форм и феноменологии указывает американский исследователь Кассирера Дж. М. Круа (Krois, 23/24). Нижеследующие рассуждения должны внести свой вклад в прояснение отношения Эрнеста Кассирера к феноменологическому методу Эдмунда Гуссерля; в них выявляется косвенная связь трехтомной „Философии символических форм“ (1923, 1925, 1929), основного произведения Кассирера, с первым томом „Идей к чистой феноменологии“ (1913), в котором Гуссерль осуществляет поворот к трансцендентальной феноменологии».
[Закрыть]
В этой компромиссной тенденции Лосева радовало не просто признание неокантианством весомости феноменологии, но попытка объединения сильных сторон того и другого, хотя и производимая без избавления от слабых: «…соединение феноменологического метода в духе Гуссерля с трансцендентальным методом в духе прежнего функционализма Кассирера… необычайно расширяет поле феноменологического исследования и саму феноменологию делает методом гораздо более устойчивым и определенным. Пока нынешние феноменологи продолжают копаться в бессильных дистинкциях, Кассирер их же методом дал довольно полную обстоятельную картину таких не сразу поддающихся феноменологическому описанию сторон культуры, как миф, магия, культ и т. д.» (с. 755). Феноменологи же, по раннему Лосеву, не сдвинулись с места в этих вопросах: «…феноменология не может и дотронуться до мифологии… Феноменология, которая отрицает необходимость для самого феноменолога иметь соответствующий опыт, не может и прикоснуться к этому предмету…» (с. 753). Насколько можно судить, Лосев так никогда и не признает эволюцией то направление или направления, по каким пошла феноменология после Гуссерля. Во всем этом имеется, конечно, некоторая загадочность лосевского отношения к постгуссерлевой феноменологии, в частности, к Хайдеггеру (мы еще будем говорить об этой загадке, но не в этом разделе, где в основном акцентируются вопросы, связанные с аналитическими версиями языка, а в Главе 2, где реконструируется и интерпретируется лосевская феноменологическая новация и где, соответственно, тематически гораздо более кстати подробный разговор о ее соотношении с постгуссерлевой феноменологией).
Относительно эволюции неокантианства лосевский оптимизм тоже был не абсолютным. В удовлетворенно фиксировавшей эту эволюцию статье о Кассирере Лосев, тем не менее, высказывает ряд критических замечаний, сводящихся к тому, что и Кассирер, введший миф в кругозор исследования, не увидел его подлинной диалектики и подлинного места в эйдетике, не понял, в частности, что не миф надо объяснять из истории, а историю – из мифа, что та собственная внутренняя необходимость, которой, и по Кассиреру, обладает миф, не менее логических закономерностей априорна и потому чрез нее видно, по недооцененному Кассирером Шеллингу, как «бытие божественное приходит к самосознанию» (с. 737). Испугавшись «божественной» терминологии Шеллинга и оценив теорию последнего как метафизику Абсолюта, Кассирер, по Лосеву, не увидел, что мифология не только «фактаж» и не только специфическая со своими законами «форма мышления», но – часть эйдетики, т. е. срез того ее – третьего – уровня, который, как мы помним, изначально и, по Лосеву, ошибочно игнорировался неокантианством. Будучи частью эйдетики, а не только одной из форм сознания, мифология в ее лосевском понимании требует раскрытия смысла своей априорности (о лосевском толковании этого смысла см. § 70 «Миф как коммуникативный импульс эйдетического синтаксиса»), а отнюдь не фактографического описания или оценки специфики ее мыслительных форм средствами понимаемого как всесильное логического мышления, которое – вполне по исходным неокантианским лекалам – и у «эволюционировавшего», по Лосеву, Кассирера, казалось бы, признавшего эйдетику, продолжает занимать верховное место.
Лосев расценивал такой компромисс как половинчатый, не доведенный до конца и формальный. В результате этой половинчатости и все развивавшиеся в обновленном Кассирером русле теории мифа, и то лингвистическое мышление, которое строилось на аналогичных «самоэволюционировавшему» неокантианству принципах, сохранили исходные установки неокантианства в неизменном виде. В том числе – те, которые предопределили становление описанного выше главного модального противостояния лингвистических методов. Так, даже поздний Кассирер, уже пошедший на союз с феноменологией и уже учитывавший и интуицию, и эйдетически статичные аспекты смысла, тем не менее, резко снижал статус языка относительно чистого логического сознания. Критикуя чужие острые формулировки той идеи, что язык является причиной самообманов духа, более того – его «заболеваний»,[200]200
Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 329–330.
[Закрыть] Кассирер, вместе с тем, разделяет эту идею в ее объективно-нейтральном облачении. Язык (как и миф, и искусство, и наука) – это, согласно Кассиреру, один из свойственных духу специфических способов видения действительности и потому, будучи таковым, он является важной и неотмысливаемой вехой на пути к высшим научным абстракциям; тем не менее и по Кассиреру язык не способен на адекватное выражение чистого смысла, так как не выдерживает испытания логическим анализом («Имена не проходят испытания логическим анализом… вопреки этому неизбежному и неустранимому недостатку наши обыденные имена – важные вехи на пути к научным понятиям и концептам…»[201]201
Кассирер Э. Опыт о человеке. С. 597. По Кассиреру, пока отчетливо не осознаны «первичные языковые понятия», остается неполной и «чисто логическая теория понятия. Ибо все понятия теоретического познания образуют как бы верхний логический слой, основой которого является другой слой, слой языковых понятий» (Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. С. 345).
[Закрыть]). Видимо, именно по причине такого иерархизированного разделения чистого логического смысла и языка, ведущего к пониманию последнего как подчиненного и/или «рабочего» момента первого, как только подготовительной «вехи», имя Кассирера, чрезвычайно высоко оцененного в 1926 г. в качестве первой ласточки чаемого им методологического синтеза, впоследствии будет вводиться Лосевым в «черные» критические списки лингвистики (см. например, в статье 1970 г. – ЗСМ, 207).
В лингвистике, но несколько позже, тоже произошло нечто подобное. Как и в философии 1920-х гг., большую склонность к компромиссу проявила лингвистика, развивавшаяся в аналогичном неокантианству духе, в частности, аналитическая. В неполном, но символически значимом смысле установка на компромиссные смены парадигм видна в феномене «двух Витгенштейнов» – раннего (логическая версия языка) и позднего (игровая версия языка, которая хотя и осталась подвластной средствам логической сферы, но, тем не менее, была приближена к идеям выражения, в том числе непрямого, и коммуникации – за счет увязки языковых выражений уже не с корреляцией, но с игровыми инсценируемыми действиями). Общие декларации о критической ситуации в аналитической лингвистике стали раздаваться с середины 1960-х гг. Тогда же изнутри самой аналитической лингвистики был высказан и прямой тезис о необходимости поиска воссоединения с феноменологическим типом мышления. Смысл самокритичных деклараций аналитиков можно опознать как фиксацию концептуального конфликта, схожего с дискуссией между неокантианством и феноменологией, и как программу поиска компромисса между ними на том же пути, который мыслился ранним Лосевым. Во всяком случае две основные причины, которыми объяснялась возникшая критическая ситуация изнутри самой аналитической лингвистики, содержательно совпали с описанными выше двумя лосевскими параметрами противостояния неокантианства и феноменологии: с противостоянием по вектору статика/динамика, приведшему к разному пониманию количества уровней смысла (три против двух), и с оппозицией референция!коммуникация, восходящей к оппозиции корреляция!выражение.
§ 23. Движение аналитической лингвистики по направлению к статическому срезу чистого смысла. Философским стержнем противостояния по вектору статика/динамика был, по Лосеву, напомним, спор о признании или непризнании априорно данных смыслов (эйдосов) в фазе их самотождественности. Главным же собственно лингвистическим следствием этого философского конфликта стало соответствующее противостояние двух– и трех-уровне-вого понимания смысловой области в связи с языком.
Исходно двухуровневая по этой шкале аналитическая философия проявила в порядке самотерапии склонность к признанию трехуровневой семантической модели. Так, Г. Кюнг декларировал в 1969 г. необходимость введения в лингвистику феноменологической струи и соответствующего установления взаимосвязи между основами семантического понятийного аппарата феноменологии и основами семантического понятийного аппарата Карнапа, Куайна и др. – с тем чтобы хотя бы «навести мосты между феноменологией и аналитической философией».[202]202
Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. М., 1999. С. 302–303.
[Закрыть] Основной «камень преткновения» между аналитической философией языка и феноменологией Кюнг видит в том, что в последней имеются три уровня семантики (знак, смысл, референт), в аналитической же философии – два (знак, референт).[203]203
Дискуссия между двух– (экстенсиональными) и трехсоставными (интенсиональными) концепциями семантики продолжаются – см., в частности, в статье С. Гарина («Значение или референция? Экстенсиональные и интенсиональные аспекты первопорядковой логики»; материал из интернета) разбор аргументов Куайна и Хинтикки против интенсионального среза семантики: Куайн полагает, что интенсиональные понятия являются лишними (redundant), избыточными; Хинтикка, когда речь идет о первопорядковых языках, примыкает к классическим возражениям против интенсиональных семантик, которые «сводятся к тому, что практически любое семантическое явление, синонимии или несинонимии, может быть релевантно истолковано в рамках экстенсиональных языков, но при соответственном расширении и уточнении последних».
[Закрыть] Хотя в лингвистике цифра «три» в этом контексте чаще всего и закономерно ассоциируется с известной концепцией Фреге (при интерпретации которой возникают разного рода сложности с выяснением отношений между значением и денотатом;[204]204
См., в частности: МусхелишвилиН. Л., ШрейдерЮ. А. Значение текста как внутренний образ (материал из интернета).
[Закрыть] подробней мы будем говорить о фрегевской позиции ниже, при толковании радикальной лингвофилософской новации Лосева), есть, тем не менее, основания полагать, что отсутствующий в аналитической философии, по признанию Кюнга, уровень смысла и есть лингвистический аналог не признаваемого неокантианством статичного среза феноменологической гуссерлевой эйдетики.
Причину игнорирования этого дополнительного уровня Кюнг видит в том. что в соотношении знак—смысл—референт многим аналитическим философам «оказалось сложно принять смысл в качестве своего рода поддающихся именованию сущностей» (аналогичным, напомним, было стандартное возражение против гуссерлевой эйдетики), поскольку такое признание вызвало бы операциональные и концептуальные затруднения, вроде: «Как можно давать имена смыслам?». Ведь в таком случае придется вводить бесконечную иерархию смыслов, множить сущности и пр. Рассел поэтому был, по Кюнгу, удовлетворен, когда его теория дескрипций позволила ему избежать этих неудобных сущностей, поскольку ему «показалось», что он может обойтись без «промежуточного звена» между знаками и предметами (с. 305). Как видим – почти полная аналогия с лосевским толкованием дискуссии между неокантианством и феноменологией. Если, в частности, знак соотносится с референтом без промежуточного смыслового звена, это значит, что отрицается эйдетический уровень и что знак понимается как так или иначе коррелирующий непосредственно с внеположным предметом. Если же знак соотносится с предметом через промежуточное смысловое звено, само являющееся предметом знакового наименования, это значит, что предполагается нечто вроде эйдетики и что знак выражает это дополнительное смысловое звено. Картина не меняется и в том случае, если под «предметами» или референтами в треугольнике аналитика понимает как предметы внешней действительности, так и, например, понятия, т. е. логический слой, поскольку и при интерналистском признании в качестве предмета (референта) знака логического понятия аналитические концепции предпочитают обходиться без третьего, наряду с логикой и языком, уровня чистого смысла (без статического эйдетического среза смысла), постулируя прямую (без посредующего звена в виде эйдосов) корреляцию логического смысла и внеположной действительности.
«Арифметические» рассуждения о двух и/или трех уровнях имеются не только у раннего, но и у позднего Лосева. Напрасно, говорит, например, Лосев, структуралисты считают, что их предшественники – стоики, поскольку учение античных стоиков об иррелевантных структурах и отношениях имеет мало общего с теперешними беспредметными анализами языка. Стоикам был свойственен и глубокий онтологизм (ЗСМ, 168), т. е. – следует понимать – стоикам, признающим процессуальность (схоже понимаемую и в неокантианстве), была вместе с тем свойственна и феноменологическая по типу ориентация на априорно-статичный срез эйдетики (с. 182). И далее прямо появляется все та же «арифметика»: у стоиков, по Лосеву, не две (как у структуралистов), а три совершенно различные области, и третья (пропущенная неокантианством и структурализмом) – это, по формулировке позднего Лосева, «умопостигае-моданная предметность» (т. е. смысловая предметность, которая и в ранней лосевской терминологии имела синоним «умопостигаемоданной» предметности). Очевидно, что здесь имеется в виду то же самое, что подразумевалось ранним Лосевым под напрасно отрицаемыми неокантианством статично-самотождественными эйдосами феноменологии, тем более, что далее в статье прямо появится в связи с этой «третьей сферой» и имя Гуссерля.
Понятно, что само по себе введение третьей, дополнительной семантической сферы оценивалось Лосевым как шаг аналитической лингвистики в верном направлении, однако окончательно дела это, по Лосеву, не решает, поскольку хотя здесь и признается нечто, схожее со статичным срезом феноменологических эйдосов, это, с его точки зрения, все же лишь половинчатый компромисс, аналогичный тому, на какой пошло неокантианство в лице Кассирера. Здесь происходит сближение с феноменологией по параметру статика/динамика, но по-прежнему нет выхода на понимание логики как модифицированно (непрямо) выражающей эйдетику (а не самолично коррелирующей с действительностью) и, соответственно, на принцип интерпретации и коммуникативности как концептуального развития принципа выражения. В той же статье о стоическом «лектон», в которой введено понятие «третьей» сферы, в качестве второй (наряду с «умопостигаемоданной предметностью») категории, отличающей стоицизм от структурализма, напрасно зачислившего стоицизм в свои предтечи, названа энергия (ЗСМ, 182), с которой в качестве общей регулятивной идеи его концепции связывалась Лосевым, как уже говорилось, общая категория выражения, и, соответственно, интерпретативность и коммуникативность, которые понимались как фундаментальные, природообразующие свойства языка, определяющие его преимущественно непрямые формы передачи смысла. В конечном счете проблема чаще всего – и, по Лосеву, неизбежно – опять замыкается в пошедшей на формальный компромисс аналитической лингвистике на идею корреляции и связанную с ней идею изоморфного (прямого) соответствия языкового выражения – «положению дел» в «самом» мире (идею истинности языковых высказываний).
По-видимому, это происходит потому, что и будучи введенной, третья сфера, предполагающая статический срез чистого смысла, не понимается в учитывающей ее аналитике как обладающая своей отдельной, самостоятельной смысловой самоценностью, т. е. она не обособляется, как в феноменологии, в третий (доминирующий, по Лосеву) уровень сознания – в эйдетику. Она рассматривается только как промежуточное звено или как прозрачный медиум, лишь слегка преломляющий коррелятивно-референцирующий луч, между теми же двумя исходными аналитическими сферами – логическим значением и внеположным референтом. Так, Кюнг, настаивающий на введении третьей сферы, прямо характеризует при этом роль третьей сферы как «промежуточно-функциональную» (с. 212 и далее). Согласно его трактовке, статический смысл, не учитывавшийся ранее аналитической философией и предлагаемый им к введению в качестве третьей сферы, сам по себе не является референтом, референт может только «за ним» стоять – и только лишь в случае истинного языкового высказывания (у Гуссерля, напомним, эйдетика является для логики самоличным предметом выражения; то же, что «стоит» за эйдетикой, логикой выражаться не может). Тем самым, принятое «три» опять истончается у Кюнга до «два», т. е. компромисс Кюнга заканчивается исходной двучленностью, упираясь в ту же проблему – в проблему изоморфного соответствия (или корреляции) логики, т. е. логического языка, «самому миру»: «построение логических систем чрезвычайно ясно ставит фундаментальные проблемы отображения. Соответствия между символическими выражениями системы… и описываемой реальностью можно анализировать во всех деталях… Связь между логическими языками и онтологическими позициями делает возможным новый способ прагматической оценки последних» (с. 213, 217).
Лосев же полагал, что дело не только в том, чтобы признать в самом чистом смысле наряду с процессуальностью и априорно-статичный срез (такое признание позитивно своей потенциальной и на деле реализованной структурализмом способностью вывести исследовательскую мысль на инварианты), но и в том, чтобы ввести вместе с этой идеей в противовес принципу корреляции и принцип модифицированного (непрямого, но способного «передавать смысл») выражения, что возможно только в том случае, если эйдетика будет признана в качестве того, что непосредственно является целью выражения в логике. В противном случае аналитической логике просто нечего «выражать», она принуждена соотносить себя непосредственно с «действительностью», что и происходит в варианте Кюнга: идея выражения опять поглощается корреляцией, и, соответственно, идея референции продолжает подавлять идею модифицирующих смысл выражения и коммуникативности (а с ними, по-видимому, и идею интенциональности).
Этот компромиссный путь для самой аналитики бесперспективен, считал Лосев, ибо уже проверен неокантианством. Если аналитика признает необходимость введения статического среза чистого смысла, но будет при этом размещать его в том же концептуальном пространстве, в котором действуют ее исходные процессуальные смысловые закономерности, т. е. в логике, то она тем самым подрубит сук, на котором сидит: неокантианство формировалось как обособленное течение на своих ранних ортодоксальных стадиях именно за счет принципиальной критики статичных аспектов чистого смысла (имен, понятий и т. д.), поэтому механический возврат статических аспектов без их какого-либо обновленного толкования (например, как относящихся к эйдетике, а не к логике) равносилен самоотрицанию исходных постулатов и потому размыванию концептуальной однородности и цельности теории.[205]205
Отчетливо ситуация, сложившаяся при развитии этого варианта компромисса с феноменологией, была сформулирована Р. Рорти. Если другие авторы говорили о чем-то вроде кризиса аналитики, из которого нужно и можно найти выход, то Рорти констатирует, что аналитика покончила самоубийством (Американская философия сегодня // АФ, 451). Его поддержали и другие: «Аналитическая философия не умерла от старости, а была низвержена в самом расцвете сил. И это не дело рук ее противников; ее кончина была подготовлена ею самой – в действительности программа совершила самоубийство» (Решер Н. Взлет и падение аналитической философии // АФ, 463).
[Закрыть]
§ 24. Движение аналитической лингвистики по направлению к коммуникативности. Спор вокруг интенциональности. Совпала с лосевским критическим толкованием общей ситуации в лингвистике и вторая часто называвшаяся причина критической ситуации в аналитической лингвистике, оцениваемой изнутри нее самой, – недооценка концепта коммуникативности и тем самым коммуникативной стороны естественного языка в целом.
Согласно, например, П. Стросону, в лингвистике имеется пока едва заметный (оценка давалась в 1968 г.), но чрезвычайно существенный конфликт между теоретиками коммуникации-интенции и теоретиками формальной семантики.[206]206
Стросон П. Значение и истина // АФ, 214.
[Закрыть] Первые склонны, по Стросону, считать, что коммуникация-интенция есть базовая составляющая значения вообще и, следовательно, детерминирует самую природу языка, определяя и его сущностные свойства, и формы становления и протекания языкового смысла. Вторые придерживаются того мнения, что коммуникация-интенция не входит в базовый уровень значения и смысла и, соответственно, в сущность языка, что это – периферия языковой жизни, почти случайность, что значение предложений детерминировано семантическими и синтаксическими правилами, не имеющими никакого отношения к интенции и коммуникации, а определяемыми совсем иным параметром – условиями истинности, т. е. – в нашей терминологии – описанным выше принципом корреляции «референту» (ибо истинность в этом смысле как раз и есть «параметр измерения» степени корреляции). Одна из причин раскола кроется, по Стросону, в том, что «понятие корреляции… слишком неопределенно» (там же, с. 224). Совпадает с лосевской и даваемая Стросоном оценка фундаментальности этого схожего с противостоянием феноменологии и неокантианства конфликта: «Столкновение по такому центральному для философии вопросу несет в себе нечто гомеровское, в таком столкновении должны участвовать боги и герои. Я могу назвать по крайней мере некоторых живых полководцев и доброжелательных духов: с одной стороны, скажем, Грайс, Остин и поздний Витгенштейн, с другой стороны – Фреге, ранний Витгенштейн иХомский…» (с. 214–215).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.