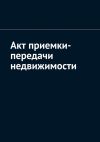Текст книги "Непрямое говорение"

Автор книги: Людмила Гоготишвили
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 57 страниц)
Объективирующий подход к априорным логическим закономерностям – не ортодоксально феноменологического образца; он более органичен для аналитического неопозитивизма, в своих основоположениях схожего здесь с неокантианством. Феноменологическое созерцание в его гуссерлевом понимании не может объективировать свой предмет вовне себя без того, чтобы перестать быть феноменологическим, феноменологический «предмет» всегда «остается» внутри сознания – в противном случае это, по Гуссерлю, уже не феноменологическое созерцание. С точки зрения феноменологического созерцания, действующий описанным выше способом логик имеет дело с «зафактованными» мыслительными схемами, вынесенными вовне сознания. Такой предмет исследования законен и интересен, но феноменологу с ним делать нечего. Аналитик же умеет результативно оперировать с ним.
Вместе с тем, переведенные в пространство «вовне сознания» логические схемы могут начать сближаться с «действительностью», поскольку «бытование вовне сознания» является конститутивным признаком последней. В случае такого сближения логических схем и действительности в качестве однопорядкового и одноприродного бытия, между ними начинает искаться – и находится – прямая коррелятивная связь, минующая всякое сознание. Знак равенства в математической формуле или разлагаемая в многоместную схему семантика предиката воспринимаются здесь в качестве почти таких же эмпирических «фактов», как «комната» и «стол», как «расположенность» стола в комнате; как «стол» и «подоконник», высота которых эмпирически дана в неком «факте их равности». Неотмысливаемая смысловая природа этих новообретенных объективированных «фактов» странным образом никак их сближению с действительностью аналитике не мешает, хотя, если развить содержащуюся здесь предпосылку, это сближение предполагает, что смысловой компонент вводится, тем самым, во все «факты» «объективной действительности» (т. е. в сам «стол», «подоконник» и т. д.). А это похоже на платонизм как раз в той его интерпретации, в которой он резко критиковался антиметафизически настроенными аналитическими концепциями.
Этот прием сближения объективированного и вынесенного вовне сознания смысла с действительностью, таким образом, не нов, напротив – традиционен; возможно, как раз поэтому он и не отторгается «сразу же». Но дело здесь совсем не в солидности платонической традиции, на которую любому направлению как бы позволено научным сообществом опираться без всяких дополнительных объяснений – как раз платонизм в этих концепциях и опровергался; дело, по Лосеву, в привычках и инерции позитивистского мышления. Отношение к смыслам как к эмпирическим фактам является в позитивистски настроенном гуманитарном мышлении одним из основных методов, продолжающих сохранять свою силу. Аналогично, например, мыслит развивающаяся в этой философской традиции лингвистика, объект исследования которой, с одной стороны, всегда включает в себя смысловую составляющую (отказ от которой был бы равнозначен отказу от языка как своего предмета), но которая, с другой стороны, тем не менее, эксплицитно и целенаправленно самоориентирована на описание языка как совокупности или системы эмпирически наблюдаемых «фактов» (фонетических, морфологических, лексических, семантических, синтаксических и т. д.). Лингвистика этого типа при всех декларациях о необходимости примирения не может вступить в органичный союз с феноменологией. Логик при установке на факты, даже если он стремится к компромиссу с феноменологией, тоже не может примириться с феноменологом, поскольку и в таком случае логик продолжает занимать позицию вне смысла исследуемых им аналитических мыслительных схем. Объективируя их, он, как и лингвист, отвлекается от информативного для него наполнения анализируемых мыслительных форм и абстрагируется от их непрямой смысловой коммуникативности.
§ 63. Коммуникативный постулат Лосева и идея предмета речи как свернутой точки говорения. Лосевская позиция предполагает, что при рассмотрении любого и каждого «факта» мы можем перевести «познавательный курсор» на его смысловую явленность в сознании – эта операция признавалась и использовалась многими интеллектуальными познавательными методиками. Но тот вывод, к которому пришел Лосев при использовании этой операции, возможно, чуть скорректировав ее, оказался, как мы видели, действительно радикальным: Лосев утверждает, что смысловая явленность любого факта в сознании, если подходить к ней по лекалам феноменологического созерцания, всегда будет имманентно содержать в себе неотмысливаемую без того, чтобы предмет не рассыпался в руках, коммуникативную составляющую. Неотмысливаемая коммуникативность имеется, по Лосеву, у всех без исключения «интенциональных объектов» феноменологического созерцания, всегда имеющих смысловую составляющую. «Без исключения» – значит не только включая самоё эйдетику (о чем уже говорилось), но включая и любой другой интенциональный объект. Вопрос о том, действительно ли мыслилось Лосевым такое расширение идеи любого предмета речи как свернутой точки говорения, а значит – как коммуникативно активного, остается до некоторой степени спорным, однако конкретные анализы естественного языка, проводившиеся поздним Лосевым, дают основания для такого предположения.
В том числе и с целью подведения к последнему предположению выше проводились аналогии с лингвистикой. Лосевское понимание сферы аналитических логических исследований как долженствующей быть пронизанной априорной неотмысливаемой коммуникативностью прояснится, если на место ранее фиксировавшегося источника этой пронизывающей логику априорной коммуникативности – коммуникативного акта на неком «эйдетическом» языке, что звучит экзотически и для логика и для лингвиста, – условно поставить коммуникативные акты на языке естественном. Тогда аналогом лосевского понимания аналитики, действующей в некоммуницированном смысловом пространстве, будет то, что в русской филологии называлось формализмом, а затем структурализмом. Эта филологическая методика, при всем ее декларируемом учете «коммуникативной функции» языка (Р. Якобсон), в действительности отсекает, по Лосеву, реально коммуникативные слои речевого акта. Коммуникативность как категория здесь вводится, но фактически понимается при этом как зеркально дублирующее понимание слушающим «прямого» замысла говорящего. Такое дублирующее понимание дезавуирует предшествующее введение категории коммуникативности, делая это введение фиктивным, поскольку коммуникативный импульс всегда в естественном языке вовлечен в сферу непрямого смысла. Если же предполагается, что слушающий зеркально отражает замысел говорящего и при этом сам коммуникативный замысел понимается исследователем как то, что формально-семантически и прямо-эксплицитно выражено в высказывании, то исчезает гуссерлианскии по генезису концепт подразумеваемости («имения в виду») и вариативности смысла, в том числе всякое различие между локуцией и иллокуцией, т. е. исчезает само поле, в котором можно было бы разместить концепт всегда непрямой коммуникативности. Структурализм, во всяком случае отечественный, основывался, с лосевской точки зрения, на специально оговоренном понимании коммуникативности как зеркально-дублирующего замысел понимания, и потому он считал себя методологически вправе «останавливать» это тождественное и для говорящего, и для слушающего единое высказывание, объективировать его вовне сознания и фиксировать остаток в виде «текста», т. е. переводить свой объект в некий внешний «факт», в котором, как предполагалось, и содержится искомое общее для всех участников коммуникативного акта «прямое» и «готовое» содержание (так же толковал структурализм Бахтин – см. Собр. соч. Т. 6). Эстетический акт, например, фиксируется структурализмом в виде литературного текста, то есть эстетическая коммуникация редуцируется до объективированного факта-текста, а затем исследуются формальное строение и «материальный» состав этого «факта». И в эстетике, и в языкознании такой подход дает полезные результаты, но он не дает представления ни об эстетическом акте в его целом, в том числе об имманентно содержащейся в нем катартической (а это и значит коммуникативной) энергии, ни о языковом акте общения, ни о самом концепте коммуникативности как таковом, ни о всегда непрямом, модифицируемом смысле. Синтаксисты, например, могут вполне обоснованно и в определенных рабочих целях «зафактировать» любое предложение и проанализировать его формальное строение, но этот анализ будет полностью абстрагирован от коммуникативного непрямого заряда, органично присущего каждому реальному предложению. То, что действительно находится в руках логика-аналитика или синтаксиста в случае применения такого приема – это не реальное предложение из реального языкового акта, а лишенная коммуникативных свойств и потому непрямого смысла пропозиция. Концепты коммуникативности и непрямого смысла проскальзывают сквозь ячейки такой методологической сети, не улавливаются ею.
§ 64. Коммуникативность и пропозиция. Пропозиция у Лосева – это абстрактно взятая синтаксическая композиция смысловых элементов, рассматриваемая без коммуникативной составляющей (какая бы установка при этом ни декларировалась). Известна противоположная версия, согласно которой, поскольку понимание есть зеркальное дублирование замысла, выявляя смысл пропозиции, мы, тем самым, выявляем и ее коммуникативный заряд. В таком случае коммуникативный импульс приравнивается к формально-семантической структуре высказывания и тем фактически лишается всякой самостоятельности.
Предполагаемая в лосевской версии независимость коммуникативного импульса от формально-семантической структуры доказывается, как кажется, весьма просто: при любом реальном воплощении такой абстрактной пропозиции, будь то в логическом мышлении или в языке, т. е. при ее обратном перемещении из сферы объективированных «фактов» внутрь сознания и рассмотрении в составе реального коммуникативного акта, она наполняется дополнительным смысловым слоем – коммуникативными импульсами, причем самого разного рода. Если взять традиционный пример лингвистической пропозиции Иван зарядил ружье, то коммуникативный заряд этой единой в формально-семантическом отношении пропозиции в случае ее воплощения в реальной речи может быть самым разным. В каких-то случаях, но не всегда и не обязательно, он может совпасть с формальной предикативной частью предложения (такие совпадения и служили причиной того, что предикат часто рассматривался как утверждение, т. е. как нечто коммуникативное), но коммуникативная информация может, напротив, содержаться в субъекте или в дополнении. Высказывание, состоящее из этой пропозиции, может быть вопросом или предупреждением об опасности, может вообще быть лишь частным компонентом какого-то извне объемлющего его коммуникативного смысла (если данное предложение, например, условно или искусственно изолируется из целого высказывания, то тогда коммуникативность как бы разольется по всей структуре анализируемого предложения) и т. д.
Лосев предполагал, что все аналитические суждения, силлогизмы, умозаключения и их части, т. е. то, что составляет базу логики, надо понимать в качестве таких же редуцированных от коммуникативности и возможной непрямоты смысла пропозиций. В случае их реального воплощения они, с лосевской точки зрения, ничем не отличаются от тех «бытовых» языковых выражений, вроде нашего зарядившего ружье Ивана, которые обычно на пушечный выстрел не подпускаются к логике. Все люди смертны, например, можно коммуникативно подать так же как и Иван зарядил ружье: и с коммуникативным акцентом на люди, и с акцентом на все, и с акцентом на смертности, эту пропозицию можно подать и как констатацию, и как вопрос, и как сентенцию, и как сомнение, и как радостное утверждение и т. д. и т. п.
Естественно, концепт пропозиции (активный, кстати, у Гуссерля) широко используется и в аналитической логике, и в следующей за ней лингвистике, он «удобен»: он санкционирует изучение смысла изолированно от коммуникативности и непрямых смыслов. Цель ясна и понятна: она состоит в том, что изоляция семантических формул от коммуникативности и помещение их в разряд логических пропозиций может толковаться как изоляция смысла от субъективности, поэтому аналитически закономерное и последовательное развертывание силлогизма из пропозиции можно будет понять как отражение «объективного» (всеобщего) развития смысла. Но, вместе с тем, именно в связи с формальным согласием Лосева с аналитикой по поводу сути пропозиции, этот концепт иллюстрирует и радикальность лосевской новации, поскольку наш спорный вопрос получает выразительно обостренную формулировку: каков статус полученного таким путем смыслового дискурса? Можно ли считать, что отвлеченные от коммуникативности пропозиции и их аналитическое развертывание сами по себе являются истинностным отражением некоего «положения дел» в действительности? Или пропозиция не может соотноситься с действительностью напрямую, минуя коммуникативный слой смысла? Аналитика в пределе придерживается первого варианта ответа, Лосев – второго. Собственно говоря, относительно речи на естественном языке правота лосевского ответа очевидна: всякий говорящий может попросту лгать. Ведь не только иллокуция, но и выстраивание пропозиции полностью в его власти: реальный Иван мог и не заряжать ружья. Действительную же остроту вопрос об истинностной силе пропозиций получает при его переводе в логическую сферу, включая возникающую здесь проблему истинности языковых воплощений аналитических суждений.
С лосевской точки зрения, категория пропозиции получила широкое распространение в аналитически ориентированных логике и лингвистике в соответствии с исходной установкой на критику априорно данной смысловой статичности (понятий и имен) и с выдвижением на первый план процессуальности. Однако пропозиция в ее неокантиански ориентированном (т. е. схожем с «суждением») лингвистическом исполнении так и не сумела оторваться от категории понятия (или имени) и концептуально противопоставить себя ей. Никаких существенных продвижек в понимании проблемы истинности понятие пропозиции, по Лосеву, пока не дало. Лосевское рассуждение, ведущее к этому выводу, примерно таково: если то, что рассматривается в аналитике как априорные логические схемы мышления, принять за отвлеченные от коммуникативности пропозиции, то в таком случае вопрос о корреляции логических схем действительности будет зависеть от понимания истинностного статуса того «исходного смыслового нечто», аналитическим развертыванием которого эти схемы являются. Сама по себе процедура аналитического развертывания безусловно содержит в себе истинность, но истинность не относительно внешней действительности, а относительно того исходного смысла, который аналитически развертывается. Понятие «люди» истинно содержит в себе «смертность», но каков статус самого понятия «люди» относительно действительности? Точно так же пропозиция «Xрасположен в Г» адекватно отражает структуру предиката «располагаться», но каков статус самого этого предиката относительно действительности? Каков вообще статус подвергаемого аналитическому развертыванию смысла относительно «действительности»? Или шире: каков статус логических операций в семантике относительно «действительности»?
Если принимается точка зрения, что априорные логические схемы в виде пропозиций адекватно коррелируют с действительностью, то, тем самым, предполагается, что с действительностью непосредственно коррелирует и логическая семантика. Это значит, что статус прямых коррелятов придается значениям. А такой тезис, вопреки системе исходно выставляемых постулатов, в которой отвергается идея универсальности понятий, можно понять как процессуальную модификацию того самого классического, критикуемого аналитикой за метафизичность «статического» тезиса, согласно которому статусом непосредственной корреляции с сущностью обладают понятия (имена). Процессуальная модификация, которой подверглась эта исходно статическая идея, никак не затрагивает ядра самой идеи корреляции: речь и в таком случае продолжает вестись о том, что нечто «семантическое» прямо коррелирует с «миром». Все опять возвращается на круги своя.
В аналитике, ощущавшей, по-видимому, свое не предполагавшееся возвращение к отвергаемым принципам, разрабатывалась направленная на предотвращение этого возврата идея, согласно которой проблему, вызываемую неясностью отношений между логической семантикой и действительностью, следует обойти, полностью отказавшись от семантики. Предлагается, напр., считать, что если семантику из логики изъять, т. е. если абстрагировать смысл, например, до голого прокловского «числа», то, тем самым, откроется выход на не требующие естественного языка – и потому семантики – математические формулы, относительно которых можно говорить, что они, будучи лишены «недостатков» языка (его субъект-предикатной структуры, коммуникативности, непрямоты, неясности статуса семантического пласта сознания), прямо коррелируют с действительностью. Идея кажется законной, но Лосев отвергает и это положение, считая его неисполнимым. С его точки зрения, снять семантику полностью невозможно. Не только логическое, но и математическое знание полной формализации, по Лосеву, не поддается, так как и в нем всегда остается некий семантический слой или, если угодно, семантико-смысловой зазор между мышлением и действительностью. Даже натуральный числовой ряд не свободен от семантики полностью. Мы можем выражать его математическими значками, но от этого семантическая составляющая самого принципа различения чисел не исчезнет.
Логическое мышление, согласно Лосеву, не может не оперировать с семантикой в той или иной степени ее насыщенности или редукции. А так как этот неустранимый пласт значения генетически связан со смыслом, который по его утверждаемой Лосевым природе всегда есть нечто коммуникативное, это и значит, что коммуникативность необходимым образом входит и в пропозиции. Отсюда и лосевский вывод о том, что пропозиции не могут рассматриваться как непосредственно коррелирующие с действительностью. Истинность формально-семантических структур зависит от статуса порождающих их – всегда коммуникативных и содержащих семантически непрямые компоненты – смысловых полей сознания.
§ 65. Постулат о коммуникативно-неизоморфной природе смысла. Объединенно-концентрированную совокупность этих лосевских идей можно назвать постулатом Лосева о коммуникативной и потому неизоморфной природе смысла. Любой смысл, включая априорный, – коммуникативен, любая коммуникация, включая эйдетическую, – смысловая (любое высказывание «говорит» о смысле, а не о «действительности» или «сущности»). Коммуникативны и все производные от смысла, включая логические значения, аксиологическую и прагматическую сферы сознания (в том числе коммуникативна по своей природе и истина).
Этот постулат, безусловно, потенциально экспансивен, он содержит в себе энергию к экстенсивному распространению своего действия на все поле сознания, но Лосева это никак не останавливало. Так, при переводе этого постулата на более стандартную философскую терминологию он означает в лосевских текстах, что всякое явление сущности есть смысл, и потому лосевское решение дискутируемого философией соотношения сущности и явления таково: всякое явление есть коммуникативно организованная информация о сущности. Коммуникативно же организованный смысл (явление) в принципе не может быть изоморфен несмысловой (сущностной) сфере. Иное понимание было бы, по Лосеву, тем банальным пантеизмом, который оспаривался в том числе и аналитикой. Сознание не отражает изоморфно сущность и не познает ее в коррелятивно-адекватных формах, а общается с ней («Тайна слова заключается именно в общении с предметом…» – ФИ, 38). Постулат о коммуникативно-неизоморфной природе эйдетического смысла и смысла вообще интенсифицируется Лосевым и переформулировывается в постулат о коммуникативной природе любого феномена.
Коммуникативный постулат – константа лосевской мысли. Философ сущности и статичного имени, как его часто квалифицируют в литературе, в большей мере был философом коммуникации. Коммуникативный принцип пронизывает все работы Лосева, от самых ранних до последних, облекаясь при этом в различные терминологические одежды. Если ранний Лосев несколько метафорически (или – на аналитический слух – «метафизически») говорит о слове как об «общении с предметом», то у позднего Лосева этот принцип, напротив, выражен в нарочито нейтральной и сухо терминологизированной форме. В частности, в качестве базовых универсалий смысла, отражающих его коммуникативную природу, Лосев использовал получившие в то время широкое распространение частные научные понятия информация и программа.
В толковании категории информация в качестве универсалии смысла явственно слышится лосевская историческая ирония. Термин информация в поздних текстах – не что иное, как выхолощенная модификация того самого понятия чистого смысла, приоритет которого был фундаментальной установкой философии раннего Лосева. Поздний Лосев, сменив (под влиянием изменившейся исторической и научной ситуации) феноменологическую категорию смысла, часто воспринимавшуюся в то время как расплывчато-вычурная, считавшимся тогда строгим понятием информация, сумел, тем не менее, вместить в него почти весь объем имевшегося им в виду концепта. В самом деле, в понятии «информация» оказались потенциально объединены оба подчеркиваемых ранним Лосевым момента – и смысловая природа (в привычном употреблении данного термина этот компонент несколько заглушён), и коммуникативный, часто непрямой заряд, предполагаемый радикальной новацией эйдетики (в привычном к тому времени словоупотреблении последний компонент имплицитно предполагался, хотя мог эксплицитно не развертываться). Что касается понятия программа, выдвинутого поздним Лосевым в качестве второй универсалии, то оно применялось в контекстах, которые имели отношение к тому, что в ранних текстах описывалось как проблема соотношения эйдетики и логоса, т. е. эйдосов и логико-аналитических схем мышления. Это понятие также было выбрано Лосевым, скорее всего, вследствие потенциально содержащегося в нем, но не всегда замечаемого и, во всяком случае, не всегда эксплицируемого коммуникативного компонента. Действительно, можно увидеть некоторую аналогию между коммуникативным использованием этого термина Лосевым и тем понятием программы, которое установилось, по-видимому, позже в компьютерной сфере: программа понимается здесь как некая заданная система операционных действий, включающаяся под воздействием приходящих извне строго определенных импульсов. Это значит, что при всей своей формализованности компьютерные программы содержат в себе прагматический, а следовательно, и интересовавший Лосева коммуникативный алгоритм. Они «включаются» и «действуют» в соответствии с извне идущими командами, на которые предусмотрены определенные системные реакции, т. е. «действуют» в виде своего рода запрограммированных коммуникативных актов с пользователем. Хотя программы составлены исключительно из формализованных и математизированных схем и алгоритмов, они, тем не менее, одновременно обладают при этом целенаправленной коммуникативной организацией. Если в соответствующей литературе это обстоятельство оценивается по большей мере как эпифеномен, то, с лосевской точки зрения, коммуникативный алгоритм не есть нечто, привнесенное в логические формальные модели извне, т. е. нечто, добавленное к ним в связи со специфическими потребностями, возникающими в процессе «общения» человека с компьютером, но представляет собой имманентную природу этих моделей, самоэксплицировавшуюся в результате бурного развития, казалось бы, чисто аналитических и полностью абстрагированных от коммуникативности математических моделей логики и языка.[258]258
Сходное по основному направлению (но отличающееся по толкованию) понимание феномена «вычислительность», фундирующего работу компьютера, разрабатывается Д. Серлем, согласно которому все операциональные процессы как процессы синтаксические не свойственны самим объектам, а осуществляются лишь относительно внешнего наблюдателя (Открывая сознание заново, с. 196–198).
[Закрыть] Эта эксплицитно выявившаяся коммуникативность искусственных логических и языковых моделей прямо подтверждает, по Лосеву, его идею об имплицитной коммуникативности логической сферы в целом: та или иная степень имманентной коммуникативности содержится во всех без исключения формализованных логических и языковых моделях.
Понятие программы имеет, таким образом, прямое отношение к лосевскому пониманию логики как коммуницированной сферы, зависимой в этом отношении от эйдетики. Тот факт, что в основе программ, действующих в результате коммуникативного акта с пользователем, лежат абстрактные логические и математические закономерности, Лосев интерпретирует в том смысле, что законы развертывания логических схем имеют коммуникативный алгоритм и телеологию. Это значит, что любая синтактика смыслов, включая языковой синтаксис, имеет коммуникативную телеологию. Как коммуникативно ориентированный синтаксис понималась Лосевым и внутренняя природа логики.
§ 66. Логика как синтаксис. Но коммуникативным синтаксисом какого языка является у Лосева логика? Не естественного: отождествление логики с естественным языком – либо философское заблуждение, либо технический и условный прием с ограниченным полем применения. Вопрос о действительном смысле придания логике коммуникативно-синтаксической природы разрешается ранним Лосевым посредством подключения третьей – эйдетической– сферы и развертывания радикальной идеи об эйдетическом языке. Логику следует, так можно интерпретировать Лосева, толковать не как прямое отражение (корреляцию) действительности и не как синтаксис естественного языка, а как раздел коммуникативного синтаксиса эйдетического языка.
Но что может означать это утверждение – «логика есть раздел синтаксиса эйдетического языка»? Это может означать, что логика реконструирует в своих закономерностях не процессы в самой действительности, а те априорные и коммуникативно-языковые по природе законы, в соответствии с которыми действительность является сознанию в виде смысла. Из этого, в свою очередь, следует, что логика непосредственно завязана на априорную эйдетику и что аналитические закономерности имеют, по Лосеву, непосредственное отношение к законам адекватного выведения коммуникативной информации из априорно данной сознанию смысловой сферы.
Такова же, напомним, в лосевском понимании и диалектика, которая тоже толковалась как эйдетический синтаксис. Где же в таком случае тот принципиальный водораздел между логикой и диалектикой, о котором говорится во всех без преувеличения лосевских текстах?
§ 67. Взаимоотношение логики и диалектики как разных разделов синтаксиса эйдетического языка. Среди разнообразных лосевских определений эйдоса есть и такое (даваемое при подходе специально к логосу), в котором имеется прямая параллель с субъект-предикатным строением языкового высказывания: «5 эйдосе два момента – созерцательно-статический и диалектически-подвижный; разделение их условно и на деле нет одного из них без другого» (ФИ, 95). Если развернуть основную лосевскую новацию о введении эйдетического языка в эту сторону, то разницу между логикой и диалектикой, равно оцениваемыми в качестве разделов синтаксиса этого языка, можно понять следующим образом. Первая анализирует «созерцательно-статический момент эйдоса» («абсолютно-простая, цельная и неизменная индивидуальная общность внутри самоподвижной неделимой сущности» – там же), т. е. субъектную часть «послания» на эйдетическом языке (его пропозицию, локуцию, тему и т. д.). Диалектика же претендует у Лосева на то, чтобы реконструировать закономерности строения собственно предикативной (разворачивающей смысл, рематической, коммуникативной) части априорного эйдетического «послания» («5 аспекте диалектической подвижности каждый… эйдос… предполагает соответствующее меональное окружение, на фоне которого он из нерасчлененного единства превращается в расчлененный образ, пребывающий в неизменном движении» – там же). Такое толкование лосевской идеи соответствует его описанному выше положению о том, что логика занята пропозициями (или локуциями, если использовать пару локуция – иллокуция), т. е. тем, что условно может быть отрешено от предикативного и тем более собственно коммуникативного (иллокутивного) импульса, но что, тем не менее, является одной из сторон коммуникативного эйдетического высказывания (аналогично тому, как субъект предложения естественного языка может анализироваться в изоляции от предиката – с точки зрения, например, его референцирующей силы, но тем не менее и субъект содержит в себе и коммуникативную функцию, и непрямую природу). Логика извлекает и разворачивает вовне внутреннюю смысловую структуру «положенного» субъекта эйдетического коммуникативного высказывания (логос живет выделением и перечислением моментов эйдоса как простого и цельного – ФИ, 97), отвлекаясь (абстрагируясь) от содержащегося в эйдосе динамического момента («Давая снимок отношений в данную минуту», логос «отражает на себе непрерывность изменения» эйдоса «и потому совершенно стационарен» – с. 97–98). В определенном смысле это значит, что логос законно, по Лосеву, отвлекается от предикативного и коммуникативного импульса, требующего со стороны сознания иного рода смысловой активности – активности понимания и развертывания смысла (так как «коммуникативный акт отличен от простого акта полагания предмета»).
Диалектика, по Лосеву, напротив, направлена на реакцию со стороны сознания именно на требование такой активности и стремится реконструировать (усмотреть) не аналитические, а закономерно предикативные (антиномические и синтетические) смысловые ходы. Так, традиционное «Все люди смертны и т. д.» – это, по Лосеву, аналитическое развертывание внутренней смысловой структуры субъекта эйдетического высказывания,[259]259
Как бы этот субъект ни понимать: под ним можно разуметь илюди, и «смертность (понятие люди содержится в понятии смертность так же, как понятие смертности содержится в понятии люди), и в целом пропозицию все люди смертны в целом. Не случайно, идея множественности логических субъектов в такого рода семантических формулах активно развивалась в аналитике (Ч. Пирс) – эта идея зиждется на отсутствии в пропозициях коммуникативного (предикативного) момента. Стоит присовокупить этот момент, как из множественности логических субъектов выступит один, активизируемый в данном случае. Лосев в „Философии имени“ говорил аналогичное: в логике отсутствует различие между понятием и суждением, и фактически логика может ограничиться лишь первым из них. Это и значит – в переводе на нашу тему – что логика есть раздел эйдетического синтаксиса, имеющий своим предметов субъектную часть эйдетического высказывания.
[Закрыть] а парменидовское «если есть одно, значит есть и многое и т. д.» – это реконструкция предикативного импульса эйдетики, предшествующего собственно коммуникативному и частично сплетающегося с ним. В логическом смысле многое не содержится в одном, т. е. не связано с ним аналитически (как люди и смертность) и не является результатом аналитического развертывания внутреннего смыслового строения одного, если его брать в качестве субъекта эйдетического высказывания. С другой стороны, многое тоже связано с одним априорной и закономерной смысловой связью, однако связано иным – не изнутри субъекта развертываемым, а синтактическим образом, являясь с необходимостью появляющимся внешним предицирующим фоном для одного, если последнее интенционально взято созерцающим сознанием в форме самотождественной эйдетической предметности (и наоборот). Для экспликации этой априорно закономерной внешней синтактически-смысловой связанности эйдосов от воспринимающего требуется активность иного рода, нежели аналитическая.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.