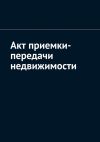Текст книги "Непрямое говорение"

Автор книги: Людмила Гоготишвили
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 57 страниц)
Грядущего господства позитивизма Лосев опасался заранее, с самого начала 20-х гг., поскольку усматривал его приметы во многом: не только в идеологически-политической атмосфере времени, но в том числе и в самих методах тогдашней философской борьбы с самим позитивизмом. Уже говорилось, что латентный позитивизм усматривался Лосевым в основе кантианского типа мышления; не составлял, как это ни странно на первый взгляд, в этом отношении исключения, с лосевской точки зрения, и основной гуссерлев метод феноменологии – описание усмотренных эйдосов. Хотя исходно феноменологическое описание формировалось в резком противостоянии психологизму и эмпиризму – с точки зрения прокламируемого «объекта» своего приложения (описание направлялось не на факты, но исключительно на смыслы), с другой стороны, по своей формальной процедуре описательный метод феноменологии ошибочно выстраивался, по мнению Лосева, иногда по косвенной, чисто иллюстративной, а иногда и по прямой аналогии с идеалом традиционного дескриптивного позитивизма, основанного на чувственном «смотрении» (или вообще на чувственных восприятиях) и утверждавшего необходимость сначала описывать усматриваемые чувственные «факты», прежде чем их объяснять (если вообще их надо объяснять). Лосев опасался, что отказ метода описания от признания наличия чисто смысловых закономерностей рано или поздно приведет при своем естественном развитии к отказу от концепта чистого смысла, т. е. от того «предмета», который первоначально прокламировался в качестве приоритетного или единственного. По лосевскому прогнозу 20-х гг., если феноменология сохранит верность принципу чистой описательности и не введет элементов объяснения смысла смыслом же, то уже в обозримом будущем возникнет опасность, что «дамба» между чистыми смыслами сознания и чувственными «фактами», укреплявшаяся гуссерлевым принципом редукции, постепенно зарастет позитивистскими «сорняками», и запрограммированный на только описание чистых смыслов феноменолог, сублимируя нерастраченную энергию объяснения, априорно и архетипически содержащуюся, по лосевской мысли, в самом смысле как таковом, начнет «гнаться» за обогащением разнообразия номенклатуры созерцаемых эйдосов так же, как принципиальный эмпирик – за обогащением количества и разнообразия фактов.[238]238
«Сублимируя», или – получив санкцию на отвлечение от «энергии объяснения». Лосев считал, что метод описания при определенном понимании «развязывает руки» философии, освобождая от интеллектуальных обязательств, поощряя страсть к накопительству «фактов» и позволяя пойти на диффузное взаимопроникновение с эстетизмом. Ср. схожую оценку ситуации Р. Сафрански: «В 20-е годы во Франции открыли Гуссерля и Шелера. Если экзистенциализм сомневается в том, что в человеческой жизни и культуре имеется некая a priori гарантированная осмысленность, внутренняя согласованность, то феноменологический метод дополняет эту идеологию, помогая ее приверженцам выработать у себя особого рода „осчастливливающее“ внимание к разрозненным феноменам мира. Феноменология стала во Франции искусством извлекать удовольствие из самого внимания, которое целительно уже потому, что разрушает представление об осмысленности целого. А кроме того, феноменология позволяет даже в абсурдном мире насладиться счастьем познания. Камю объяснил эту взаимосвязь между страстью к феноменологии и страданием от абсурдности мира в „Мифе о Сизифе“: лично для него мышление Гуссерля так притягательно именно потому, что отказывается от единого объясняющего принципа и описывает мир в его беспорядочном разнообразии… Когда Реймон Арон, который учился в Германии и познакомился там с феноменологией, в начале 30-х годов рассказал своему другу Сартру о своих феноменологических „опытах“, Сартр мгновенно увлекся новой идеей. Так, значит, спросил он, есть некая философия, позволяющая философствовать обо всем – вот об этой чашке, о ложке, которой я помешиваю чай, о стуле, об официанте, ждущем моего заказа?» (Сафрански Р. Хайдеггер. М., 2002. С. 452–453).
[Закрыть]
Большинство версий дальнейшего развития феноменологии, действительно, как известно, пошло по пути количественного увеличения качественно различных феноменологически описываемых «фактов», возводимых в ранг «феноменов». Более органично такое расширение в случае прямого отказа от (или переинтерпретации) принципа редукции,[239]239
Так, феноменология восприятия и/или «телесности» «отказалась от техники трансцендентальной редукции», низводящей данную проблематику «к трансцендентальному опыту чувственности». Ортодоксальный (построенный на технике редукции) «феноменологический метод описания оказался недостаточным прежде всего потому, что он не смог избежать присущей ему нормативистской установки по отношению к объекту описания и оставил в стороне довольно обширный (а сегодня и более значимый) регион языковых, перцептивных, чувственно-телесных феноменов, которые являются анормативными и, с точки зрения строгого феноменолога, не могут быть наделены смыслом» (Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995. Предисловие). Отказались от редукции (или так или иначе скорректировали ее) и почти все версии феноменологии говорения (но не языка).
[Закрыть] менее органично – тогда, когда целью продолжает быть априорное, в том числе априорный смысл. Во втором случае дополнительным стимулом к этому все нараставшему пафосу накопления того, что можно феноменологически созерцать и описывать, могло послужить и то, что – поскольку в связи с идеей внедрения в эйдетику естественного языка статус чистого эйдетического смысла пошатнулся – в ранг априорных первофеноменов и/или эйдосов стал возводиться все более и более широкий круг явлений. Одним из первых в этом смысле был М. Шелер: «То, чего мы здесь… решительно требуем, – это априоризм эмоциональной сферы… "Эмоциональная этика " в отличие от "рациональной этики " отнюдь не должна с необходимостью быть „эмпиризмом“… Чувствование, предпочтение и пренебрежение, любовь и ненависть в сфере духа имеют свое собственное априорное содержание, которое столь же независимо от индуктивного опыта, как и чистые законы мышления».[240]240
Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. С. 284.
[Закрыть]
Для феноменологии корректное расширение предметной области – вещь, безусловно, естественная, и рационалистический пуризм принципа редукции давно уже преодолен, однако понятно, что для Лосева многие из этих новых «феноменов» никак не могли встать в один ряд с единым, многим, покоем, движением и т. д., хотя, с другой стороны, Лосев тоже изначально имел целью расширение узкого гуссерлева понимания эйдетики – ведь сам инновационный концепт «эйдетического языка» тоже был не чем иным, как его расширением. Другое дело, что Лосев предъявлял ко всему вновь допускаемому в ограду априорного свои строгие требования: все допустимые расширения должны быть, по Лосеву, смысловым образом единообразно прошиты и сшиты, а не представлять собой хаотичный конгломерат или просто логическую классификацию или типологию. Так, в частности, можно ввести в эйдетику и аксиологические компоненты (например, в мифе), но – только те, которые феноменологически усматриваются как смысловой итог саморазвития смысла, а не те, которые можно было бы собрать воедино констатирующим описанием чувственных восприятий и эмоциональных «переживаний».
Если позитивистски перенастроенному феноменологическому описанию принципиальная разноприродность накапливаемых «феноменов» и прямо «эйдосов» мешала не слишком (как она никак не мешала и традиционному эмпиризму), то искомому Лосевым принципу объяснения, предполагающему выявление априорных и закономерных взаимосвязей смыслов-эйдосов и, следовательно, их некой онтологической однородности и совместимости, разноприродность эйдосов преграждала бы путь полностью. Понятно, что установка на количественное богатство и максимальную гетерогенность эйдосов исключает возможность толкования эйдетики в целом как особого языка – языка, к которому должно, по Лосеву, иметь то или иное сущностное отношение все новоприходящее, чему придается априорность или статус эйдоса. Гетерогенность новшеств препятствовала бы лосевской цели – нахождению каких-либо закономерностей в самодвижении и взаимосвязи априорных смыслов в пределах единого эйдетического языка.
События и здесь частично подтвердили «опасения» раннего Лосева. Аналоги с чувственным смотрением проводились, как известно, и самим Гуссерлем, но если у него они имели в значительной мере иллюстративный характер (что, впрочем, остается дискуссионным), то впоследствии аналогия постепенно перерастала в отождествление. В 1940-х гг. М. Мерло-Понти сформулирует прямой тезис, согласно которому «эйдетический метод – это метод феноменологического позитивизма»,[241]241
Феноменология восприятия. С. 17.
[Закрыть] причем будет развивать эту идею в противовес логическому неопозитивизму аналитической философии (т. е. в мыслившемся Лосевым контексте – в противовес неопозитивизму неокантианского типа). Описанное выше условие расширения круга первофеноменов (отказ от жесткого понимания редукции) Мерло-Понти принял одним из первых: разворот в сторону позитивизма обосновывался им за счет переосмысления феноменологической редукции. Так, лучшее определение принципа редукции принадлежит, пишет Мерло-Понти, не самому Гуссерлю, а его ассистенту – Э. Финку, согласно которому феноменологическая редукция отнюдь не отворачивается от мира, чтобы обратиться к единству сознания, она лишь отступает в сторону, чтобы увидеть бьющие ключом трансценденции, и только слегка ослабляет интенциональные нити, связывающие нас с миром, но лишь для того, чтобы они тем ярче явились взору, обнаруживая мир как нечто странное и парадоксальное. Цель феноменологической редукции, по Финку, не в уничтожении мира, а в осознании «удивления» перед ним.[242]242
Цит. по: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 12–13.
[Закрыть]
Тема «удивления» – чуда – была одной из главных и у Лосева (в «Диалектике мифа» есть специальные и подробные о нем разделы[243]243
Аналогично – через удивление – задолго до постфеноменологии толковал свое мифологическое суждение и Вяч. Иванов (см. «Между именем и предикатом»); много схожего о мифе, чуде и удивлении и у П. А. Флоренского.
[Закрыть]), причем также не в смысле отсылки ко всесодержащей античности, любившей толковать философию как удивление, а в ее обновленном – феноменологическом – прочтении. Если Мерло-Понти, в соответствии с позитивистской переориентацией, концептуализует «удивление» как тип смыслового отношения к парадоксальности чувственного мира, то у Лосева в толковании чуда сохраняется исходное приоритетное положение априорного – не чувственно постигнутого – эйдетического смысла. Лосевское «чудо» имеет обратную предложенной Финком феноменологическую природу: чудо «освежает» не восприятие чувственного мира, ярче являя взору его парадоксальность, а «освежает» восприятие априорного смысла, ярче являя взору и его парадоксальность (антиномическая тема), и его силу, поскольку чудо есть, по Лосеву, подтверждение власти парадоксальных законов априорного смысла над событиями, фактами и процессами чувственного мира. Чудо для Лосева – там, где чувственный мир удивительным образом послушно исполняет все, что предзадается ему априорными закономерностями сферы чистого смысла.
§ 45. Смыслы и факты. Вместе с тем очевидно, что чувственные восприятия и с лосевской точки зрения должны были быть введены в феноменологию – как то, что играет существенную роль при формировании особых «непрямых» форм смысла.[244]244
Подробнее см.: К феноменологии непрямого говорения. Глава 2, § «Заостренные и нейтральные версии ноэтического смысла».
[Закрыть] Поэтому Лосев тоже – и не менее настойчиво – утверждал необходимость введения в феноменологию наряду с миром «смыслов» и мира «фактов», но предлагавшийся им интеллектуальный «ход» для такого введения по своей стратегии равно противостоит и феноменологическому, и неокантианскому типу позитивизма. Если стремиться к формульности, то Лосев предлагал включать «факты» в зону чистого мышления на том основании, что «факты тоже есть смыслы» («…хотя „смыслы“ и отличаются от „вещей“, но все же „вещи“, „факты“ суть для философа тоже „смыслы“, и в этом отношении они совершенно тождественны со смыслами просто. Правда, „фактические“ „смыслы“… в каком-то отношении все же отличаются от „смысла вообще“, но в этом и должна заключаться задача философа – точно формулировать, в чем их сходство и в чем различие… Тут мое решительное расхождение со всяким трансцендентализмом, кантианским и гуссерлианским…» – ВИ, 871). Любое чувственное восприятие имеет или порождает, по Лосеву, смысловую компоненту. Специфика порождаемых этой сферой смыслов в том, что в большинстве своем они отходят в зону непрямых смыслов естественного языка.
Феноменологический и аналитический неопозитивизм основывались скорее на противоположной идее – на том, что «смыслы тоже есть факты» (за смыслами всегда стоит некая чувственная подоплека). В первом (лосевском) варианте «факты» имманентизируются в смысл, во втором – смыслы либо объективируются и овнешняются в «факты», либо напластовываются на них как на фундирующее условие. Речь при этом может идти не только о чувственности или телесности: феноменологический неопозитивизм понимает под теми фактами, которыми фундированы являющиеся сознанию смыслы, в том числе и естественный язык. Не только в качестве внеположного звука и письма, но и в своей имманентной сознанию ментальной ипостаси (т. е. в виде лексической семантики, акустического образа, ритма и т. д.): то, что облачено внутри сознания в конкретные языковые формы, даже если они не произносятся и не пишутся, есть, с этой точки зрения, смысловой факт. Конечно, сам термин «факт» применяется здесь уже не совсем к месту и не совсем «к стилю» герменевтической феноменологии, но дело не в термине, а в миграции определенного категориального содержания: категориальное место «фактов» заняли в постгуссерлевой феноменологии языковые формы, которые, в отличие от утверждаемого Гуссерлем (и Лосевым) чистого смысла, т. е. доязыкового смысла, всегда обладают тем или иным (акустическим, зрительным, перцептивным) «следом» свой объективированной или поддающейся объективации вещественно-чувственной «плоти».
Лосевское предложение рассматривать «факты как смыслы» несет совсем другое содержание. В лосевском варианте феноменология при всем мыслимом Лосевым расширении ее зоны действия (вплоть до мифологии, искусства, истории, логоса телесности и всей социальной сферы в целом) принципиально остается в своей исходной точке «философией чистого смысла», взятого безотносительно к естественному языку и его разного рода «материи». Миф, искусство, социология и т. д. – все это вводится Лосевым в феноменологию не столько в качестве результатов позитивистского анализа «объективных» данных сферы ощущений, общественной жизни или истории культуры, зафиксированных в тех или иных текстах или выраженных в особенностях семантики данного естественного языка, сколько в качестве одного из закономерных этапов имманентного понимания сознанием не связанного с естественным языком чистого эйдетического смысла в его саморазвитии. Каждый такой «этап» саморазвития смысла фиксируется, по мысли Лосева, диалектикой в виде той или иной новой закономерно выводимой категории смысла, т. е. – если выразить эту идею в контексте лосевского концепта эйдетического языка – в виде раскрытого и эксплицированного сознанием коммуникативного посыла эйдетических высказываний. Миф, творчество, социальность и т. д. – все это генетически, по Лосеву, чисто смысловые категории, выводимые в качестве требуемых самим чистым смыслом – категории, которые лишь после своего смыслового же выведения из эйдетического смысла начинали подтверждаться Лосевым данными из мира «языковых» или даже внеположных чувственных фактов (если вообще нужно, как он говорит, «гнаться» за такими подтверждениями). Тот же миф, например, анализируется в «Философии имени» не столько как конкретная известная из культурных языковых данных система миропонимания, сколько как категория, выводимая Лосевым в качестве необходимо закономерной из имманентных законов саморазвивающегося чистого смысла. Упрощенно говоря, если бы мифов, например, не существовало, смысловая категория мифа все равно была бы выведена, по Лосеву, изнутри эйдетического смысла, и это означало бы, с его точки зрения, что, так как в структуре сознания место для такого типа явлений зарезервировано самой эйдетикой, миф рано или поздно «проник» бы и в реальную социальную и внутреннюю телесно-эмоциональную жизнь, рано или поздно воплотился бы в «фактах», включая естественный язык (который относительно чисто смыслового эйдетического языка есть именно «факт»). Среди выведенных Лосевым в «Философии имени» диалектическим путем смысловых категорий можно выделить такие, которые «пока», с его точки зрения, должным образом не заполнены наукой, культурой, социальной жизнью и вообще миром языковых или социально-психологических «фактов»: таковы, например, предложенные новые разделы логоса аритмология и топология (ФИ, 168–169). Лосев говорит о них именно в том плане, что за ними стоят смыслы, которые еще нужно усмотреть, понять или почувствовать, что это учения, которые еще нужно «построить» (воплотить в дискурсивной форме естественных языков). «Нужно» не потому, что об их недостатке вопиют неохваченные наукой «бездомные факты», а потому, что того требуют декодированные диалектикой этапы саморазвития эйдетического смысла.
§ 46. Эйдетический смысл и ступени его модификации в «материи» естественного языка. В области философии естественного языка лосевская радикальная новация в трактовке эйдетики, предполагающая в ней языковую природу, отразилась двояко: резко повышая, с одной стороны, онтологический статус «языковости» как таковой (что формально сближает ее с постгуссерлевой феноменологией), она одновременно столь же резко снижает статус «материи» естественного языка, включая все ее ипостаси. Прежде всего – чувственной (звучание и начертание), вплоть до ее принципиального и полного изъятия из конститутивных свойств даже естественного (не говоря уже об эйдетическом) языка. Звучание, по Лосеву всех периодов, не имеет прямого отношения к сущности языка.
Но это лишь первый шаг: если постгуссерлева феноменология, отвергнув идею приоритета логики над языком, фактически отождествила эйдетический чистый смысл с семантикой естественного языка, то Лосев и семантику, включая логическую, и грамматику, и синтаксис естественных языков в их имманентных сознанию формах рассматривает как меональные формы воплощения эйдетического смысла, как инородную непрямую для эйдетического смысла языковую «материю» естественного языка. Снижая, соответственно, и их статус относительно эйдетического языка, Лосев, тем самым, лишает все семантические и структурные свойства естественных языков статуса конститутивных для языковости как таковой и для «смысла» как такового. Они, как и чувственная плоть естественного языка, становятся в таком ракурсе разновидностями нисходящих меональных форм воплощения эйдоса «языка» как некого всеобщего смыслового принципа.
Материя, или «меон», небытие или инобытие, неоднородна, она имеет, по Лосеву, нисходящее ранжированное строение. Лосев рисует идущую вниз меонально-инобытийную лестницу, на абсолютном верху которой материи нет вовсе, но только сама Первосущность. Далее по меональной лестнице он располагает разные типы меонов. Начинающие меональную лестницу чистые эйдетические смыслы, данные сознанию в феноменологическом созерцании, это тоже меонизация (о том, что «сознание» есть, по Лосеву, меональное инобытие, см. ФИ, 46), ее первая ступень: эйдетика потому и может толковаться как особый язык и, соответственно, как нечто динамично саморазвивающееся и коммуникативное, что в ней есть свой меон, своя «языковая материя» – априорная область сознания. Чистый эйдетический смысл, созерцаемый сознанием, это первая форма коммуникативной самомеонизации сущности в инобытии. Здесь еще нет не только чувственной материи естественного языка, но нет и его семантической «материи» (нет логоса и логики), которые обе относятся Лосевым к более низким ступеням меонизации.
Наиболее отчетливо эта нисходящая лестница меонов выражена Лосевым в его теории символов разных ступеней (в «Диалектике мифа»), согласно которой эйдосы – первичные символы, логика же, семантика и грамматические формы естественного языка, звук, чувственная действительность – это символы, соответственно, второй, третьей и т. д. ступеней. Существование непосредственно чувственных символов, являющихся основным предметом в некоторых теориях символизма, Лосевым, таким образом, признается, но всякий чувственный символ, с его точки зрения, несет в себе не саму сущностную энергию, а то ее тоже меональное воплощение, которое уже было в сознании в виде чистого смысла, то есть преобразование и непрямо несет энергию (коммуникативный заряд) первичного символа эйдетического языка. Чувственные символы «по собственному смыслу своему уже не имеют ничего общего ни с чистым эйдосом, ни с чистым символом как таковыми». Все чувственное – это сфера «дальнейшего воплощения символа в инобытии» (ФИ, 117).
Эта нисходящая лестница меонизации диктует, по Лосеву, феноменологии языка и лингвистике определенную стратегию действий. В большинстве случаев лингвистика идентифицирует себя как эмпирическое изучение различных языков, и потому большинство лингвистических направлений рассматривает (по Лосеву – ошибочно) в качестве исходного предмета анализа конкретно-данное языковое выражение в его материальной форме (звук, слово, текст и т. д.), от которой «восходит» затем к смыслу, либо практически рассчитывая на результативность этого «восхождения», либо, по крайней мере, теоретически допуская его возможность. Неточный исходный пункт выбран, по Лосеву, и аналитической философией: в ее рамках в качестве исходного пункта мыслится логический или языковой синтаксис, но и они, по Лосеву, расположены лишь на второй или третьей ступенях меонизации, а потому опора на них тоже, скорее всего, расценивалась Лосевым как позитивизм. Принятие этих ментальных логико-языковых форм в качестве исходной точки движения приводит и к тому, что из языка редуцируется его модифицирующий выразительно-коммуникативный потенциал, которым он обладает по отношению к смыслу собственно эйдетического уровня сознания. В аналитике фактически предполагается, что путь от ментальных синтаксических форм способен вывести к некому некоммуникативному по природе чистому смыслу, который можно было бы напрямую связывать с внеположным сознанию «миром» или, при другой философской ориентации, с трансцендентными «сущностями». По Лосеву же, напомним, лишенного коммуникативных характеристик смысла в сознании не существует на любых его ступенях, включая самые «высокие», так как и сама эйдетика есть, с его точки зрения, сфера последовательно взаимосвязанных коммуникативных актов на эйдетическом языке. Согласно этой теории нисходящей лестницы меонизации, исходный и приоритетный предмет феноменологии языка и лингвистики – смысл. Она должна идти от смысла как внутренней субстанции коммуникативного акта к внешним меонально-телесным формам языковых выражений, а не наоборот.
Но что значит исходить из смысла? Лосев настаивал, во-первых, на сущностной независимости эйдетического смысла и от эмпирики, и от структуры, и от семантики естественного языка, то есть на его собственной имманентной коммуникативно-языковой природе (в естественном языке смысл – всегда непрямой), и, во-вторых, на наличии собственных форм саморазвития и самодвижения смысла, не сводимых ни на аналитические или иные логические закономерности, ни на алогический эмоциональный или перцептивный синтаксис. Именно эти имманентные формы саморазвития и самодвижения смысла, определяемые его природной коммуникативной телеологией, и должны быть, по Лосеву, в фокусе внимания феноменологии языка.
§ 47. Лосевский «логос телесности», смысл и естественный язык. Сказанное не значит, что телесно-меональный аспект выпал из лосевской концепции смысла, нет: он был в ней преобразован. Лосев тоже говорил о «логосе телесности» (ФИ, 180), но не основывал его ни на эмпирических фактах, восприятиях и ощущениях, ни на изолированно-остановленной лингвистической семантике или синтаксических схемах, а диалектически выводил этот тип логоса – как и все другие (логос эйдоса, логос логоса и т. д.) – из имманентного развития самого чистого смысла. Лосев понимал «логос телоса» как нисходящие вещные и силовые воплощения смысла, а не как восходящее от фактичности осмысливание (наделение смыслами фактов).
Иное в постгуссерлевой феноменологии, включившей в себя неопозитивистские мотивы. «Величайший урок редукции, – говорит Мерло-Понти, – заключается в невозможности полной редукции» (с. 12–13). Трансцендентальный идеализм полностью, по Мерло-Понти, «редуцирует» мир и признает его лишь в качестве мысли или сознания о мире, в качестве простого коррелята нашего познания, так что мир становится имманентным нашему сознанию, и в результате «самобытность вещей» ошибочно, по Мерло-Понти, сводится на нет (с. 15). Неисполнимое стремление к абсолютной редукции «дает нам лишь размышление о теле, или тело в идее», а не действительный внутренний «опыт тела» (с. 258). Понимание «опыта тела» как «предмета» феноменологии в принципе – идея классическая (см., в частности, о «внутреннем теле» в АГ Бахтина) и законная. Самого Мерло-Понти, при всех отклонениях от гуссерлевой позиции, чувственные восприятия тоже интересовали прежде всего именно как смыслосодержащие явления,[245]245
«Для Мерло-Понти не существует таких вещей, как не обладающие смыслом чувственные данные Прайса» (Шпигелъберг Г. Феноменологическое движение. М., 2002. С. 555. Имеется в виду X. X. Прайс и его книга «Perception», 1933). Чувственно воспринимать, говорил Мерло-Понти, значит видеть, «как из некоего созвездия данных бьет ключом имманентный смысл» (там же, с. 558).
[Закрыть] и тем самым – как предметы ортодоксального феноменологического усмотрения и описания.
Но состав этих идей может толковаться по-разному, в том числе – как приводящий в результате к внедрению телесности в исходный феноменологический мир чистых смыслов на равных с ним правах, а в некоторых случаях и к приданию ей там все более весомых функций. Исходное феноменологическое чистое сознание получает в таких случаях себе коррелят в чистой телесности. Хотя эта чистая (внутренняя) телесность продолжает «феноменологически» противостоять чувственно воспринимаемому им миру, но вместе с тем акцентируемо проводимая феноменология телесного опыта «отелеснивает» и чистое сознание, а тем самым «отелеснивает» и созерцаемые им смыслы. При такой логике – иной, чем у Лосева, ход движения: здесь не смысл «движется» к телесности, а телесность внедряется в смысл. Одно дело – если на равных с другими типами смыслов правах, другое дело – если внедряющаяся в смысл телесность претендует на то, чтобы стать истоком и природой всего смысла как такового (письмо – исток эйдосов, чувственные восприятия – исток смыслов и т. д.). Второй вариант Лосевым отвергался, поскольку в таком случае понятие «чистого смысла» фактически снимается этими неопозитивистскими версиями феноменологии с обособленного Гуссерлем категориального стержня и смещается в сторону симбиоза с «фактами» (телосом, языком, меоном вообще – в его любой форме).
При включении в состав смыслов «телесных» компонентов происходят соответствующие изменения и в понимании естественного языка. Вследствие расширения состава эйдосов за счет разноприродных явлений (экзистенциалов, восприятий, телесности и др.) в феноменологии возникает необходимость выбора среди этого многообразия эйдосов разной природы таких из них, которые можно было бы считать непосредственно связанными по своей природе с естественным языком (или связанными с ним в первую очередь). Поскольку же интенциональный акт сознания теснее сблизился в этом варианте постгуссерлевой феноменологии с актами чувственно-телесного восприятия (Мерло-Понти вводит характерное в этом отношении понятие «перцептивного синтаксиса», фиксирующее их сущностное сближение) и с телесно окрашенными экспрессивными актами, выбор Мерло-Понти естественно оказывается иным, чем лосевский. В лосевском толковании, также признающем необходимость феноменологии тела, концептуальная специфика естественного языка продолжает, тем не менее, основываться на собственно смысловых процессах (смыслоразличение и коммуникация), в толковании же Мерло-Понти язык стал пониматься как укорененный в эмоциональном поле, то есть в экзистенциалах и в «отелесненных» эйдосах. Почти – обострим – как укорененный в отелесненно и эмоционально понятой эйдетике. Для Лосева такое развитие ситуации было бы неприемлемо.
Вместе с тем, у Мерло-Понти, несомненно, имеются точки сходства с Лосевым: в его концепции также активизируется центральный феноменологический принцип выражения (а не корреляции), поскольку языковой акт продолжает толковаться как выражение – хотя и отелесненной и эмоционализированной – эйдетики. Так как язык при этом понимается как выражение не просто «телесного ощущения» или «эмоции», но именно эмоционального акта, можно отметить у Мерло-Понти и тенденцию к развитию принципа выражения в принцип коммуникации. В той мере, в какой сам эмоциональный акт понимается как интерсубъективный и, соответственно, как направленный на коммуникацию, языковое выражение тоже и в той же мере толкуется как коммуникативное действие; поэтому те лингвистические концепции, которые находятся в зоне влияния этой версии феноменологии, рассматривают коммуникативность, как мы видели, в качестве природного свойства языка. Отсюда просматривается одна из дорог к феноменологии говорения и одна из узеньких тропинок к феноменологии непрямого говорения.
С другой стороны, очевидна и точка разлома: те имманентные закономерности саморазвития априорного смысла, которые составляли «вторую половинку» лосевского понимания специфической сущности языка как такового и, в частности, особого эйдетического языка, а с ними и вся сфера логоса, включая диалектику, не просто уходят в таких концепциях на второй план языка, но фактически выпадают из них вовсе. В результате язык – вместе и одновременно с категорией самого чистого смысла – получает в этих версиях отелесненное и/или психологическое толкование, сближаясь с телосом как эйдетикой, причем телос понимается при этом, соответственно полученному эйдетическому статусу, в качестве ведущего, а не ведомого начала.
§ 48. Лосев, позитивизм и аналитический принцип корреляции. С лосевской точки зрения, в нефеноменологически ориентированных лингвистических концепциях, в частности, в аналитике, с одной стороны, в отличие от феноменологически ориентированных направлений, на первый план выдвигается логика и принцип корреляции (в ущерб языку и принципу выражения вместе с модифицирующей непрямотой, интерпретативностью и коммуникативностью), с другой стороны, лингвистическая мысль и здесь – как и в феноменологии – тоже двинулась, нарушая исходный приоритет смысла, по направлению к позитивизму.
Часть аналитической философии прямо обосновывала себя как обновленный интеллектуализированный позитивизм (неопозитивизм Карнапа, логический атомизм Рассела и др.). Напомним, что Лосев связывал распространение позитивистских настроений в лингвистике с прямым или скрытым влиянием неокантианства – на том основании, что в нем самом усматривал вирус эмпиризма. Этот вирус, с лосевской точки зрения, неизбежно активизируется при любом наполнении философских (неокантианских по общему типу) рассуждений позитивным содержанием частных наук. Сближение же с позитивными науками, как известно, – один из главных постулатов ранних триумфальных этапов аналитики.
Что касается собственно лингвистической сферы, то позитивистская направленность аналитики выразилась в понимании семантико-синтаксического строения языковых выражений – тех, конечно, в которых соблюдены априорные аналитические законы истинностных логических суждений – как адекватно соответствующих (коррелирующих) реальному «положению дел» в эмпирическом мире. Так, в частности, понимается ситуация в референциальной теории истины.[246]246
«Если мы хотим выявит ъ наиболее общие особенности мира, то мы должны обратить внимание на то, что делает некоторое предложение языка истинным. Можно предположить, что если условия истинности предложений поместить в контекст универсальной теории, то получившаяся лингвистическая структура будет отображать общие особенности реальности» – Дэвидсон Д. Метод истины в метафизике (АФ, 345).
[Закрыть] Существенное отличие смягченных аналитических версий неопозитивизма от традиционного «описательного» позитивизма, который первыми также критикуется, состоит в том, что иначе стал пониматься сам эмпирический мир: не статически-вещно, а процессуально-событийно. Мир членится, согласно этому пониманию, не на «вещи» (любая «вещь» мыслится как разлагаемая на динамические составляющие), а на «процессы», «положения дел», «события»: истинность следует, с такой точки зрения, понимать не как «верное» наименование «предметов-вещей», а как ту или иную степень корреляции (соответствия, корреспонденции) априорных формально-семантических процессов сознания процессуально-событийным аспектам «самого» мира. Сам принцип «корреляции» соответственным образом раздвоился в аналитике: вопрос может в таком контексте ставиться как о наличии соответствия «самому миру» только у формально-логических схем мышления (суждений), так и о наличии такового в том числе и у языковых структур (предложений). Обе (узкая и широкая) версии коррелятивного принципа имеют свои обоснования и своих сторонников. В «широкой» версии предполагается, что адекватная корреспонденция с миром осуществима не только через логические схемы, но и через языковые выражения; отсюда, соответственно, мыслится, что априорно истинностные логические формы непосредственно проявляются в языке, а значит – тем самым управляют им. Язык рассматривается здесь как своеобычная и капризная (стремящаяся избежать прямоты), но в конечном счете подчиненная и «дрессируемая» ветвь логики. В другом случае («узкая» версия) предполагается, что корреспонденцией с миром обладают только сами логические структуры, и тогда логика и язык принципиально разводятся как сущностно не взаимосвязанные сферы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.