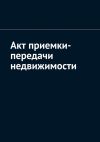Текст книги "Непрямое говорение"

Автор книги: Людмила Гоготишвили
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 57 страниц)
§ 17. Специально об идее «непрямого смысла» у Гуссерля. Мы вплотную и «лицом к лицу» подошли здесь к ранее лишь вскользь отмечавшейся проблеме «непрямого смысла» или «непрямого говорения», которая является основной сквозной темой и настоящего, и других разделов книги. Согласно развиваемой здесь интерпретации лосевской концепции, тема непрямого смысла, значимая для Гуссерля, для Лосева стала одной их основных – она по-своему и в своих целях развивалась им: сознание, созерцающее эйдосы и мыслящее или говорящее о них, не только не обязательно выражает имеющуюся в виду эйдетическую сущность и соответствующую смысловую предметность (ноэматический состав) через семантическую предметность, помещенную в позицию субъекта суждения, оно не обязательно выражает ее и через другие дискретные семантические компоненты, т. е. оно вообще не обязательно выражает ее.
Формально это положение смотрится как банальность: нет ведь никакого сомнения в том, что многие высказывания не несут в себе истинностного смысла, т. е. такого, который у Гуссерля является эйдетическим. Однако здесь речь идет о другом: с одной стороны, о том, что прямая семантическая выраженность не только эйдетического, но и ноэматического состава неэйдетической природы в принципе невозможна, с другой стороны – о том, что лексико-семантическая невыраженность эйдоса отнюдь не предопределяет, по Гуссерлю и Лосеву, того, что такого рода логические или языковые выражения обязательно эйдетически пусты и/или ложны и что ничто эйдетическое в них не «схвачено» сознанием и не передано (хотя такое и может быть, и в большинстве случаев есть). Высказывание, по Гуссерлю, может быть непосредственно (формально-семантически) о чем-либо не эйдетическом, но, тем не менее, передавать – непрямо – эйдетический смысл.
Это – одна из наиболее значимых для философии языка сторон феноменологии Гуссерля. Сущностное созерцание как сознание, в котором сущность постигается предметно, это не единственное сознание, говорит Гуссерль, которое таит в себе сущности: «сущности могут интуитивно познаваться, в известной мере и постигаться, отнюдь не становясь оттого „предметами, о которых“» («Идеи 1», 32). «Судить о сущностях… и судить эйдетически вообще – это… не одно и то же: не во всех своих высказываниях эйдетическое познание обладает в качестве „предметов, о которых“ сущностями…» (с. 31). Гуссерль поясняет это так: в такого рода случаях, например, в аналитических или математических суждениях, все без исключения дискретные лексические значения, которые употреблены, могут не быть предметным смыслом сущности (употребленные значения остаются «просто» значениями, например, логическими понятиями или лексемами), но, тем не менее, элементы эйдетического познания в таких суждениях могут содержаться. То же и в других типах высказываний. Эйдос двойственности, если вернуться к нашей группе примеров, может быть передан, например, и логико-синтаксически (три минус один), и в форме семантической «загадки», и через указание, может он быть передан и чисто интонационной, и чисто ритмической организацией высказывания, т. е. в лексико-семантическом смысле полностью внесемантически (эйдос двойственности, в частности, всегда содержится в стихе с двойной строфикой или двустишии, безотносительно к их реальному лексико-семантическому наполнению и реальному референцируемому предмету, если таковой вообще имеется). Смысл двойственности может передаваться прагматически, т. е. с опорой на ситуацию, в том числе коммуникативную, и/или контекстуально, метафорически, пространственно, иносказательно, «бессознательно» и т. д. В общем виде можно, следовательно, зафиксировать, что индивидуально-целостная и самотождественная эйдетическая сущность модифицируема в различные ноэмы и может выражаться в логических и/или языковых формах не только через статические и номинализированные компоненты логической и языковой семантики, не только через процессуальные логические схемы и языковой синтаксис, но и через разного рода динамические формы, не имея при этом никакой прямой связи ни с лексической, ни с синтаксической, ни с логической семантикой этих форм.
Звучит, кажется, вполне по-неокантиански – процессуально. Однако тонкость здесь в прямо противоположном: в подтекст этой с виду уступчивой идеи Гуссерлем закладывался не пронеокантианский, а антинеокантианский заряд: гуссерлева феноменология отрицала не только субстанциальный параллелизм априорно самоданного статичного смысла эйдосов с понятийно-категориальным и семантически дискретным пластом мышления (в утверждении чего ее напрасно «подозревали»), но отрицала и какую бы то ни было вообще изоморфность априорного и статического эйдетического смысла с формально-семантическими процессуальными структурами логического мышления (к чему само неокантианство, напротив, склонялось) и/или с семантическими и синтаксическими структурами языка (к чему впоследствии проявила склонность постгуссерлева феноменология). Одновременно с «метафизической» идеей статичной корреляции Гуссерлем отвергалась и «неокантианская» идея процессуальной корреляции между логическими закономерностями и априорно данным эйдетическим смыслом; фактически Гуссерль оспаривал идею параллелизма или какой бы то ни было изоморфной корреляции – как таковую. Асимметрия – вот что пронизывает, по Гуссерлю, и статическую, и динамическую стороны смысла и формы его выражения.
Эти два постулата – об отсутствии изоморфно-коррелирующего соотношения между эйдетикой, ноэтикой, мышлением и языком как на статичном категориально-понятийном, так и на процессуальном аналитически-синтаксическом уровнях – находятся у Гуссерля в концептуальной взаимозависимости. Общее основание этих постулатов содержится в модифицирующе-непрямой природе акцентируемого Гуссерлем принципа выражения, согласно которому не только сам априорно данный эйдос не предполагает никакого жесткого крепления с синтаксической позицией субъекта логического суждения или языкового высказывания, но и высвеченная аттенциональным лучом сознания та или иная модификация эйдоса (интенциональный объект), и соответствующий состав ноэм, и любые другие формы смысловой предметности также не предполагают такого жесткого крепления. Ноэме и/или смысловой предметности может, как мы видели, быть придана при ее выражении в языковых формах как позиция субъекта, так и позиция предиката, и вообще любая из синтаксических позиций; может она и периодически сменять синтаксические позиции, оставаясь «тою же самой», и вообще не занимать никакой, будучи тем не менее «выраженной» – косвенными путями.
Гуссерлем были описаны различные типы сложно-неоднозначных соотношений эйдетики с логической и смысловой предметностью, в том числе возможность образования в выражающих слоях логики и языка «синтетической» смысловой предметности, полученной за счет превращения сознанием объектов многих интенциональных лучей в выражаемое в одном логическом или языковом субъективирующем луче, т. е. за счет превращения совокупности разных интенциональных предметов в один положенный в логическом суждении смысл, в единый субъект суждения («Идеи 1», 261). С отчетливой наглядностью полный отказ от идеи наличия у логоса коррелирующих скреп с эйдетикой (а с ней и с действительностью) проявляется в гуссерлевом положении, оцененном выше как центральное в этой теме, согласно которому интенционально высвеченный предмет-смысл вообще может не воплощаться в конкретные семантические или процессуальные формы и, соответственно, не занимать не только при его коммуникативно-языковом, но и при его чисто логическом осмыслении и передаче никаких синтаксических позиций. Смысл (в том числе эйдетический) выражения может отчетливо сознаваться, не соответствуя при этом никакому определенному члену или определенному типу отношений логической или синтаксической структуры этого выражения, может оставаться «за кадром» и аналитического развертывания мышления, и эксплицитного языкового синтаксиса, локализуясь в той не поддающейся прямому выражению зоне, которая называлась Гуссерлем «подразумеваемое как таковое» (см. с. 208, 268 и др.).
В общем плане все это означает, что гуссерлева феноменология предполагает, что чем «дальше» по лестнице модификаций от эйдоса, тем безосновательней утверждения о какой бы то ни было корреляции: на каждом этапе лестницы модификации смысла с ним происходят такие трансформации, которые исключают какое бы то ни было материальное или формальное коррелятивное соотношение между эйдосом и полученными трансформационными формами смысла, включая процессуальные. Верно это и относительно модификаций, находящихся от эйдоса на расстоянии нескольких ступеней, каковыми и являются логическая и языковая модификационные формы, дистанцированные от эйдоса (или предмета) на расстояние, опосредованное как минимум интенциональным объектом и ноэтически-ноэматическими структурами сознания, а потому эйдос недостигаем их силами «напрямую».
Если же присовокупить сюда, что и высвеченная интенциональным лучом предметность тоже не понималась Гуссерлем как сам априорный эйдос-смысл, но только как его модификация, фундированная стремящимся к выражению сознанием, то можно сформулировать и жестче: так как самотождественный в себе априорный эйдос-смысл, будучи интенционально высвеченным, может мыслиться и выражаться в самых разных логических и языковых обличиях, осознаваясь при этом как всегда остающийся «тем же самым», он всегда, следовательно, является, по Гуссерлю, невыраженным «Х-ом» – тем, что в своей полноте может только «подразумеваться», но никогда непосредственно (прямо) не выражается. Эйдос, таким образом, не имеет у Гуссерля прямых коррелятов ни в субъектах высказываний, ни среди предикатов, прилагаемых к нему в разных процессуальных мыслительных формах логики, ни в каких-либо других компонентах синтаксической структуры высказывания – он лишь опосредованно, без какой бы то ни было сущностной корреляции знаменуется[184]184
Глагол «знаменуется» употреблен намеренно – с тем, чтобы подчеркнуть постепенно наращиваемую нами связь рассматриваемой феноменологической тенденции с символизмом ивановского типа, связь, которую Лосев, по всей видимости, считал несомненной. Можно даже развить эту феноменологическую тенденцию до схожего с символическим кредо «парадоксального» положения о том, что чем менее логическая и языковая форма выражения стремятся к семантическому уподоблению выражаемой сущности, т. е. чем более они как бы «не о том», тем значительней эта сущность в них проступает. Именно так действует язык в своих высших поэтических формах: сущность несомненно выражена, но ни лексически, ни синтаксически, ни семантически вообще ее при этом «не ухватить». Семантика здесь в момент высшей выразительности самоаннигилируется, приносит себя в жертву выражаемому. Между выразительными формами сознания и эйдетикой связь какого-то иного рода, чем корреляция, соответствие, референция, денотация и т. п.
[Закрыть] целокупностью всего выраженного.
Поскольку эта идея сыграет одну из ведущих ролей в лосевской философии языка, дадим обширную цитату из Гуссерля, оговорив при этом, что цитируемый тезис Гуссерля относится к интенциональному объекту, а не к эйдосу, но поскольку интенциональный объект сам уже есть модификация эйдоса, то это же – ив еще более сгущенной форме – относится и к эйдосу: «Мы говорим: интенциональный объект непрестанно сознается в непрерывном или синтетическом ходе сознания, однако „дается“ в таковом все иным и иным; он – „тот же самый“, он лишь дается с иными предикатами, с другим содержательным наполнением определения, „он“ только показывается с разных сторон… Если таковое (изменяющееся описание) постоянно понимается как ноэматическое описание соответственно подразумеваемого как такового…, то, очевидно, тождественный интенциональный «предмет» отделяется от меняющихся и переменчивых предикатов. Отделяется как центральный ноэматический момент – «предмет», «объект», «тождественное», «определимый субъект возможных предикатов» – просто X при абстрагировании от всех предикатов» («Идеи 1», 283); «Вот точка схождения, или „носитель“, предикатов, но никоим образом не единство таковых в том же смысле, в каком можно было бы назвать единством какой-нибудь комплекс предикатов, какое-нибудь соединение их <аргумент против диалектического синтеза. – Л. Г.у. Такую точку необходимо непременно отличать от последних, но только не ставя ее рядом с ними и не отделяя ее от них, подобно тому, как и сами они суть ее предикаты, немыслимые без нее и все же отделимые от нее…» (с. 282).
Несомненно, и эта точка X, и описание ее соотношений с разнообразием предикатов к ней концептуально аналогичны стержню лосевской позиции в целом – его интерпретации соотношения сущности и энергии. Между ними имеется не только концептуальное, но и терминологическое сходство – ср., в частности, из позднего Лосева: «Другими словами, в поисках подлинного субъекта и предиката суждения, если только действительно имеется в виду суждение, мы уходим в бесконечность… Поэтому подлинным субъектом всякого суждения является то неизвестное X, которое есть вечно потенциальный субъект исходящих из него бесконечных предикаций, так что при помощи этих последних он становится все более и более известным, входя тем самым в постоянно становящуюся систему человеческого познания» (ЗСМ, 362, ср. схожую формулировку Выготского: «Чистая и абсолютная предикативность как основная синтаксическая форма внутренней речи»).
Очевидно, что положение о прямо не передаваемом и одновременно всегда тождественном «подразумеваемом как таковом», характерном для логических суждений, сплетается с уже описывавшейся идеей о принципиальной самоличной неявляемости априорного смысла в конкретных актах реального сознания. Зафиксируем еще раз: ни в актах чистого мышления, ни в актах логического и языкового выражения априорно данный смысл непосредственно и прямо проявлен, по Гуссерлю, быть не может – все, что выражается в логике, включая и процессуальные схемы аналитических суждений, все, что любым мыслимым образом семантически выражается в языке, включая не только логику, но и (добавляем для объемности) поэтическую образность, всегда есть та или иная модификация априорного смысла, осуществляемая меональной по природе деятельностью сознания и естественного языка (см. также раздел «Элементы непрямого выражения у Гуссерля» в последней статье сборника «К феноменологии непрямого говорения»).
Вместе с тем, это следует специально оговорить, настойчивое расшатывание непосредственных коррелятивных скреп не означает отказа Гуссерля от идеи сущностных взаимосвязей логики и языка – через посредство ноэтически-ноэматических структур – с эйдетикой, т. е. не означает того, что Гуссерль может интерпретироваться как релятивист. Всегда лишь «подразумеваемый», но никогда непосредственно «не являемый» эйдос понимается Гуссерлем как оказывающий, тем не менее, определяющее влияние на процесс и формы его модификации во все формы смысловой предметности логического мышления и на все формы их языкового выражения. Это определяющее влияние эйдетики на логику и язык зафиксировано Гуссерлем в намеченном выше принципе самотождественности априорного эйдоса при любых модифицирующих его формах выражения. Согласно этому принципу, интенциональный объект, непрестанно осознаваясь в непрерывном или синтетическом ходе сознания и даваясь в этом ходе все иным и иным, всегда остается, тем не менее, «тем же самым». Очевидно, что принцип самотождественности есть развивающееся усложнение той общей статической идеи феноменологии, о которой в противоположность динамике неокантианства говорил Лосев, или той гуссерлевой идеи единства, о которой говорит и Рикер.[185]185
«Крупным открытием феноменологии, при непременном условии феноменологической редукции, остается интенциональностъ, т. е. в наиболее свободном от технического истолкования смысле примат сознания о чем-то над самосознанием. Но это определение интенциональности пока еще тривиально. Строго говоря, интенциональностъ означает, что интенциональный акт постигается только посредством многократно идентифицируемого единства имеющегося в виду смысла: того, что Гуссерль назвал „ноэмой“ или интенциональным коррелятом „поэтического“ акта полагания» (Рикер 77. Что меня занимает последние 30 лет // Историко-философский ежегодник 90. М.: Наука, 1991. С. 296–316).
[Закрыть] Концептуально увязан со статической идеей и принципиальный акоррелятивизм Гуссерля (или, в лосевских координатах, синтез апофатизма и символизма, т. е. тезис о выразимости сущности, но всегда лишь непрямой – энергийной, знаменующейся через меональные модификации и никогда не субстанциальной).
Единство феноменологического концептуального поля держится скрепляющей силой полярных полюсов: процессуальный акоррелятивизм познающего сознания обосновывается статической природой своего предмета. Если предполагать неизоморфность процессуальных аспектов феноменологического познания сущности, а наличия статически самотождественного эйдоса как адекватно невыразимого, но остающегося в разных актах феноменологически познающего сознания тем же самым непроцессуальным X, не предполагать, то невозможно обосновывать смысловое единство феноменологического интенционального объекта и соответственно процессов феноменологического мышления и языкового выражения: они распались бы в бесстержневое броуновское движение исчезающе малых крупинок смысла. За счет же принципа статической самотождественности эйдоса как невыразимого, но остающегося при любых его смысловых модификациях, привнесенных от содержащего его сознания, тем же самым X, в феноменологии и провозглашается единство феноменологического переживания в его любой и каждой разновидности (единство как отдельного суждения, так и длительного дискурса). Динамическая связность мышления и выражения недостижима, по Гуссерлю, без этого определяющего условия.
Но и оно не единственное. В кантианстве на первом месте стоит здесь, как известно, не принцип единства эйдоса (предмета), а принцип единства апперцепции, т. е. принцип единства самого сознания, обосновываемого через понятие трансцендентального субъекта (самотождественность единого предмета отходит в неокантианстве на второй план). Вопрос о Я– один из самых трудных, по признанию Гуссерля, для феноменологии. Ответ на него менялся; ко времени написания «Идей 1» Гуссерль (в отличие от «Логических исследований») стал считать вторым – синхронно действующим – условием единства и связности мышления и выражения наряду с единством эйдоса также и чистое (нередуцируемое) Я, которое тоже стало расцениваться как общий источник единства всех актов сознания. Эгология в ее различных модификационных проявлениях – одна из значимых тем феноменологии непрямого говорения.
Можно усматривать противоречия между этими условиями (самотождественностью эйдоса и единством чистого Я), но можно видеть их комплементарность. Второе условие не снимает первого, но дополняет его, придавая самой проблеме объемную целостность: если первое – исходно феноменологическое – условие обеспечивает единство «предмета» мышления и выражения (условно, если воспользоваться традиционной терминологией, подразумеваемого предмета высказывания), то второе – исходно кантианское – условие обеспечивает единство источника модифицирующих предикаций к этому единому предмету. Ни то ни другое в своей изоляции смыслового единства дискурса обеспечить не в силах. Объемное рассмотрение этой темы порождает новые проблемы и новые перспективы.[186]186
В филологии, не без влияния Гуссерля, здесь оказалась локализована острая тема, акцентированно поднятая Бахтиным: насколько един этот источник предикаций на уровне языкового пласта сознания? В бахтинской теории двуголосия разработана концепция, согласно которой в реальном высказывании может быть несколько источников предикаций (несколько «голосов») к единому «предмету» (аналогично мыслили и многие другие постгуссерлианские феноменологи). Важно, однако, то, что как бы ни интерпретировать саму теорию двуголосия, и в ней предполагается, что единство «темы» (референциальное основание или единство самотождественного эйдоса) является определяющим условием единства акта мышления и акта выражения, даже полифонического (подробнее см. статью «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией»).
[Закрыть]
Стержневая для всей этой проблематики идея «непрямого говорения» (в другом, конечно, терминологическом облачении) получила у Лосева свое – в некотором отношении неожиданное – толкование, однако реконструкцию и анализ лосевских инноваций целесообразней проводить на расширенном в сторону аналогий с собственно лингвистическими проблемами фоне.
1.2. Возможные лингвистические аналоги акцентированных ранним Лосевым философских конфликтов и их оценка поздним Лосевым§ 18. Лингвистические аналоги мыслившихся Лосевым конфликтных зон по параметрам «статика/динамика» и «выражение/корреляция».
В качестве аналогичного связываемым Лосевым с неокантианством принципам процессуальности и корреляции можно привести известный взаимосвязанный комплекс аналитически ориентированных лингвистических идей: понимание логики как непосредственно вобравшей априорность и/или как тесно коррелирующей с ней, а языка – как в той или иной мере заключающего в себе неотчуждаемую субъективность; отсюда – признание логики формой выражения истинности и соответственная постановка ее иерархически выше языка, т. е. оценка языка как в той или иной форме зависимого от логики. Схожим образом с тем, что логика имела в неокантианстве одновременно и статус того, что самолично коррелирует не только с априорностью, но – через нее – и непосредственно с трансцендентной сферой, в зоне действия аналогичного комплекса лингвистических идей логика получила статус того, что не выражает, а прямо коррелирует с внеположной сознанию действительностью (внутренне соответствует ей по неким особым параметрам). Логика преимущественно понимается в таких случаях как выражаемая через язык, язык же – как «сервильное» образование, как то, что по природе «только» выражает. Язык в таких случаях толкуется либо как способный к адекватному выражению логики (и тогда вместе с ней – и к адекватной референции «действительности», в качестве априорной корреляции к которой понимается логика), либо как неспособный к таковой адеквации (и тогда он фактически выводится за пределы научного мышления, квалифицируясь как нечто, его замутняющее и нуждающееся в корректирующей терапии). Но в обоих случаях язык в зоне схожего с принципом корреляции комплекса идей понимается как зависимый от логики.
Постановка языка в зависимость от логики при принятии таких исходных постулатов неизбежна, поскольку логика расценивается как прямая истинная корреляция миру, т. е. как «верхний» уровень априорно данного смысла (либо – что по результирующим последствиям оказывается для лингвистики тем же – понимаясь как высшая по рангу познавательная вытяжка из позитивистски полученных и обобщенных чувственных данных). Грамматика либо вписывается в таких случаях в логику в качестве ее специфического раздела (и тогда тем языковым высказываниям, которые выверены логикой и выстроены строго по содержащимся в ней априорным законам – и только им – придается статус также способных соответствовать действительности), либо выводится за пределы логики и обособляется от нее, в качестве того, что в принципе не может коррелировать с логикой (и тем самым с действительностью) вследствие своих специфических собственно языковых свойств. Во втором, сущностно разводящем логику и язык случае, язык со всеми своими компонентами включается в число внеположных познающему сознанию пассивных несмыслопорождающих овеществленных предметов конвенциональной природы, подведомственных вследствие этого позитивистскому и логическому анализу, причем на первый план среди разного рода специфических свойств языка чаще всего выдвигаются те, которые «противоположны» свойствам логики и которые – как при этом часто мыслится – «замутняют» чистое логическое сознание, препятствуя его прямому выражению, а вместе с ним и прямому выражению «действительности». В качестве специфического свойства языка прежде всего здесь рассматривается коммуникативность, которая в самой логике, как при этом понимается, отсутствует, поскольку природа последней – изоморфное соответствие действительности (истинностность), а не сообщение о ней. В первом же случае, когда грамматика вводится внутрь логики в качестве одного из ее разделов и язык понимается как потенциально способный под водительством логики адекватно коррелировать с миром, коммуникативность, напротив, чаще всего исключается из состава конститутивных характеристик языка, оцениваясь как его периферическое, а иногда и болезненное свойство, подлежащее в целях прямого истинностного выражения аналитической терапии. Существенный момент: акцентировавшееся выше в качестве маркера неокантианства понятие корреляции трансформировалось в этой зоне в понятие референции.
Лингвистический ландшафт, аналогичный феноменологическому принципу выражения в его лосевском понимании, по всем указанным пунктам сложился иначе. Главное, концентрированно объемлющее все эти разногласия отличие состоит в том, что при опоре на аналогичные феноменологическим принципам постулаты язык получает в сфере чистого сознания самостоятельное, независимое от логики – иногда равное, иногда конкурирующее с ней, а в пределе приоритетное положение. Это существенно изменяет понимание статуса языка, приводя к формированию иной по типу, чем только что описанная, философии, точнее же – феноменологии языка. Если попытаться в общем приближении определить главную сюжетообразующую интригу двигающихся в этом направлении концепций с точки зрения феноменологического концепта выражения (экспансия которого произошла во все сферы лингвистики, в том числе в противоположную феноменологии по постулатам зону), то она оказалась закручена вокруг вопроса об обязательности или факультативности трансформирования категории выражения в категорию коммуникативности (т. е. в ту категорию, которая в противоположном лагере оценивается как специфическое свойство языка в его противопоставлении доминирующей логике). Содержательные перипетии лингвистических споров по поводу этой трансформации весьма запутанны и сложны, в разных направлениях эта идея получила разное воплощение с разными же финалами, включая противоположные – утверждающие либо приоритет коммуникативности над выражением, либо приоритет выражения над коммуникативностью, либо отождествление того и другого, либо, наконец, необходимость существенно иного понимания выражения или полного отказа от этой категории. Если первый из перечисленных вариантов, как понятно, входит в обостренную оппозицию с принципом корреляции (оппозиция коррелятивная референция/коммуникация более отчетлива и резка, чем оппозиция корреляция/выражение), то второй, даже если он развивается в рамках феноменологических постулатов, вполне совместим с корреляцией, поскольку эта версия теории выражения во многом может быть оценена как результат того эксплицированного формального компромисса с феноменологией, на который пошло – условно – «лингвистическое неокантианство» (признав выражение в качестве базовой функции языка, но отринув ее сущностную связь с коммуникативностью), и одновременно как результат неэксплицированного компромисса с неокантианством, на который пошла постгуссерлева феноменологическая философия языка. В рамках этой версии теории выражения основные постулаты теории корреляции могут сохраняться в неприкосновенности, в том числе главный: логика может продолжать пониматься здесь как обладающая возможностью прямо и непосредственно коррелировать с действительностью, процесс же выражения понимается как процесс воплощения этой коррелирующей с действительностью логики в языковых формах, т. е. как вторичная смысловая функция. Могут эти постулаты и перебарываться: выражение из всегда модифицированно-непрямого в ортодоксальной феноменологии само становится в некоторых случаях прямой адекватной референцией действительности. Если коммуникативный аспект языковых выражений здесь и учитывается, то лишь в качестве эпифеномена речи, ее же основной смысл и предназначение усматриваются не в нем, а в адекватном (истинностном) выражении логически мыслимого предмета, т. е. не в общении, а в сообщении, или в адекватном выражении самой действительности. Часто при этом полагается, что в случае достижения совершенной формы языкового выражения то, что понимается слушающим, зеркально дублирует то, что сообщается говорящим, а само это зеркально адекватное содержание логически верифицируемо или непосредственно соотносимо с истинностью и действительностью.
В целом можно говорить, что в центр внимания многих лингвофилософских направлений, развивавшихся после острого спора феноменологии и неокантианства, встала проблема взаимоотношений логики и языка на фоне их соотношения с априорным и/или истинным смыслом и действительностью, т. е. комплекс проблем, непосредственно соответствующих описанному выше лосевскому пониманию лингвистического смысла противостояния феноменологии и неокантианства.
§ 19. Противостоящие, по Лосеву, версии в понимании соотношения логики и языка. К числу самых выразительных и вместе с тем концептуально насыщенных противостояний лингвистических идей 20—60-х гг. можно отнести, с одной стороны, набравшую силу идею о деструктивной роли языка, запутывающего в свои аморфно-двусмысленные сети научно-логическое или «чистое» мышление (неизлечимая болезненная непрямота языка), с другой стороны, получившую не менее широкое распространение обратную идею о беспрецедентном возвышении онтологического статуса естественного языка, феноменология которого мыслится в таких случаях как способная заменить собою самое «первую философию», поглотить всякую логику и стать адекватно-прямым выражением истины и действительности. Противостояние хорошо узнаваемое, условно – Витгенштейн (ранний) против Хайдеггера.
Если отвлечься от деталей конкретных лингвистических концепций, то интеллектуальную технику, применяемую для доказательства идеи о деструктивной роли неспособного на прямое выражение языка для чистого и «истинностного» логического мышления, можно при всех частных различиях оценить как аналогичную в своей основе той, которая ранним Лосевым расценивалась как неокантианская,[187]187
См. аналогичную оценку истоков этого направления Ф. Анкерсмитом, согласно которому философия языка XX века, занимавшаяся проблемой соотношения языка с миром, была продолжением кантовской эпистемологической традиции и «дала логический позитивизм, философию обыденного языка, прагматизм и всю философию науки». Этой философией, говорит Анкерсмит, «вдохновлялись в своих сочинениях Рассел, Витгенштейн, Тарский, Гудмен, Поппер, Куайн, Дэвидсон, Рорти и многие другие» (Нарративная логика. М., 2003. С. 7).
[Закрыть] возвышение же онтологического статуса языка – как аналогичное феноменологическим постулатам (в некоторых, но далеко не во всех случаях это соответствует и самоидентификации направлений: возвышение статуса языка происходило, в частности, в тех направлениях, которые двигались в феноменологическом русле или мыслили себя как таковые, хотя, конечно, толкование причин и последствий возвышения статуса языка сильно разнится от направления к направлению и от автора к автору).
Так, Р. Карнап, опираясь на идеи раннего Л. Витгенштейна, прямо противопоставляет их феноменологизму М. Хайдеггера, определяя при этом последнего как «главного» современного метафизика. Анализируя, например, один из текстов Хайдеггера про ничто, Карнап оценивает его как образец бессмысленных псевдопредложений: так как всякий метафизик, каковым, по Карнапу, является Хайдеггер, «и не высказывает аналитических суждений, и не желает оказаться в области эмпирической науки, он может породить только псевдопредложения…».[188]188
Карнап Р. Преодоление метафизики // Аналитическая философия: становление и развитие. М, 1998. С. 77–80. (Далее – АФ).
[Закрыть] Возможности философии ограничиваются в концепциях этого типа двумя полюсами: аналитическими предложениями и познавательными операциями над данными эмпирических наук.
Со своей стороны, Хайдеггер (также принципиально критиковавший метафизику, но с иных, феноменологических, позиций) резко высказывался против господства логики, неправомерно, с его точки зрения, очаровавшей часть лингвистики – в том числе ту, которая развивалась под явным или неявным знаком неокантианства, потерпевшего, по Хайдеггеру, поражение в дискуссии с феноменологией (известен очный спор по этому поводу между Хайдеггером и Кассирером). Идея решающего главенства логики концептуально размывается, по Хайдеггеру, «в круговороте первоначальных вопросов…» (АФ, 84–85).
Максимально обобщая, к лингвистической традиции, аналогичной неокантианским принципам в их лосевском понимании, можно, как уже понятно, отнести аналитическую философию, включая Венский кружок, все варианты симбиоза лингвистики с математикой и – что на первый взгляд менее очевидно – структурализм, включая его функциональные версии (о структурализме ниже будет говориться особо). К находящейся же в зоне влияния феноменологической традиции можно отнести «континентальную» философию языка, в которой на первый план вышли экзистенциальные и герменевтические мотивы (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, X. Г. Гадамер и др.), и те направления, в которых преобладает теория выражения (Б. Кроче, К. Фосслер и др.). Сюда же примыкают «частные» лингвистические концепции (социолингвистика, психолингвистика, стилистика и др.), в которых грамматика ставится в зависимость не от логики и смыслоразличительной функции (как в аналогичных неокантианству версиях), а от других выдвигаемых на первый план «выразительных» функций языка – экспрессивной, эстетической, риторической, идеологической или, что наиболее в данном контексте существенно, коммуникативной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.