Текст книги "Бабка Поля Московская"
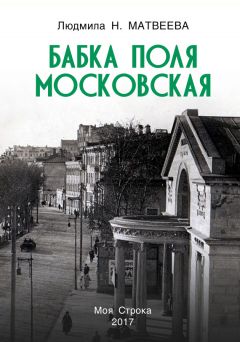
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Часть 3. Продолжение чудес – в Чудовом переулке
А осенью началась война и длилась потом без конца и края. В начале зимы 1914 года дядя Кузьма был мобилизован (вместе с Соколиком), сначала долгое время возил на фронт почту и посылки, а потом, «ближе к отречению», стал перевозить тяжелые орудия, вплоть до границы с передовой, и однажды в поле настигнут был смертельным разрывом «бонбы» и погиб с конягой своим неразлучным «от немцев».
Жена его, «московская не барышня», стала получать от Почтамта «пензию на троих ребят»; старый дьяк помер почти сразу после известия о гибели Кузьмы, успев отслужить заупокойную и по любимому зятю, и по Соколику; и в доме началось «бабье царство».
Как – то постепенно Полине дали почувствовать, а потом и понять, что она стала «лишним ртом». Ей намекнула вдова-тетка, что надо бы теперь вернуться к своим, к отцу родному, в деревню. Но это было выше ее сил, она знала по редко доходящим оттуда весточкам, что все живы-здоровы, отец живет один со старшими тремя сыновьями, двое помладше – у Саньки. Та через год рожает, и вот что странно, как сглазили ее, – родит каждый раз по двойне, да все мальчиков, но они почему-то, не прожив и недели, помирают… Ваньку-кузнеца не тронули, он как работал на кузне, так там и оставался, работы сначала было много, потом – все меньше и меньше. Не хотела, нет, сильно, до отчаяния, не желала Полька возвращаться к отцу.
Чтобы избежать теткиных попреков, Поля нанялась на работу мойщицей бутылок на «Завод Коньячных Вин Арарат» в соседнем Кривоколенном переулке.
Теперь она сама платила «за постой» старой дьячихе и молодой вдовице, за свое обжитое место под лестницей на сундуке со слегка побитым молью приданым.
Революцию Полина заметила только потому, что «кли (около) Почтамта стреляли!». Выходить в булочную и в молочную в Банковском переулке стало страшно, гулять с детьми в выходные по Чистопрудному бульвару даже опасно – могли задеть шальные пули и шальные же «личности», коих появилось вдруг множество на Мясницкой площади перед Почтамтом. Главпочтамт был постоянно закрыт и охранялся вооруженными «матросиками». По соседней Лубянке двигались люди в кожаном и с наганами, гроздьями заваливались они в брички или куда-то все поспешали, громоздясь в открытых ландо автомобилей. Трамваи же ходили с большими перерывами, а потом и вовсе перестали – отключилось электричество. И опять впряглись в конки старые лошади.
Среди всей этой уймы пришлого народа толпилось великое множество молодых мужиков, но вот жениха все как-то не находилось. Несмотря на это, Полька – мойщица продолжала наряжаться каждое воскресенье, держала себя чисто и чинно, надевала все самое лучшее, даже платок купила себе цветастый, белый с маками. Но в церковь не заходила. Не то скучно стало, не то дьяк-дедушка вспоминался, как он, бедненький, аж лбом стучал на частых молитвах и всех бухаться на колени заставлял, а как не стало его, так все и разленились. Поля ставила в церкви свечки в Покров за «жениха хорошего», но не помогало. Тогда она решила оставаться всю жизнь «в девушках», да и «что толку-то от мужчин от ентих, ребятишек только наделают, и возись с ними потом всю-ю жизнь». И то правда.
Пелагея была «неученой», то есть совсем неграмотной (в отличие от своего отца – мельника Стёпина Василия Ивановича, деревенского грамотея, читавшего семье вслух и Библию, и Священное Писание и никогда не садившегося за стол, лба не перекрестив и молитву про «хлеб наш насущный» не прочтя). Когда жив был старый дьякон – тесть «дяди Кузьме» – в доме тоже читали священные книги, и дедушка этот пытался обучить молодую няньку грамоте, но неграмотная супруга его, старая дьячиха, вдруг выступила против, и на том дело и кончилось.
Почти сразу после Революции, а именно ранней зимой 18-го года, на заводе «Арарат» открыли ликбез для молодых рабочих. Туда записали Полину и ее товарку по работе Нину. К концу 1918 года Поля выучилась расписываться и читать вывески. Потом им с Ниной и еще одной молодой девушкой – дворничихой Зоей – снимавшим жилые углы за свой счет, на троих дали от завода вместо общежития (которого не было и быть не могло у завода в центре Москвы) большую 28-метровую комнату в два высоких «итальянских» окна в бывшей буржуйской квартире в Чудовом переулке Мясницкой улицы, во втором этаже огромного серого шестиэтажного «доходного дома со всеми удобствами».
Уплотненный «семикомнатный буржуй» был обрусевшим немцем, профессором медицины по фамилии Брандт, из екатерининских или даже скорее еще петровских жителей Кукуевской Слободы на Басманных улицах, в Лефортово, где он работал всю жизнь хирургом в военном госпитале, потому и не был затронут ни во время поражений Первой мировой, ни потом долгое время большевиками (его «взяли» в 38-м году, ночью, вместе с сыном – знаменитым московским футболистом, и потом о них не было больше ни слуху, ни духу). А в 1919 году за ним еще приезжал извозчик и увозил в «шпиталь» на работу.
Профессор Брандт вынужден был, в отличие от булгаковского профессора Преображенского, уступить все свои шесть «лишних» комнат, потому, что вдруг стал «врагом» еще с начала Первой мировой, как немец. Но хирурги требовались и белым, и красным, вот и оставили его работать пока. Вся его семья – «бабушка-мадам» Брандт, то есть мать; незамужняя сестра Елена Ивановна – «мадемуазель Брандт», позже переделанная пролетарскими соседями в «мамзель»; и сын Отто – Толька, будущий спортсмен, чья мать – просто «мадам Брандт», «мадама», кстати, русская уроженка из чухонцев, она уехала одна в Финляндию почти сразу после октябрьского переворота и отделения финских болот от РСФСР, – так вот, семья его почти в полном составе стала жить в своей бывшей библиотеке, квадратной 20-метровой комнате со множеством красивых книжных шкафов с пестрыми занавесками в турецких «огурцах» за стеклянными дверцами и с огромным «трехсветным» эркерным окном-фонарем, выходящим в тихий зеленый двор.
Комната же трех рабфаковок располагалась прямо напротив, дверь в дверь через узковатый коридор, и была бывшей столовой. Потолки в квартире были пятиметровой высоты, огромные окна назывались «венецианскими», подоконники были из тонких бело-серых плит натурального мрамора.
На потолке доставшейся девицам комнаты уже не висела люстра, но остался огромный крюк в центре круглой лепнины, изображавшей толстого амурчика с трубой (или ангелочка с рогом изобилия?).
Через год товарка Нина вышла замуж и «прописала» мужа к себе; на 28 метров пришлось теперь 4 человека, и Нине разрешили разгородить комнату пополам, ровно посередине между двумя высокими окнами, а также прорубить в коридор новую отдельную дверь. Теперь у Полины с товаркой Зоей остались на потолке толстая попа и ножки амурчика, а у Нины с мужем-маляром Пантелеймоном, а попросту – Пашкой, видна была кудрявая ангельская головка и ручонки, держащие над ней изогнутую трубу.
Окно в оставшейся после раздела 14-метровой половине комнаты стало еще огромнее. А вот батареи зимой топить перестали. И обратиться с жалобами стало уже некуда.
Бывший домовладелец, старик Тыртов, не уехал никуда из своего дома. Он хоть и выселился добровольно из шикарного хозяйского 12-ти комнатного бельэтажа (объединенного когда-то по задумке архитектора из двух квартир) в четырехкомнатный полуподвал, но и там был «уплотнен» татарской семьей своего же дворника (называвшего себя, кстати, «князем», вплоть до самой революции, – ведь все московские татары действительно были когда-то потомками ордынских князей – но немедленно об этом забывшего с конца октября 1917). Через некоторое время он, тоже добровольно, «уплотнил» себя семьей бывшего своего привратника и лифтера Коли Подольского, как говорили, его собственного внебрачного сына от горничной. Так вот, этот старик Тыртов никак уже не мог повлиять на неисправности в бывшем своем доме.
Газа на кухне и в ванной тоже не стало. Водопровод еще работал; и на «парадной» лестнице еще висели боковые зеркала между этажами; но о ковровой дорожке напоминали только латунные кольца в основаниях гранитных плоских ступеней – для латунных же прутков-держателей этого бывшего коврового излишества.
Кабина лифта как застряла между верхним шестым этажом и чердачными «комнатами для сушки белья» (из этих кладовых на чердаке потом тоже устроили как бы квартиру, прямо под железными листами крыши и мощными деревянными балками), так и висела на тросах, ожидая подачи электричества.
Она рухнула вниз в конце 1922-го года, после получасового введения в действие ленинского плана ГОЭЛРО в результате попытки освещения Большого театра на очередном – или внеочередном? – партийном съезде. Дом выдержал, но кое-где уцелевшие лестничные зеркала и витражные стекла по центру фасада разбились на всех этажах окончательно и бесповоротно.
Удар от падения лифта потряс и подвал. Домовладелец Тыртов, как говорили, поселился в подвале не спроста, а специально, чтобы охранять зарытый под землю в бывшей котельной клад. Из-за этих слухов котельную громили по очереди все, кто мог, но пока ничего «такого» не находили. Старик же просто пользовался старыми, «доприжимными», запасами своего угля для топки таких диких для одного из самых представительных доходных домов Москвы новых печек-«буржуек». Под предлогом проверки «на предмет трещин в фундаменте» подвал осмотрела официальная служба. В результате осмотра весь уголь был реквизирован (вместо ненайденного клада) участковым уполномоченным Народной милиции.
«Черная» лестница дома (или «черный ход»), двери на которую выходили из огромных кухонь всех квартир, была в свое время оборудована между этажами отдельными туалетными комнатами для прислуги – «уборными» с фаянсовыми, в отличие от господских фарфоровых, унитазами со спуском воды. Эти унитазы были напрочь забиты засохшим дерьмом, а двери самих уборных заколочены крест-накрест досками наглухо. Лишь неистребимая вонь из-под всех щелей напоминала о прежних «удобствах» для простого народа. Теперь и их не стало. От отсутствия воды и тепла начинались холера, тиф, туберкулез (и сифилис, точно по Маяковскому).
Затянувшееся «стародевичество» и уже перенесенная оспа оградили Пелагею от всех этих страшных болезней. Но вот подруга Зоя … Ее «свезли в заразную больницу» вскоре после наступления Нового 1924 года, с высокой температурой, в бреду. Там она вскоре и умерла, «сразу после Ленина». Так заводская работница Поля оказалась единственной законной владелицей «цельных 14 квадратных метров» жилплощади в самом центре Москвы.
Часть 4. НЭП и новое с Полиной
Подступало голодное издевательство НЭПа, и опять в Москву как в грелку из гуммиарабика «принаперли» с новой силой всевозможные «новые люди» второй волны и третьей свежести.
Вот тут и началось активное сватовство к Полине со стороны ушлых желающих «прописаться» в ее комнатке: присылали сватов от соседей, от «заводских», от бывшей «родни» с Потаповского, и даже – от милиции. Последние были особенно активны, ходили с проверкой документов, как бы «по делу», и все время разные, и молодые, и не очень; и, наконец, появился один красавец-паспортист, Степан, и Полькино сердце растаяло.
Степан Иваныч, моложе Полины ровно на 10 лет, был родом из тамбовской деревни, приехал в Москву «от голода», тоже к дяде – пожарному при охране Большого театра, у него поначалу и жил. Дядя тот быстро устроил молоденького племянника в уже столичную (после переезда Правительства из сразу ставшего провинциальным Петрограда) милицию, куда охотно принимали «по лимиту», и Степан стал жить в казарме, называемой общежитием.
Это значило, что «московская лимита» никогда не начиналась и не заканчивалась, она перманентно продолжалась. Очередные «призывы» в Москву в дальнейшем то строителей хрущоб, то тех же милиционеров, то дворников, всегда вызывали у уже «устаканившегося» контингента лютое негодование. Потому что, если покопаться поглубже, то выходит, что все жители столиц – сами «по корням» всегда «лимитчики». И не только родившиеся в первом поколении московские дети, а даже прожившие в Москве лет десять-пятнадцать «лица» уже спешат назвать себя «коренными» и попутно объявить во всеуслышание, что Москва, дескать, не резиновая! А что такого? Даже предки профессора Брандта были, выходит, лимитой из еще «допетровского заезда» немцев в Москву. Центр во все времена притягивает шустрых провинциалов в любом государстве. Как тут не вспомнить и самого знаменитого лимитчика, классического гасконца, завоевателя Парижа?
Милиционер Степан был не только удивительно красив, строен, высок и голубоглаз, он был еще и грамотен, поэтому и стал паспортистом. Он случайно прочитал забытую в пожарке у дядьки кем-то из артистов Большого книжку про трех мушкетеров. После этого Степа умело пересказывал «своими словами» историю про четверых друзей не только сослуживцам, но и все новым и новым молодым девушкам, с которыми знакомился на «своем участке» в Армянском переулке и на скверах ближайшего к его отделению куска Бульварного кольца. Знакомства же эти умный Степан заводил не абы с кем, а только с незамужними обладательницами московской прописки, имена и фамилии которых он выписывал из паспортной амбарной книги.
Однажды в выходные на Чистых Прудах Степан «заприметил» Пелагею. Будучи в полной милицейской амуниции, то есть и в крагах и в гетрах, что производило на всех девушек особо неизгладимое впечатление, он прямиком подошел к Полине и негромко спросил, почему она прогуливается по бульвару в одиночестве. Полина не смутилась и бойко ответила, что «ему какое дело?». Красавец же вдруг сказал: «А, может, я посвататься хочу?» – «Вот и приводи тогда сватов, как положено!» – не растерялась Полька. И все тут, вот после этого, и началось!
На «смотрины» привел Степан Иванович дядю-пожарного (имя его утрачено в веках, как виновника всех дальнейших бед Пелагеи). Когда гости изрядно выпили, и, конечно же, закусили, то сразу же и засобирались домой. И Пелагея сама пошла их провожать, «до уголка» Чудова переулка! По дороге дядька Степана вдруг вспомнил, что должен еще «зайтить к куме», снял картуз, поклонился со словами «Прощевайте, Пелагея Васильевна!» и сделал ручкой молодой паре.
Московское имя «Полина» дядька-пожарник не признал, и не потому, что по пушкинскому «Онегину» она должна была именоваться Прасковьей, нет, Пушкина он не читал, только памятник видел, а тот, Пушкин-то, похоже, и наврал для рифмы, ведь Прасковьи в Москве становились Пашами, или Панями (потом такое имя носила Полькина «сватья», то есть свекровь ее дочери). Просто деревенскому его уху приятнее было имя Пелагея, так звали и его родную сестру, мать Степана, которая всего на 8 лет была старше будущей своей снохи-тезки.
Дошли Поля со Степой вдвоем «до уголка». И вот на углу на том, заворачивая в сторону дома, то есть своей общаги в Казарменном переулке на Яузском бульваре, Степа сказал Поле: «Прощай, милок!» – и эта ласка запала ей в память на всю жизнь. Было это в 1926 году, Пелагее пошел 31-й годок, Степану едва исполнился 21. Скоро они «записались», и Степан Иванович был прописан в Полькины «пол-транвая» на законном основании.
К тому времени соседи за стеной – подруга Нина и Пашка-Пантелеймон – жили и бедно, и грустно, потому что Нина уже во второй раз пыталась родить ребенка (первый, как и последующие за ним в течение их совместной жизни 4 младенца, был мертворожденным). Нина тяжко переносила все свои беременности и часто заранее отговаривала Пелагею от такого неблагодарного занятия – носить детей: «От этого только мука одна смертная и слезы, живи, Полька, лучше “сама-одна”!»
Неизвестно, как удалось Степану сломить девство Полины – он и сам был несказанно этим удивлен. Получив впоследствии от нее постоянную кличку «Кот!», он видимо тяготился Пелагеей, ее «честностью» перед ним – женихом и пожизненной верностью ему – мужу, о чем Поля постоянно твердила любившему повеселиться Степе, что и сгубило их брак на корню. Степан не то чтобы очень был охоч до бабья и девок – те сами не могли пропустить такого «душку» и щеголя, «слетались на него, как, прости Господи, мухи на говно», жаловалась Полька соседям. Степан еще и не готов был морально ни к серьезности женатого положения, ни к «обзаведению» детьми. Однако, через год, 7 августа 1927 года, у них родилась дочь. Поля свято верила в то, что родившийся ребенок «остепенит» молодого папашу. Потому и назвала девочку Верой.
Часть 5. Жисть семейная…
Верочка родилась до того хорошенькая, до того подвижная, живая, с точеными ручками и ножками, с волнистым чубчиком темных волос над огромными черными глазищами в абсолютно синих кукольных белках, ярких и ясных, и до того похожа на отца, что Польке даже завидно стало где-то в глубине души, что вот родила она не себе, а ему родную девочку. И была права, потому что любить дочку Степан начал сразу же по-сумасшедшему, и уж не в пример сильнее, чем Полину.
Сама Пелагея после родов очень похорошела и расцвела; волосы забирала в тяжелый крупный пучок, закрывавший всю гордо оттянутую на недлинной крепкой шее назад и вверх голову с гладко зачесанными на прямой пробор висками. Закалывала она всю эту блестящую, промытую до скрипа массу буйных, слегка вьющихся волнами, волос диковинными «царицыными» шпильками, купленными еще «тятей Василием на тульской ярманке» в подарок невесте Ксении, матери Полины. Шпильки эти сами по себе были бы обычными, двухконечными, из легкого черного прутка податливого металла, согнутого пополам как бы в узкую дугу. Но на каждой верхушке такой дуги красовалась нанизанная и зажатая обоими металлическими концами по бокам очень большая бусина из настоящей бирюзы. Крупные бусины эти, а изначально их была целая дюжина, на воткнутых в волосы и незаметных шпильках образовывали вокруг головы чудесную зелено-голубую в темных прожилках корону – нимб, и молодая кормящая мать выглядела как святая.
Верочку кормила Пелагея только грудью, и довольно долго, но когда девочке исполнилось 6 месяцев, она вдруг «плюнула молоко», отвернулась резко от материнской груди, сильно сморщила носик и заплакала, что происходило с ней крайне редко. Больше она ни разу «грудь не брала». Обеспокоенная Полина подумала, что Верочка заболела, и рассказала о случившемся вечно беременной соседке Нине. Та, не долго думая, сразу определила так: «Знаешь, что скажу тебе, Поля: квартиру эту, видать, прОкляли, в ней здесь детЯм не жизнь!».
Тогда испуганная мамаша не выдержала и поделилась опасениями по поводу услышанного с «бабушкой-мадам» Брандт, владевшей когда-то всей этой «жилплощадью», а также на всякий случай спросила у нее, что было в прежние времена с детьми в этой ее бывшей квартире, брали ли они грудь или вот плевались материнским молоком, а сами орали от голода?
Бабушка Брандт по-русски понимала с трудом, для «перевода» пригласили соседку Настю – бывшую «белую» горничную «бабушки-мадам».
Настя жила в этой квартире «всегда», но после «уплотнения» ей пришлось обосноваться в 6-ти метровой прежней кладовой при кухне, без «своего» окна – свет туда шел из окна кухни. Почти грамотная и даже понимающая кое-что «по-иностранному» бойкая Настя теперь жила там не одна, а с мужем-каменщиком по кличке «Сипугашник».
Звали-то этого вечно сиплого от перепоя Сипугашника по паспорту Михаил Богатырев, да был он слишком мелкий и щуплый для фамилии своей. Но зато пьяный дрался как зверь – в основном, с Настей, – и ровно до тех пор, пока та не брала его за грудки и не швыряла со всего маху на постель; вот тогда он быстро смирялся и засыпал.
По выходным веселый Сипугашник очень любил играть часами напролет и почти без останову (ну разве только отхлебнет из лафитничка и быстренько закусит натертой чесноком горбушкой от черняшки), на балалайке, и это до восторженного восхищения нравилось соседям Пашке и Степке. Паша приходил тогда подыгрывать на гитаре, а Степа – на гармошке, и у них было радостное русское трио, что вечно раздражало других соседей, – «чертей чуднЫх не русских».
У Насти с Мишкой росли две девочки-погодки, Ольга и Тамара. Настя особенно долго кормила грудью свою старшую дочь, почти до двух лет, и объясняла это тем, что «жрать-то все одно было ей давать нечего!» И вот в процессе «перевода» Полькиного вопроса, в основном, на пальцах и с громким криком, все это для вовсе не глухой бабушки-мадам, Настя открыла Польке глаза: «Девка молоко твое плюет, потому оно горькое, как ты в тяжести в другой раз! Моя Лелька тоже плевалась, как Тамарка в животе подходила!».
Для Пелагеи это было ударом.
Абортов она не то, чтобы «не признавала», но в силу своей «первобытной дремучести», а также долгого житья сначала в деревне, в родительской семье, где крепкой веры мельник и мельничиха не пропускали праздничных служб и рожали, «сколь Бог дасть», и потом в московском доме священнослужителя, – считала это дело большим и тяжким грехом.
Полина не была как-то особо крепка в вере, может быть, и потому еще, что наблюдала священническую жизнь «с изнанки». Однако, понятие греха жило в ней, никогда не угасая и принимая иногда просто изуверские формы, а особенно по отношению к греховности поступков своих близких. Не судите, да не судимы будете! – это не про нее, ведь она никогда не сомневалась, – потому что и не задумывалась над этим, – в своей собственной непогрешимости.
Всю жизнь она тяжко и честно трудилась на других, не думая о себе. Судьба обходилась с ней достаточно сурово, и так же сурова была Пелагея к людям. Всех, кто относился к ней с искренним добрым чувством, кому она действительно не была безразлична, она потеряла, потому что они просто ушли из жизни. Мать, да дядька, – вот и все, кто, кажется, любил ее, и любил просто так, ни за что.
Отец, конечно же, тоже должен был любить ее, но он поступил с ней несправедливо, выдав замуж вначале младшую сестру.
Сестра? Да та всегда жила сама собой, как бы отдельно от Пелагеи, вечно занятой по хозяйству, вытирающей носы младшим, стирающей в горячем пару горы грязного тряпья и полощущей в ледяной воде все эти немудрящие одежки, отбивая их деревянным вальком на огромном плоском камне под ногами на речном берегу, и в стужу, и в жару.
Сашка, сестра… И еще сидела занозой недобрая, обидная зависть к судьбе младшей – веселой, красивой и бойкой, но при этом и строгой с деревенскими «ребятами». Санька очень любила и попеть и поплясать, и втайне от отца и от суровой старшей сестры даже выучилась у дедушки-скорняка Фомочкина, старого солдата-инвалида, которого звали на все свадьбы и посиделки, играть на его гармошке.
Саньку любили все в деревне, и стар, и млад, а Польку – уважали и замолкали при ней, и как-то тушевались, потому что она могла в самый разгар немудрящего веселья войти в избу и сказать резко и коротко о том, что сейчас надо было сделать по работе.
К слову, даже отцу могла приказать, к примеру, так: «Батя, слезь с печки и распряги лощадь, я дров привезла!» Батяня молча, беспрекословно начинал делать то, что надо. «Санька, корова недоена!» – и Санька обрывала на полуслове какую-нибудь душевную песню и покорно шла доить корову. Может, Польке и самой хотелось бы и на печке полежать, и попеть, – как ни странно, неожиданно тоненьким «жалостным» голоском, а вот плясать она и вовсе не умела, – да кто же тогда хозяйством-то будет заниматься? Ведь все на ней – не уследишь, не скажешь – и все разъехалось, мамка из гроба не встанет, не поможет… При мысли о рано умершей матери Польке и вовсе становилось не до суетного веселья. У нас мама недавно померла, а они, вишь, песни веселые поют и смеются, как ни в чем не бывало! И-э-эх, вы!!!
И за глаза, и в глаза Польку всегда называли Хозяйка. А она и была хозяйка. Все решала и делала сама, всегда! И никто ей не сопротивлялся. Потому что плохому она не научит, а все по делу, все по делу, все знает.
Вот только в бабьем своем нутре не чует иногда, что правильно, что нет… Любит она своего Степана, тает вся от его прикосновений, может иной раз на лицо его, спящего, все утро просмотреть.
А он с ней неласков, ни обнимет, ни поцелует, ни шлепнет. Встает, молча ест и уходит на работу до вечера. Вечером придет поздно и обязательно навеселе, нет, не пьяный, но чего веселиться-то? С чего, с какой радости? Денег вечно нет, Полька и вышла бы поскорее на работу, да ребенка не с кем оставить. А вот теперь еще и новая беда – не увернулась, опять забеременела.
Это все Степан, зараза, ведь просила его поберечь, а он и слушать не захотел, быстро, как нужду справил, отвалился и захрапел, не погладил даже!
Полька заплакала было громко, завыла почти, да спохватилась, что стоит пень-пнем прямо посреди кухни, а на нее, вытаращив глаза свои немецкие из-под круглых очков, с ужасом смотрит бабушка-мадам, а рядом, с большим интересом, наблюдает Настька. Приходилось часто выть и Насте, от мужниных побоев, а теперь вот пусть гордая Полька поплачет. А то как же? Время голодное, лишние рты никому не нужны!
Бабушка Брандт вдруг ласково потрепала Полину по щеке и сказала: «Будь рада, милая, будь рада!» – и тихо ушла с кухни. Настя постояла-посмотрела и пошла себе в свою каморку.
Пелагея стала мыть посуду и задумалась. Ведь вот опять «декрет» придется на работе оформлять – так и выгнать могут, не посмотрят на двоих детей. Но более всего мучила мысль о том, что Степа, как пить дать, «котует» от нее на стороне, ночевать домой часто не является, ссылаясь на ночные дежурства.
Обида, одна горькая обида! За что ей все это? Была бы сейчас одна, без детей, без Степана-«кота», горя бы не знала! Всю жизнь он ей испоганил рожей своей смазливой наглой, паразит!
И Полька все-таки разрыдалась, бросив таз с недомытой посудой, и тоже поплелась в свою комнату.
Там, в углу, в кроватке, соструганной из светлых брусочков, стояла Вера, сосала пальчик и подпрыгивала на ровненьких стройных ножках.
«Вот Кирбитиха! И впрямь!» – зло подумала Пелагея, вспомнив, как ее слишком молодая свекровь, приезжавшая из Тамбова к старшенькому Степушке с младшим сыном, двенадцатилетним Семеном, посмотреть и на внучку, и впервые на свою невестку, так вот, как свекровь тогда сказала, взглянув на Веру:
– «Наша кровь! Моя даже, отца моего, а твоего, Степушка, дедушки, помнишь его? – Кирбитова-купца!»
И уж не отрывалась всю московскую неделю от хорошенькой непоседливой Верочки, а на невестку свою даже и не смотрела вовсе, как будто ее и не было в доме или зашел кто посторонний. Поля попробовала было сказать ей «Мама», но та так на нее взглянула с насмешкой, – ничего, правда, не сказала, – что потом Пелагея ее просто никак не называла, только «Вы» да «Вы».
Зато брат Семушка так приласкался к Пелагее, что забыла она всю свою строгость, вспомнила оставленных когда-то на деревне мальчонками родных братьев и стала изливать на Семена всю свою накопившуюся нежность, избавляясь вместе с этим от чувства глухой вины перед маленькими когда-то братьями.
Семену одному шепнула при прощании:
– «Приезжай в Москву теперь, да сам, без мамки! Встречу тебя, в школу здесь устрою, что там в глуши делать-то тебе?»
А мужу Степе сказала: «Выписывай брата к нам, здесь у него доля получше будет!»
Поля вытерла слезы и сказала дочери, строго, как взрослой: «Спать ложись!».
Вера все поняла, послушно села в кроватке, потом прилегла головенкой на подушку и ласково замурлыкала, сама себя убаюкивая.
Вечером Пелагея с замиранием сердца ждала мужа, ведь как знала, что он разозлится!
Степан сразу сказал:
«Полька, делай аборт! Не прокормим! И как же это ты умудрилась, ведь не сплю я с тобой почти!»
Сказал, как плетью высек голую на виду у всей деревни! (Так бил пастух в Полькином детстве свою шалаву-жену, которая, вся деревня знала, спуталась с цыганом и родила смугленького курчавого цыганенка.)
Поля сжала губы, чтобы не заорать на всю квартиру, и тихо прошипела, как змея:
– «Прокормишь-шь-шь! Никуда не денешь-шь-шь-ся! Еще и третьего рожу, если захочу!»
Степан плюнул, вскочил. Натянул свою гимнастерку, застегнул ремень и выбежал из комнаты, а через некоторе время хлопнула дверь квартиры.
Опять ушел, скотина безрогая! Он-то – безрогая. Да вот ты – с рогами. За что, Господи! И опять – слезы, слезы!
Разговоры о переезде малолетнего Семена в Москву закончились тем, что брат действительно «выписал» его в конце лета к себе, но строго приказал помогать во всем Поле управляться с маленькой Верой и с будущим младенцем, короче, быть вместо няньки.
Семушка беспрекословно подчинился брату и «няне Полине», приехал и начал, радостно и светло глядя на Полю, помогать ей действительно во всем: подметал и мыл полы в огромной квартире в свой очередной срок, бегал в магазины, гулял с ненаглядной своей племяшкой Верочкой, ковыряясь с ней и сам в песочнице на Чистых Прудах.
Сильно уже беременная вторым ребенком, Поля не выдержала однажды ночью душного летнего бессонного одиночества, тихо оделась, чтобы не разбудить Веру и Семена, и поплелась на Чистые Пруды. Там присела на лавку напротив пруда, отдышалась, и ей стало немного легче. Тогда она поднялась и очень медленно дошла по Покровке до Армянского переулка, где в голубом роскошном особняке с самых первых дней «переворота» расположено было отделение милиции. Она хотела увидеть Степана, он был на ночном дежурстве.
В дежурной части Степана не оказалось.
«На задании!» – коротко рявкнул дежурный участковый на вопрос, а где же Степан Иванович. – «А вы бы, гражданка, в таком вашем интересном положении по ночам бы одна и не ходили, а то не дай Бог что случится! Идите себе домой, будьте так любезны!»
И Поля покорно развернулась и пошла восвояси.
Но мир, как известно, не без добрых людей. Уже у самого порога милиции ее догнала местная уборщица и захлебывающейся скороговоркой вполголоса сообщила, что «твой-то – у дворничихи нашей молодой, рыжей-бесстыжей, которую уж ночь у ей гуляет, да вон, во дворе, ее подвальное окно с желтой занавеской, вон свет у них горит, там и сидят – пируют вместе с нашим домуправом, жрут-пьют и в карты играют всяку ночь!»
Полина, хоть и схватилась сразу за живот, но все же заглянула вниз, выставив зад, в это подвальное, неплотно занавешенное, окно.
«Кот» сидел там на диване с гармошкой, сняв сапоги, положив ногу на ногу, и смеялся, чёрт красивый, во весь рот!
Полька, не долго думая, определила, где вход в квартиру дворничихи, и как-то быстренько туда вошла, прямо в комнату.
Рыжая побелела до веснушек, Степан Иванович разинул рот, а управдом рванул в дверь и пулей выскочил из ужасной этой ситуации.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































