Текст книги "Бабка Поля Московская"
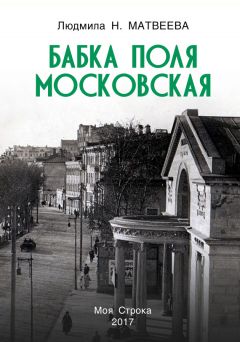
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Часть 13. Сын
Радость Пелагеи от жизни без войны потихоньку затухала, своим чередом шла все та же работа, часто сверхурочная, и легче как-то вот не становилось. Голодно было; для того, чтобы «отовариться» по карточкам, приходилось стоять в долгих ранних очередях. Домой Пелагея приходила поздно, детей по вечерам не было никогда – где-то шлялись до темноты, ночевать заявлялись одна – в час ночи, другой и вовсе под утро.
Пелагея спасалась от одиночества на кухне, при соседях. Выходили ставить чайники последний раз около десяти вечера, вода иной раз аж выкипала, до потрескивания окалины, а завязавшаяся беседа – нет. И на душе заметно веселело от простых этих разговоров.
От Степана пособие последнее на восемнадцатилетнего уже Кольку пришло в декабре – а весной парня должны были забрать в армию.
Николай сильно вытянулся, но не стал, слава Богу, дылдой, как другие, которые аж горбились от худобы и высокого роста.
Острые и очень широкие его ровные плечи так и играли мускулами, и весь он был ладный да складный, ловкий, длинноногий. Лицо узкое, худое, глаза огромные синие, что твои васильки, брови вразлет, а вот волосы цветом каштановые, как у Пелагеи, но мягкие и редкие, как у отца.
Чуб Николай зачесывал назад и гладко, и это придавало ему невыразимый налет благородства.
Улыбка на лице всегда, добрая и веселая – сразу видать, простак! И все поет, даже в ванной, заливается соловьем, и в кого только уродился с голосом?
Вот девки на нем так и висли гроздьями! И кому-то только достанется? Да ладно бы – девки, а то ведь и бабы, – и немолодые, притом, лет под тридцать, – с ума сходили, проходу не давали. Полину, мать родную, во дворе останавливали с вопросами и просьбами срамными – вот дуры-то!
Но Колька, к слову сказать, молодец был – уж не чета папаше своему, вовсе не бабник, хоть и красавец писаный. Все ездил с приятелем своим Витькой в Сокольники, в ансамбль песни и пляски его приняли в военный какой-то, голос у него прорезался, ну как прям у Лемешева, преподаватель даже приезжал, сказал, пусть Пелагея похлопочет в военкомате, чтобы Николая Степановича в армию через ансамбль этот взяли.
Вот просит Коля ему аккордеон купить, хоть подержанный – играть он уж где-то научился, теперь инструмента не хватает. А деньги где? У отца никто просить не будет, ни он, ни Верка. Гордые больно. Ну да и ладно. Пелагея теперь белье стирать еще и у соседей из верхней, восьмой квартиры, подрядилась.
Там жили две пожилые старушки – сёстры-близнецы, Гордоны по фамилии, обе – врачи, одна из них – по женским делам, тайно, вишь, баб-то принимала, ведь под судом ходила всю дорогу, да куда уж нам всем без этого… Вот, а бельища-то кровавого куча, и не знала, куда девать.
Торкнулась она, Гордониха-то старшая, раз в свою ванную с двумя ведрами мокрого белья, крышками прикрытого, в комнате ее сестрой-помощницей кой-как застиранного, хотела все прополоскать. Тут выскочила соседка – старуха Авдеева, сама-то купчиха бывшая, из прежних владельцев квартиры, и стала орать на весь дом, чтобы белья тут сифилитичного и проституточного в квартире ЕЕ никто не стирал! А то она разом милицию вызовет, пусть они там и разбираются, кто больной, а кто – нет!
Вот, видно, посоветовали Гордонихе грамотные-то соседи Пелагею попросить, знали, что она все равно по ночам стирает, вывешивает во дворе, потом выгладит и молча принесет все белье в лучшем виде!
Хорошо Гордониха платить стала, вдвое против «своих» соседей. Но и им, своим-то, Пелагея не отказывала – только вот стеснялась побольше денег попросить.
Эх, Колька, Колька, купим мы тебе инструмент, уйдешь ты в армию на три, а то и на все четыре года – и что мы с Веркой с ним делать станем – пыль с него сдувать? А ведь просит малый. Ну как тут не купить?
Думы эти «про ребят», про завтрашний день привычно перед сном приходили в голову. Пелагея засыпала часа на три – четыре, до прихода кого-нибудь из детей. Потом молча, не делая уже никаких бесполезных замечаний юркнувшей под свое одеяло Верке, уходила на кухню ставить кипятить в темноте бак с бельем и чайник на старую плиту.
Потом тихо проворачивался ключ в двери квартиры – и на кухню проходил Коля. Зажигал свет, целовал всегда отворачивавшуюся «мамахэн» в висок, быстро пил чай и шел досыпать.
Вставали оба чада в семь утра, весело дрались сначала за тапки, потом за первенство или в туалет или в ванну, а уж напоследок – за место перед зеркалом, чтобы причесаться.
– «Коль, ну что тебе там причесывать-то, на что смотреть? Одни твои залысины – а торчишь уже минут десять! На вот тебе щипцы горячие, лучше накрути меня сзади, мне самой не с руки – опять вчера обожглась» – приставала Вера.
Колька охотно и ловко закручивал длинные волосы сестры в крутые локоны, потом с непроницаемым выражением лица обмахивал ее плечи полотенцем, картинно вешал его на согнутую в локте руку, изгибался в поклоне и протягивал ладонь лодочкой – «Мадам, с Вас за всё-про всё тридцать рублей, да еще и на чай бы рубликов десять за скорость.» – «А не обоссышься?» – весело грубила в ответ Вера, и оба, хохоча, убегали вон из дома.
Вера одна знала тайну Колиных приходов лишь под утро.
Из ансамбля с репетиций Николай возвращался часов в одиннадцать вечера, входил в свой дом – и исчезал. До утра почти.
Тайна его поджидала прямо в подъезде, но внутри, на лестничной площадке, хватала за руку и вела к себе, вниз, в квартиру номер один в полуподвале.
Звали ее – Маша Тыртова, и была она дочерью старика-Тыртова, бывшего владельца всего дома. Папаша Тыртов исчез перед самой войной, как будто «скрылся в неизвестном направлении». Черный воронок за ним не приезжал, больницы и морги ничего не сообщали. Старик просто вышел из дома прогуляться до Чистых Прудов – и как в воду канул.
Маше было ровно сорок лет, работала она продавщицей в овощной палатке на Сретенке.
Была она богата и очень толста, ходила зимой в натуральной цигейковой шубе и носила «перстеня на всех пальцах» – как гудели ей в спину старушки, сами подобострастно здороваясь и первыми кланяясь Маше при встрече.
Неоднократно Машу сначала арестовывали – но не за что-нибудь, а за растраты по «ревизским сказкам», но затем, и правда, как в сказке, обязательно отпускали – и некоторое время Маша ходила без шубы и колец, а выглядела, «как кошка драная». Потом она снова обрастала вещами и золотишком, утерянные зубы тоже заменяла на чистое золото и очень нравилась сама себе.
Маше с детства никто и ни в чем отказывать не смел – боялись связываться с папашей. Она была бы наследницей нескольких миллионов, кабы не революция и не экспроприация экспроприаторов.
Но сословия ее отец был мещанского, а женат был и вовсе на безродной девушке-белошвейке, воспитаннице одного пожилого купца-старовера, притом, из членов древнемосковского скопческого кружка.
Вот он-то и дал за девкой такое приданое, что Тыртову молодому и в жизнь не заработать – три дома доходных в самом Центре Москвы, и еще кое-что, «по мелочи».
Бывшая белошвейка, выйдя замуж, развернулась во всю ивановскую, после родов стала ездить лечиться на воды в Германию, в тишайший городишко Бад Соден близ Франкфурта-на-Майне, на горячие природные, с римских времен еще известные термальные источники с бурно пузырящейся водой, называемой местными «теплым шампанским».
По зеленому и увитому балконными и садовыми розами городку прохаживались, совершая моцион вдоль новомодного шоссе, уводящего в предгорья Таунуса, влиятельные или знаменитые русские соотечественники, писатели – сам Лев Николаевич, Федор Михайлович, а впоследствии и Антон Павлович.
В начале двадцатого столетия, за пять лет времени, создан был в том городишке затейливый и напоминающий древнеперсидский мираж в пустыне «дом с золотыми шарами» по проекту архитектора-австрийца Хундертвассера.
Мадам Тыртова захотела жить далее только одна – и только в этом доме, в той его части, похожей на сказочный терем и выходящей на крутую срезанную макушку горы.
Площадка эта замыкала верхушку дома огромнейшим круглым, опоясывающим все окна балконом, обсаженным густыми кустами жасмина и шиповника.
Отец увез маленькую дочь в Россию. Дома он стал жить со своей горничной и «прижил» с ней мальчика. Когда произошла революция, Маша, как единственная законная дочь, вместе с отцом, в письменном виде, отказалась, «где надо», от своего немалого наследства и недвижимости. Потому и оставили их, видно, в покое.
Маша жила в «уплотненной» квартире с семьей Коли Подольского, соседа-лифтера, хромого белобилетника. Были слухи, что вот этот-то Коля, по дворовому прозвищу Подоля, прижит был некогда стариком Тыртовым от молодой деревенской девки-горничной, и потому звал соседку сестрой, на что Маша презрительно хмыкала в ответ.
Торговать Маша умела, и единственным своим талантом считала, рассказывая об этом всякому желающему послушать, тот факт, что ни капли спиртного в рот не брала: «Нажираться на такой ответственной работе может только идиот – а у трезвого и смекалистого все будет на-гора!»
Позволить в рамках доступного Маша тоже могла себе все – был у нее в запасе «тухляк» на многих ответственных товарищей, могущих помешать жить. И отнять «документики» у нее пытались, и в тюрягу ее сажали – но выпускали «за недоказанностью и отсутствием достаточных улик».
Поговаривали в доме, что Машка одна знает номера каких-то счетов в заграничных банках, и убрать ее поэтому нет никакой возможности.
Как бы там ни было, Маша страдала только от одного – ее никто никогда не любил по-настоящему, а не из-за денег.
Была она некрасива, с кобыльим крупом, толстыми короткими ногами. Взглядом черных, маленьких и злых, глаз могла довести слабонервных или детей аж до икоты.
После революции все потенциальные женихи ее детского окружения оказались по большей части за границей. Новые и нищие просто не обращали на нее внимания.
И вот, нажившись изрядно на спекуляциях продуктами в войну, Маша отчего-то сильно затосковала, без видимых причин.
И вдруг, выглянув в свое полуподвальное широкое окно и зевнув от непреодолимой скуки, узрела однажды летом прямо у себя перед носом, во дворе, в стайке худых и голодных, плохо одетых подростков – красавца.
«Ну и что теперь делать?» – спросила сама себя. Потом подумала немного – и все решила. Сначала вызнала у Подольского, соседа, откуда мальчик. Оказалось – со второго этажа, из шестой квартиры, сын тети Поли и брат красавицы-Верочки.
Отец, бывший участковый милиционер Степан, их бросил и живет с молодой женой в Армянском переулке.
Колька – малый работящий, слесарь высокой квалификации, да еще и в клубе каком-то военном выступает, поет и на гармошке, что ли, играет, на тот год в армию ему уходить. Девушки постоянной нет, одни только профурсетки проходу малому не дают, аж во дворе дежурят кучками.
«Так, Подольский, окажи мне одну услугу – век не забуду, братец дорогой!» – решительно сказала Маша. – Подоля аж подпрыгнул от такой неожиданной почести и стал вникать дальше.
– «Разбери мне на кухне кран водопроводный так, чтобы и починить было нельзя, понял? Да хоть выломай его совсем, ясно тебе? А потом выйди во двор, и Николая сюда пригласи помочь, без него, мол, не справишься, понял?»
– «П-понЯл, кажись, сестренка! Сейчас все враз разломаю! И позову к тебе птенчика!»
Маша зыркнула на «братца во Христе» яростно:
– «Но, но, не заговаривайся! Я – то тут каким боком задействована?»
Подольский аж глаза вытаращил: «А как же ж, ты же ж сама сказала…»
– «Что я тебе такого про птенчиков-то сказала? Ты в своем уме? Кран нам надо починить срочно, понял?»
– «Ага, ага, это я мигом – починю… сломаю, то есть, и не починю. Так, что ли?»
– «Что ли так, бестолочь! Быстро зови парня чинить кран!»
Через полчаса на кухне, под вздохи удрученного Подоли, Николай ловко прикрутил все на места и хотел было уходить, вытирая руки ветошью, как в кухню, из которой немедленно испарился «братец», вплыла, катя перед собой сервировочный столик на колесиках, сама Мария.
Одета она была в шелковый яркий длиннополый халатик, аккуратная прическа-перманент явно сбрызнута была духами «Белая сирень» – очень благоухала.
Но самое неотразимое впечатление произвел на бедного голодного Колю накрытый этот столик. Чего там только не было – и все перекрывал аромат копченой тонко наструганной колбасы и чесночный запах нарезанного холодца с хреном между горками свежего белого и черного хлеба.
«Спасибо, Николай! Меня ты знаешь наверняка, Машей меня зовут, я тут живу, Подольского нашего, безрукого и бестолкового, соседка. А, вот он и ушел со стыда, слыхал, как дверью хлопнул, обиделся он, что ли? Коленька, милый, ты ведь денег с нас не возьмешь?»
– «Нет-нет, не надо мне никаких денег, спасибо, пойду я…»
– «Не торопись, и не обижай нас, хотя бы покушаем вместе, я вот только с гостями и сама-то кушаю, а то все как-то аппетита и нет, устаю очень на работе. Сделай милость, присядем тут, на кухне, посидим по-людски, покушаем и поговорим с тобой!» – и Маша, нежно взяв парня за руку, потянула его присесть на стоящий рядом шаткий «венский» стул, потом села сама рядом на крепкий табурет.
– «Угощайтесь, мастер вы наш дорогой! Не стесняйся, Коленька, я ведь, ты слыхал наверное, не бедно живу, все у меня есть, да вот скучно мне одной, поговорить с умными людьми негде. Да ты бери рыбку-то, ну, пожалуйста, сделай милость, не обижай!
Дай-ка я тебе маслица на хлеб намажу – да икорки черненькой сверху, только ложечку! Не бойся, не отравлю! А вот выпьем мы по рюмочке сладенькой с тобой, или же ты водочку вот попробуй!»
Колька сомлел, выпил водки, закусил, только хотел привстать да убежать, как Маша спросила: «Слыхала я, что петь ты, мальчик, умеешь очень душевно. Правда это, что тебя в Большой театр принять могут?»
Колька хотел сначала что-то возразить, но потом вдруг рассмеялся весело:
– «Ну и ну! Вот слухи-то у нас во дворе распускают, это надо же! В Большой театр меня, – тут он запнулся немного, но выдавил все таки ее имя – Маша, без “тётя”, как ему хотелось сказать сдуру, хорошо, что вовремя спохватился! – И на пушечный выстрел никто бы не подпустил меня без образования музыкального туда!»
– «А о чем же ты, Коленька, – да ты выпей, вот еще рюмочку малую, давай, давай! И о чем же, Коля, ты мечтаешь?».
Коля выпил еще одну рюмку вкусной и сладкой вишневой наливки и спросил:
– «Честно?»
– «Конечно же, честно, Николай, мы с тобой люди честные – расскажи мне про свою мечту, а я тебе потом – про свою!»
К вечеру, благо был выходной, Коля, осуществив простую мечту новой своей знакомой, решил у Марии заночевать.
Но она, после всех ласк и поцелуев, все-таки сказала сразу:
– «Милый, оставаться на всю ночь тебе у меня нельзя. Ты придумай себе какие-то занятия, дежурства, матери надо знать, что ты хоть к утру, да домой ночевать придешь. Будет она волноваться, любит тебя очень! Да и как тебя, милый, не любить, такого раскрасавчика…»
Часть 14. Нескучный Сад
Наступил и быстро прошелестел желтыми листьями очень теплый сентябрь, а девушки Вера и Капа продолжали проводить вечера исключительно на танцах.
Только уже не на танцплощадках Парка культуры или в Центральном Доме Советской Армии – ЦДСА, там, они, конечно же, тоже бывали, но по выходным.
Веру пригласили «попробовать свои силы» в танцевальный коллектив при ЦДКЖ – Центральном Доме Культуры Железнодорожников, что на Комсомольской площади у трех вокзалов. Она, конечно же, привела с собой и Капитолину.
Капа наконец-то познакомилась на танцах с мечтой своей жизни – молодым, но уже солидным, тридцатилетним, а, главное, еще не женатым, капитаном.
Правда, не летчиком, а из железнодорожных войск.
Правда, не москвичом или, на худой конец, ленинградцем, а сибиряком, из Томска.
Правда, не красавцем двухметровым, а коренастым крепышом очень небольшого роста.
Произошло это вполне случайно.
Звали его все без исключения по имени и отчеству, Петр Петрович, или просто товарищ капитан.
Войну он прослужил и прошел всю, испытал ее тяжесть на себе от и до, да только войну странную, тихую вроде и вовсе не геройскую, а такую, о которой царило в стране глухое молчание, а люди умирали, надрываясь от нее, как после крупных боев.
Сводки с передовой вызывали там, где служил Петр, то есть в глубоком советском тылу, такие передвижки по необъятной территории, что без участия транспортных войск по всем направлениям военных и тыловых железных дорог не могло обходиться ни одно наступление на фронте.
На гордых когда-то железных дорогах Центральной России и Юга, порушенных и покореженных военными действиями, работали день и ночь, получая помощь и поддержку от Урала и Сибири, и не только техническую, но и военную, и инженерную.
На железных дорогах за малейший отказ подчиниться военному начальству продолжали расстреливать без суда и следствия, как за дезертирство.
В Москве Петр должен был преподавать, весь первый семестр, с сентября по февраль будущего, 1948 года, на гражданских курсах «краткосрочного повышения квалификации путейцев». Жил он в общежитии, на Маленковке, недалеко от Сокольников, в отдельной комнате, узкой, как пенал.
Жил по-военному, в обслуге не нуждался.
Вечерами, когда некуда было девать свободное время, много спал, а иной раз и вовсе не уезжал после работы в общагу, а шел пешком в Центр, на Красную Площадь, частенько – в красивый осенний Парк культуры.
Там заглянул однажды на танцплощадку и приметил двух потрясающе милых и симпатичных подруг, не столичных «штучек крашеных», о которых наслышан был от приятелей, часто бывавших в Москве в командировках, и не Фенечек колхозных, а опрятно, бедновато, но с выдумкой, одетых молоденьких московских девчонок.
Они как раз в тот момент обменивались адресами с какими-то двумя курсантиками. Один стоял, упершись кулаками себе в коленки и подставив спину, как доску для письма, другой протягивал девушкам листок бумаги и карандаш.
Одна из подруг, с чудесной мраморно-белой кукольной какой-то мордашкой, безучастно наблюдала, как другая, живая и с веселой улыбкой во все лицо, пыталась изобразить на листке, развернутом ею на спине парня, свой почтовый адрес. Паренек дергал плечами и громко вопил, что ему щекотно, друг же строгим голосом внушал ему, чтобы он не мешал, а то куда им потом будет отсылать письма – на деревню дедушке Константин Макарычу, что ли?
Пока суть да дело, вновь заиграла музыка, и товарищ капитан подошел, приосанившись, разведя руки в полупоклоне и молодцевато щелкнув каблуками хромовых блестящих сапог, и пригласил на танец девушку с личиком из фарфора.
Представился, как Петр Петрович.
«Капитолина Романовна!» – с достоинством, предварительно скользнув быстрым взглядом по его погонам, ответила, вступая с ним в круг танцующих, Капа.
На нее слегка насмешливо, но вовсе не удивленно, посмотрела Вера, проплыв в танце с курсантом, свернувшим и спрятавшим в нагрудный карман листок с адресом.
Тот, на чьей спине записывали ценную информацию, стоял огорченно поодаль и по – детски, чуть не плача от расстройства, показывал кулак другу. Потом и вовсе взял и ушел.
Тела, молодые, горячие, кружились под музыку, и кружились головы от счастья жизни, от беспричинного веселья, тугим и сильным напором вырывающегося в эту жизнь, как чистая вода из-под крана какой-нибудь мощной уличной водокачки.
«Вы прекрасно танцуете, Капитолина, чувствуете и музыку, и партнера» – произнес Петр, удивленно ощущая в себе, – и в душе, и во всем теле своем, – давно забытую, как-то все откладывавшуюся им за ненадобностью вспоминать, радость от танца с девушкой.
«Благодарю Вас, товарищ капитан! – улыбнулась в ответ Капа. – Вы тоже неплохо танцуете, особенно, ведете – властный, видимо, Вы человек!»
«Прошу Вас, Капитолина Романовна, дорогая, называть меня просто Петр, пожалуйста!»
«Пожалуйста, Петр!» – легко согласилась Капа.
«Как здорово, боже мой, какая Вы чудесная, послушная девочка! Наверное, московская маменькина дочка, из тихой профессорской семьи, и дома Вам надо быть в десять вечера…»
«Как Вы угадали, Петр? Но сегодня мама с папой на даче, а в квартире со мной осталась наша домработница, она, конечно, может проболтаться, если я сильно задержусь… Но ведь мне негде задерживаться.»
«Прошу Вас, Капитолина, примите мое приглашение поужинать, я знаю здесь неподалеку, у Нескучного Сада, на воде стоит один такой плавучий ресторанчик, еще тепло, и есть столики прямо под открытым небом, красиво зверски, – и там очень хорошо кормят!»
Капа замялась, слегка покашляла – но промолчала.
«Вы думаете о подруге? Но я и ее приглашаю, вместе с Вами, если Вы позволите!»
Тут Капа вздохнула облегченно, и в знак благодарности чуть прижалась к плечу Петра.
Музыка умолкла, объявили небольшой перерыв.
Капа потянула Петра к выходу, возле которого стояли Вера с курсантом.
«Пожалуйста, знакомьтесь! – это моя подруга и соседка по дому – Вера, – Степановна, – на всякий случай, лично для Вас!» произнесла Капа, шутливо кивнула Петру и продолжила: Петр Петрович, мой хороший знакомый, – Вера, Петр приглашает нас с тобой сейчас же пойти с ним поужинать в ресторан!»
Вера вскинула черные глаза на Петра Петровича, потом посмотрела на примолкшего рядом молодого курсанта, высокого худощавого голубоглазого блондина, и сказала: «Очень приятно, спасибо, знакомьтесь и вы – Николай Андреевич, мой хороший знакомый» – и нажала при этом на слово «мой».
«А мы с Николаем решили погулять по набережной! Поэтому не будем Вам мешать! Всего доброго, и до встречи!» – и, не дав ничего возразить открывшему было рот Петру Петровичу, Вера, весело улыбаясь, помахала всем маленькой сумочкой, взяла под руку Николая, и пара очень быстро, причем, весело подпрыгивая и припадая друг к другу время от времени, чтобы просто кратко, на бегу, взглянуть в глаза, скрылась из виду.
«Эх, нехорошо, неудобно как-то получилось – подруга Ваша так сразу вот взяла – и ушла! И с мальчиком этим… не дали даже слова ему молвить…!» – сокрушался Петр, подходя с Капой к «Плавучей Галоше», как называл этот «цыганский» ресторан на воде московский люд, о чем Петр и подозревать не мог.
«Ничего страшного, Петр, в другой раз пригласим. А про юношу – он, во-первых, на один день у нее, а потом – явно не при деньгах, так что вряд ли согласился бы пойти» – спокойным, менторским даже тоном собственницы, произнесла Капа.
Петр внимательно посмотрел ей в лицо, но промолчал.
А готовили в ресторанчике действительно неплохо.
Курица копченая была жирной и вкусно поджаристой, не обгорелой!
Шампанское было если и не со льда, так холодным. И тоже очень приятным.
Капа, хоть и не голодала, работая официанткой, все же держалась и сама ела очень мало, старалась оставить свою еду для матери и маленькой племяшки Вики.
Зато, оказавшись вдруг в ресторане впервые, да еще и не по работе – по делу ей иногда приходилось заходить в рестораны, но – с кухни, для передачи каких-нибудь бумаг, – а по приглашению военного, Капа приналегла на все, что заказал Петр. Все было так хорошо, так приятно! И человек, сидящий напротив и неотрывно глядящий ей в глаза, показался таким милым, почти родным.
Но вскоре после того, как стало совсем хорошо, ей «незахорошело».
«Плавучая Галоша» хоть и крепко была привязана к берегу, а Москва-река хоть и не бурное море, но Капу все же, видимо, укачало с непривычки, да еще и шампанское, хоть и не водка…
От всех этих «хотя» и «однако» – произошла катастрофа.
Вдруг зазвенели громко десятки гитар, взвыли мужские и взвизгнули женские голоса, и по проходам между столиками и впрямь, «шумною толпою», ввалились на эстрадный подиум пестро одетые цыгане.
Таборные быстрые пляски встряхнули и ходуном ходить заставили плечи некрасивых, чем-то похожих на негритянок, но только тощих, молодых цыганских женщин. Взметнулись желтыми, красными, зелеными и синими кругами цветА атласного салюта широчайших юбок, и понеслось…
И Капа тоже понеслась – быстро выскочила из-за празднично-красивого столика, под удивленным взглядом Петра Петровича, но подбежала не к сцене, а к перилам и стравила все съеденное за борт под разливы «Цыганочки», и на каждое «Эх, раз – еще раз!» боялась оторвать взгляд от воды, тяжело переливающейся в темноте, жирной, как мазут, нет, как курочка копченая, ой, «Еще многа-многа-многа-а-а раз!!!»
Относительно пришла в себя Капа только на набережной у парапета под Большим Каменным мостом. Остановились с Петром раз в пятый по дороге. Капа почти легла грудью и животом на широкий прохладный камень и замерла. Вроде полегчало. Слава Богу, темно было.
Петр отошел немного в сторону, покурить, хоть и было безветренно.
Боялся, как бы ей от дыма хуже не стало.
А Капе вдруг нестерпимо захотелось курить самой.
Последний раз курили они с Веркой сегодня в сумерках у входа в женский туалет в Нескучном Саду, в кустах, прячась от всех, прикрывая в зажатых кулаках зажженные папиросы и неосознанно разгоняя дым вокруг себя руками.
Если бы мать Веры, Пелагея, увидела бы «курёжку» дочери в откытую (о том, что обе девки курят, она, конечно, знала и активно не одобряла, сказала про это только два слова «Увижу – убью!»), то – все, кранты, – завелась бы в истерике и в шипении по поводу шлюх, абортов, проституток и непорядочных ночных красавиц – бабочек-однодневок, и никогда бы Вера не посмела при матери закурить. При этом при всем, зная про сына Кольку, что он, конечно же, тоже курит – молчала, хотя он, как и сестра, никогда при Пелагее не курил и папирос на виду не оставлял.
За это терпела и Капа. Уж ее-то тишайшая мать никогда и никому не сделала бы замечания, а просто молча, не осуждая, приняла бы чужой грех и похоронила его в себе. В церкви бы про себя помолилась – и простила бы.
Капа запомнила еще из школьной программы, у Тургенева, что ли, было написано про женщину одну – «не в себе», просто из-за всхлипывающей пафосом интонации учительницы: «Дура! – сказали одни. Святая! – сказали другие.»
Капа свою мать к святым, почему-то, причислить не смогла.
Она зябко повела плечами, отлепила щеку от нагревшегося уже гранита и тихо попросила Петра, просто и на «ты»: «Дай закурить!»
Товарищ капитан, как ни в чем не бывало, достал портсигар, раскрыл и протянул девушке. Капа вынула оттуда, из-под мягкой резиночки, дорогую относительно «Казбечину», подождала, когда Петр зажжет спичку, сладко затянулась – и тут же закашлялась, бросила, не загасив, папиросу под ноги, отбежала шага на три, и ее снова стошнило.
Потом Капа, как слепая, на ощупь проводя руками по парапету, медленно двинулась в сторону дома. Петр пошел за ней. «Ну, как Вы? Слушай, давай на» ты«, пожалуйста! Как ты себя чувствуешь, получше?»
«Да пошел бы ты от меня, знаешь, куда? Отвяжись ты, ради Бога, и без тебя тошно! Отстань ты от меня, прошу тебя, как человека!» – Капа, не оборачиваясь, ускорила шаг и почти побежала.
Петр шел молча за ней на некотором расстоянии. Капа все убыстряла шаг, но капитан не отставал. Вдруг, неподалеку от перекрестка возле ГУМа, из-за угла вышли трое милицейских, и один из патрульных, пропустив девушку, но остановив жестом военного, сказал, не попросив предъявить документы: «Почему догоняем?»
«Поссорились, товарищ сержант!» – четко, не задумываясь, ответил Петр.
«Ну, тогда продолжайте!» – и Петр Петрович бегом побежал за Капитолиной Романовной «продолжать».
«Капа, Капа, подожди, давай я сейчас найду какую-нибудь машину и отвезу тебя домой, назови мне твою улицу и дом!»
«Где ты ночью кого-то найдешь? – вдруг остановилась Капитолина. – Да и пешком-то до дома минут двадцать. Я живу – мы с Верой живем на Кировской, в переулке недалеко от Почтамта и Чистых Прудов.»
Но сил идти у нее было мало, она дышала часто и как-то судорожно, и сжимала руки на впалом животе.
«Бледная ты у меня какая, ну просто как смерть» – и Петр крепко взял ее под руку.
Они пошли, и он тихо заговорил: «Доползем потихоньку, не дрейфь, и не такое пережили, а тут – просто какая-то тошнота. Потому что ты беременна? Капа, не думай. Я все пойму – и приму, понравилась ты мне по-настоящему, я давно ждал, когда же, наконец, встречу такую девушку, чтобы кровь мою взбаламутила и чтобы отпускать ее от себя ни на шаг не хотелось.»
Капа остановилась и вдруг громко и яростно сказала: «Послушай, ты! Хоть тебя это ни в коей мере не касается, но я тебе скажу! Я перестану быть девушкой только в первую брачную ночь, только с законным мужем, и в собственном жилье! А ты катись лучше отсюда – колбаской по Малой Спасской!»
Петр Петрович, товарищ капитан, молча подхватил Капу на руки и пронес ее, как ребенка, всю дорогу до дома.
Изредка останавливаясь, начинал целовать ее, как безумный.
Капа поначалу была в полном ужасе: «Да ты с ума спятил, прекрати немедленно, ведь меня же весь вечер тошнило, ну, не могу я – Петя, Петенька. Ну что ты делаешь, сумасшедший! И отпусти меня, ведь тебе же тяжело!»
На что тот отвечал о том, что своя-то ноша – не тянет. А что насчет чистоплюйства – так это московские дурные выкрутасы. Развели, понимаешь, тошниловок в городе – что же еще после них ожидать-то! Жить надо только в Сибири, в своем доме у большой воды. А вообще-то, в Галошке ему, почему-то, очень даже славно поначалу показалось. До того момента, конечно, как Капа, было, «в цыганки подалась.»
Тут оба неудержимо расхохотались, и смеялись до самого дома, а уж когда Капа завела его в свой темный и тихий двор, в подворотню, и попросила Петю отвернуться и не смотреть, но подержать ее за ручку, а то она пописать очень хочет, но боится, что упадет – тут уж дошли почти до колик.
* * *
В эту же ночь, почти по тем же камням набережной Москва-Реки, до утра гуляли и целовались Вера с курсантом Николаем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































