Текст книги "Бабка Поля Московская"
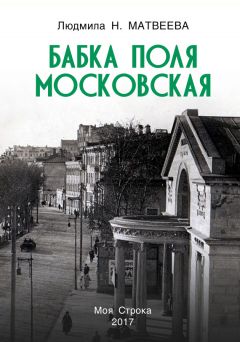
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Часть 15. Николай Андреевич
Пригласивший Веру на прогулку курсант – Николай Андреевич, – понравился Верочке сразу и безоговорочно.
Был он светлейший блондин с огромными синими глазами, остроносый, высоченный и худющий до степени какого-то святого почти аскетизма, так что даже показаться могло, что именно с его лица рисовались нестеровские иконные лики отроков.
Видела Верочка уже это его лицо – тогда еще, в очень раннем предвоенном своем детстве, когда соседка Евгения Павловна, та, что историю коммунизма в московской консерватории преподавала – сестра сумасшедшего Ники – водила ее и брата Кольку в Третьяковскую галерею.
Вере запомнились после этого «похода» большие картины, возле которых Евгения Павловна подолгу останавливала маленьких своих коммунальных соседей.
Картины были «про трех богатырей, про Царевну-Лебедь, про Ивана Грозного», как рассказывали потом дети матери своей, полуграмотной Пелагее.
Некоторые из сюжетов оказались вдруг смутно знакомыми – потому что виденными на многих подушках-«думочках» или просто в рамках за стеклом развешанных вышивках соседок.
Вере особенно понравились картины про старые весенние сады с нежными девушками в воздушных светлых платьях и про святого отрока с длинным и трудным именем, а потом этого мальчика стали звать Сергей, когда он вырос.
Вот Боярыня Морозова Верочке только не понравилась, чем-то здорово смахивала эта недобрая тетка на мать – Пелагею. Ну её, ненормальная какая-то!
А брату Коле почему-то приглянулась страшная картинка с кучей человеческих черепов, вот дурак! Он эту картинку потом часто в школе рисовал. На парте. За что бывал серьезно наказан. После этого Пелагея выговаривала соседке Евгении Павловне, что нечего детей на всякие ужасти заставлять смотреть, что там, в галерее этой, слыхала она от ученых людей, и бабы голые на картинках и на статУях во весь рост красуются – «Тьфу, да не детское же там зрелишше! Более не пущу!»
А еще обоим ребятам уже особенно понравилась сладкая газировка с пирожками на выходе из Третьяковской галереи, угостила их добрая Евгения Павловна одних, даже себе ничего не купила.
Евгения Павловна объяснила, что все люди эти на картинах – из сказок, и что таких вот именно их лиц в настоящей жизни никогда почти не было, и что художники нарисовали все по чужим описаниям, как они себе представляли то, о чем в старину, и долгие годы потом, рассказывали внукам бабушки и деды.
А художники – это те же обычные с виду дети, растут-растут, как все, но вдруг, когда им попадался в руки карандаш или краски, они понимали, что вот сейчас нарисуют ту, от бабушки на ночь услышанную завораживающую сказку, – и рисовали.
Многие любили в детстве рисовать. Но у других детей получались каляки-маляки, а у тех, кто очень хотел рисовать, получалось красиво, как в той же рассказанной им чудесной истории. Когда такие дети вырастали, они учились дальше не в обычных, а в художественных школах и становились все художниками.
Первое, что поразило Верочку после того, как она внимательно вгляделась в лицо незнакомого, танцующего с ней, курсанта, – это живое, почти реальное ощущение себя маленькой девочкой в теплом и светлом солнечном столбе, идущем сверху, со стеклянного потолка сразу вспомнившегося зала Третьяковки.
В памяти возник даже тонкий древесный запах от рам на стенах, даже мелкие пылинки в лучах над красным бархатным, посреди огромного зала стоящим длинным диванчиком, на который люди присаживались отдохнуть и полюбоваться подольше на рукотворную красоту…
Вера тряхнула волосами – очень вдруг захотелось снова увидеть картину с тем отроком из детства.
Вдруг перед ней всплыло на секунду лицо деревенского полузабытого гармониста Коли Генералова – Коли Белого, как его, дразня, звали тогда у тети Саши.
Тот был сейчас очень далеко, служил где-то на Севере, переслал с товарищем, побывавшим в Москве, короткое письмо – простой, сложенный вчетверо листок бумаги без адресов, – ни своего не сообщил, ни Верин не написал – друг принес и позвонил в одно воскресное осеннее утро прямо в дверь, ровно три раза, запомнив и московский адрес, и количество звонков наизусть.
Открыла ему сама Вера, она как раз собиралась идти умываться, была в стареньком летнем сарафанчике на голые плечи, еще непричесанная, волосы подобрала под вафельное белое полотенце, узким жгутом обвязав его вокруг головы.
Открыла дверь, думая, что это подруга Капа, почему-то в такую рань, – и застыла молча, увидев солдатика, который тут же сказал утвердительно: «Вы – Вера, здравствуйте, вот вам письмо!» и протянул ей белый прямоугольник.
Вера, прямо на пороге, кивнув молча незнакомцу, раскрыла и быстро прочла послание.
В листок была вложена небольшая фотокарточка с резными твердыми зубчатыми краями. На ней снят был смешной и щуплый белобрысый подросток в новенькой, еще лохматой из-под ремней, солдатской шинели и явно великоватой ему меховой зимней шапке со звездой.
Из-под шапки, здорово придавившей книзу кончики оттопыренных ушей, сияла младенчески-простая улыбка.
Вера как все это увидела, так не смогла удержаться от смеха, почему-то извинившись перед посыльным; потом спохватилась, наконец, и пригласила его пройти в квартиру.
Но юноша вдруг смутился, заторопился и сообщил, сбегая уже вниз по лестнице, что друг его, Николай Генералов, просил передать Верочке на словах, что после службы тот «за ней приедет», так прямо и просил передать.
Вера после этого немедленно поднялась на чердачный этаж к подружке Капе.
Та еще и не вставала, была настроена меланхолически.
Выслушав Веру, прочитавшую ей хоть и «с выражением», но все равно никакое это письмо – о погоде и о природе, посмотрела на фотографию и громко прыснула:
– «Да, Верунчик, жених у тебя еще тот, знатный женишок. У меня даже настроение поднялось, до чего же мне этот колхозник понравился!»
Вера почему-то вдруг обиделась.
– «А у тебя даже такого нет!»
Капа невозмутимо возразила:
«И, слава Богу! Лучше уж никакого, чем такой “Хотишь”!»
Это «Хотишь» появилось в обиходе подруг как ярлык для наименования всех тех незадачливых ухажеров несчастных, которые и говорить-то правильно не умели.
Однажды Капу с Верой пригласили в кино два очередных лейтенантика.
Пошли на Чистые Пруды, в «Колизей».
Перед началом «картины», в фойе, где только что закончила петь зрелая дама, одетая в длинное синее панбархатное платье – «под Нину Дорду», модную тогда эстрадную певицу, – появились с лотками две мороженщицы в накрахмаленных белых кружевных коронах – «наколках» на волосах.
Немедленно вокруг продавщиц образовалось две воронки из столпившихся, и один из молодых лейтенантиков сразу молча встал «в хвост» ближайшей из удлинняющихся мгновенно очередей и поманил рукой приятеля, чтобы тот тоже к нему подошел.
Приятель, почему-то, идти не торопился и продолжал стоять с обеими девушками у закрытого еще входа в кинозал.
Вера и Капа делали вид, что ничего не замечают, продолжая болтать между собой.
Наконец, тот, кто занял очередь, быстро подбежал к ним, извинился и оттащил дружка за руку в сторонку, что-то шипя ему в ухо и активно жестикулируя.
А тот, кому шептали, громко сказал, поворачиваясь к девушкам, так, чтобы и они услышали:
«Да не хочем мы никто твоего мороженого, нечего и очередь было занимать!
Капа, ты хотишь мороженого?»
Капитолина Романовна, девушка весьма начитанная и грамотная, аж задохнулась от возмущения, и только собралась что-то «выдать» по поводу этого мерзкого «ХОЧЕМ», а особенно по поводу обращенного к ней лично этого жуткого «ХОТИШЬ», как Вера быстро ее опередила и сказала весело:
«Ребята, да не успеем мы ничего, вот уже впускают, какие у нас места? У кого билеты? Давайте быстрее, сейчас журнал начнется!»
После кино Капа не сдержалась и высказала несостоявшемуся своему кавалеру все, что успела. Схватила Веру под руку и сказала, уходя, надменно и гордо:
«С такими, как вы оба, молодые люди, со стыда можно сгореть в приличном обществе. И, кстати, в другой раз – и с другими девушками – советую вам не жалеть денег на какое-то жалкое мороженое. А нас с Верой – пожалуйста, забудьте!»
С тех пор у Капы с Верой появилось кодовое слово, как пароль для обозначения новых знакомых:
«А он, случайно, не» Хотишь«?»
Или: «Да они оба» Хочут»»!
Вера улыбнулась своим мыслям.
Николай тут же улыбнулся ей в ответ и даже, почему-то, кивнул.
Взгляд у него был хитрый, озорной и до того веселый, что Вере так и хотелось радоваться с ним вместе неизвестно чему. Просто так.
И вообще, несмотря на свою внешнюю сосредоточенность, серьезность и даже как будто постоянную скрытую печаль, на деле Николай Андреевич оказался очень смешлив.
Вера внезапно вспомнила, как в самом раннем детстве, года в четыре или в пять, научилась вдруг «косить глаза». Это до рева пугало младшего брата, и Вера очень жалела, что не удается самой увидеть себя в зеркале «с глазками в кучку», и посмотреть, что же у нее там получается?
Пелагея услышала однажды из кухни, через обе всегда настежь в коридор открытых двери, что в комнате, где дети ее играли одни, Колька-«младшой» то и дело то рыдает, то вдруг сразу замолкает.
Наскоро вытерла руки об фартук и побежала проверять, что там у них происходит.
И увидела, что Верка-зараза косит глаза и корчит рожи, а маленький боится и начинает плакать.
А как только малый заорет, Верка прекращает свои выкрутасы, подходит к нему и гладит по головке, успокаивая.
Пелагея, недолго думая, молча влепила Верке по макушке.
И обмерла в ужасе.
Девка так и осталась стоять с выпученными косыми глазами, как у злой кошки, что схватили резко за шкирку!
У Пелагеи аж живот схватило, как всегда, от страха.
А чертовка Верка, которой надоело уже стоять со скошенными глазками, сделала вдруг нормальную, но очень обиженную физиономию и сказала матери тоном взрослой:
«А по башке-то зачем было лупить? А если бы я так и осталась?»
Пелагея только отмахнулась от дочери двумя руками, потом погрозила ей пальцем и быстро ушла обратно на кухню.
Вот и сечас на Верку вдруг «накатило» – какая-то безудержная радость рвалась наружу, и хотелось похулиганить.
Вера как можно шире раскрыла свои огромные черные глаза, заглядывая ими как бы в душу своего партнера.
Николай взглянул на нее очень внимательно, нежно и серьезно.
И тут Верка изо всех сил молниеносно скосила глазки к носу.
Парень ошалел на некоторое время, а потом даже согнулся от приступа хохота.
Вера, с умным видом, продолжая косить глаза, сначала как будто поправила на носу несуществующее пенсне, и тут же как бы выронила из глазницы воображаемый монокль, быстро подхватив его рукой.
При этом оба продолжали танцевать, но Николай показал ей поднятые в восторге вверх аж два больших пальца, и Вера присела в хорошо заученном низком книксене.
Николай тоже в долгу не остался и через некоторое время сделал так: закатив ангельские свои синие глаза задумчиво к потолку, неожиданно в очень широкой, ну прямо точь-в-точь идиотской, улыбке разинул рот, – и вдруг «засиял» неизвестно как появившейся серебряной шоколадной фольгой на всех зубах.
В первый момент, перед тем, как «закатиться» от смеха, Вера даже испугалась.
Николай посмотрел на нее с нескрываемым неподдельным удивлением, спросил: «Вера, что с Вами?»
И когда услышал от нее, давившейся от смеха, просьбу «еще, еще показать! еще, разинуть рот!», снова раскрыл рот – а фольги уже как не бывало.
Вера почувствовала вдруг, что ей с этим человеком так легко, спокойно и НЕ ТРЕВОЖНО, как никогда еще не было ни с кем после погибшего ее первого – Володи.
Музыканты выводили медленный фокстрот, Вера даже не ощущала почти прикосновений партнера, до того слаженно двигалась их пара.
А Николай делал все абсолютно правильно, – и именно так, как хотелось когда-то Верочке с ее первой детской любовью, а может быть, даже и лучше, она уже все забыла, что было тогда в ее душе, и помнила только одно – свое ощущение защищенности в присутствии Володи.
И ведь они даже ни разу не потанцевали с ним тогда, ни разу!
А сейчас у Веры появилось некое непонятное предчувствие, даже предвидение какое-то, что и в том, как танцует с ней этот незнакомый мальчик, и в тихой чудесной музыке их танца стала наконец-то слышна ее судьба…
Вере вдруг показалась до слез знакомой, – но почему-то надолго забытой – и нежная смешливость Николая, и недосказанность его легких жестов и прикосновений, и то, как он тихонько подул на ее разгоряченное радостное лицо, каким естественным движением убрал с ее лба своим незаметно, но неожиданно очень колючим подбородком выбившийся из-под заколки ее локон.
И Вера сама прижалась губами к его губам.
Часть 16. Перед Ноябрем
На ноябрьские праздники 1948 года должны были провожать в армию Николая Степановича, Полькиного единственного сыночка ненаглядного; любимого брата красавицы-Верочки; верного товарища дворовых пацанов, знакомых с песочницы и качелей на Чистых Прудах; неутомимого любовника стареющей Марии Тыртовой – дочери прежнего владельца дома, где все они и жили.
Участие в военном ансамбле песни и пляски в качестве незаменимого солиста, а также работа слесарем высшего разряда на оборонном заводе могли бы дать двадцатилетнему уже Николаю возможность оттянуть службу в армии до последнего.
Но чем старше становился Николай, тем сильнее начинали его тяготить двусмысленные какие-то и все еще тайные для его матери «походы в подвал», к Маше.
К тому же, лучшего друга Виктора уже призвали в прошлом году, и он писал Николаю, что попал на Камчатку, на аэродромную службу, кормят там очень хорошо, одевают красиво и тепло – в меховые комбинезоны, летчицкие кожАнки и утепленные натуральным мехом, тоже кожаные, шлемы, обувают зимой в теплые унтЫ, а в другое время – в крепкие лендлизовские ботинки на длинной, до колен почти, шнуровке.
А еще писал Виктор о самом главном – но понятно это было лишь между строк – что, чем старше привозят к ним новобранцев, тем тяжелее таким бывает подчиниться по уставу и быть на первых порах в неизбежной роли «салабонов».
И чем настойчивее звал Витька на Камчатку, чем больше расписывал красоты природы, тем радужнее рисовалась Коле неизведанная доселе жизнь вне Москвы, порядком уже как-то поднадоевшей. И хотелось самому, своими глазами увидеть и сопки, и бьющие из-под земли кипятком неведомые гейзеры, да подышать во всю грудь соленым воздухом настоящего океана, а ведь Колька даже на море-то ни разу и не бывал, эх!
Виктор советовался там со своим начальством, как бы заполучить другана – земелю московского, почти брата, именно в свою часть, на авиабазу дальневосточную. Ведь дружок его и слесарь классный. А по части починки любых механизмов, даже баянов, просто дока настоящий.
Тут начальство – товарищ старший лейтенант – засмеялось и сказало, что баянов и гармошек у них нет, а вот если бы друг его аккордеон немецкий и рояль рассохшийся, тоже трофейный, из Красного уголка в офицерском клубе починить бы смог, то уж можно было бы тогда и впрямь похлопотать. А что поет тот москвич хорошо – так в самодеятельности у них в армейской все неплохо выступают. На баяне – нет, никто не играет. Ладно, погоди, проверим мы друга твоего.
Написали даже, и правда, в Москву письмо с просьбой разрешить целевой запрос.
И ответ пришел положительный: в московском центральном райвоенкомате сочли возможным пойти навстречу.
За Колю похлопотал также сам заместитель художественного руководителя ансамбля – и вот призвали Николая служить на Камчатку. Да только не в ту часть, где был Витька, а в парашютно-десантные войска.
Кольку этот факт расстроил было поначалу, но потом он рассудил так: расстояния там, наверное, между дислоцированными частями небольшие, и он сможет видеться с другом в увольнительных…
К тому же, чем топтаться на летном поле на обслуге авиатехники, лучше уж летать в этих самолетах самому – а потом прыгать с них с парашютом.
В Парке Горького стояла бесплатная для всех желающих совершить прыжок парашютная вышка, она и стала самым любимым аттракционом почти у всех «центровых» московских пацанов. Развлечение это было по-настоящему «зыконское».
И Коля стал радостно ждать, когда же наступит 9-е ноября – день явки осенних призывников на сборный пункт на Кировской.
* * *
Пелагея отнеслась к предстоящему уходу сына Николаши в армию – на долгих четыре года согласно роду войск – удивительно спокойно.
Надо – значит, надо! И нечего рассусоливать! Не война, чай, а в мирное-то время как же парню молодому и, тьфу-тьфу, здоровому, в армию не ходить? Позор! И так уже все товарки, у кого сыновей служить позабирали, стали ей на работе иной раз вопросы колкие задавать, уж не болеет ли чем ее Николай, а то долго «в девках» сидит, в смысле, в армию не призывают – брать, что ли, не хотят? Ай еще что?
И Пелагея единственным козырем все их домыслы покрывала – мол, ваши-то ребята простые, а мой-то – и на работе незаменим, и опосля работы – солист! Главный в хоре – военном, причем, к вашему сведению! – певец, и, к тому же, единственный с таким голосом, вот! (Понятие «тенор» было ей незнакомо, а часто повторяемое всеми слово «ансамбль», «из ансамбля» – Полька считала неприличным, потому как и выговорить его правильно не умела, и все как бы матерком от словечка этого каверзного веяло…)
Бабы-товарки на время умолкали, а потом – опять за свое:
– «Когда же сынок-то твой, Полина, в Большом Театре плясать будет в балете? Или, запамятовали мы, говоришь, поет он – вместо Лемешева и Козловского, обоих сразу заменить может?»
И хихикали, стервы, взглядом бегая, в глаза-то прямо не глядя, и ладошками рты свои поганые прикрывали нарочно после сказанного, сучонки завистливые!
Зато теперь вот Пелагея с гордостью всем сообщила, что на праздники ноябрьские будет проводы устраивать. И попросила в месткоме разрешение выделить ей из заводских запасов бесплатно, как и полагалось, три бутылки коньяка.
На старинном московском «Заводе Коньячных Вин “Арарат”, где Полька отпахала уже почти тридцать лет, существовала своя внутренняя “разнарядка”» профсоюзных поощрений.
На свадьбу и похороны самих трудящихся коллектива или их ближайших родственников выделялось, вне зависимости от занимаемой должности, по пять полулитровых бутылок коньяка безвозмездно, остальное – но только до десяти бутылок всего, то есть, еще пять бутылок, продавали за деньги «по себестоимости», без магазинной наценки – очень дёшево.
На юбилейные даты (исключительно от 50 лет и старше), на «родИны» (вместо «крестин») и, далее, на проводы в армию и на поминки, причем, строго на «девятины» – то есть, только на девятый день после похорон – выдавали бесплатно по три бутылки плюс максимум еще три бутылки по низкой цене.
А вот «звёздность», то есть срок выдержки, и марка поощрительных коньяков прописаны были четко по ранжиру, от директора завода (пятнадцатилетний «Арарат» или «Юбилейный») до последнего «чина» – грузчика (любой в «три звездочки»).
Пелагее выделили коньяк аж в пять звездочек, чем она осталась так довольна, что даже прослезилась, получая в месткоме подписанный дирекцией наряд-заказ на выдачу продукта со склада. Оценил родной коллектив ее беспорочный и честный труд! Разрешили ей также прикупить на складе «по дешевке» еще три бутылки, но уже «три звездочки».
– «Господи, да спасибо-то какое, милые вы мои!» – думала по дороге домой Поля, еле утащив все шесть драгоценных бутылок, бережно обернутых каждая в толстый газетный слой.
– «Сейчас сразу, как зайду в дом, спущусь вниз, в подвал, к Машке-продавщице. Попрошу у нее, чтобы все “три звездочки” обменяла мне на 10 бутылок водки, ну, или на 9 хотя бы, одну пусть себе за работу возьмет. Одну бутылку “пять звездочек” на стол поставить надо, только уж в самом конце, как расходиться станем, скажу, к чаю! Пусть сначала чем попроще угостятся. А то кто там разбирается, какой такой коньяк, им все едино – “клопами пахнет”! Уж кто нахлестаться захочет, пусть лучше водку с вином пьет. Нет, надо Машке и» пятизвездочные «отдать, а то ведь и вина достать не на что, пусть она кислого дешевого ящик за тот коньяк даст. Да картошки и овощей на винегрет подкинет, ведь денег – кот наплакал. Да, а “кота” моего Степана звать ли? Надо бы позвать, отец ведь. Пусть Верка его и позовет, папашу своего распрекрасного…»
И, довольная своими мудрыми соображениями, Пелагея позвонила в Машкину квартиру, один звонок.
Долго никто не открывал, но что-то внутри квартиры все-таки жило и шевелилось. Поля позвонила два раза, понастойчивее.
Дверь открыл Машкин сосед, Подольский, и почему-то рот разинул, как дурачок, и остолбенел, глядя на Полю, но не пропуская ее внутрь.
– «Здравствуй, Коль, ну, что встал, пусти – свои! К Маше я, по делу пришла, нет ее, что ли?».
– «Н-н-н-нет! То есть, д-д-д-да!» – Коля-Подоля аж заикаться сильнее начал, чем обычно, и руки у него прям задрожали аж, замок не отпуская.
– «Ну-ка, не телись! Отвечай толком, стоять мне с сумкой тяжело, а поставить ее не могу – стекло там! Где Мария?» – гаркнула Полька и попыталась шагнуть внутрь квартиры.
Но Подоля как окаменел – и не пускал. Тут за его спиной, в шелковом халате, вздымая кверху голые полные руки в приветствии, возникла сама Машка.
– «Здравствуйте, тетя Поля, дорогая! А ты что же это, Николай, соседку в гости к нам не пускаешь?» – и, отодвинув могучим боком Подолю: «Стань в сторонку!», – улыбнулась, распахивая широко входную дверь и приглашающим жестом указывая Пелагее пройти вперед, на кухню.
– «Извините, тетя Поля, что в комнату не приглашаю: не убрано там у меня, только-только с работы сама пришла, да сразу и уборку затеяла – пылищи полно по углам. Все некогда было, а сейчас вот собралась подметать, стулья перевернула да на стол сиденьями уложила, да пока гремела – их сдвигала, звонок-то и не расслышала! Садитесь, пожалуйста, а ты, Подольский, чайник нам поди из моей комнаты принеси да поставь, да и иди к себе потом, дай людям поговорить, чего встал?» – и Маша, цепким взглядом отметив здоровенную сумку, осторожно и молча, по-деловому, стала ее «перехватами» отбирать у Полины. Та, облегченно вздохнув и вытерев пот со лба концами головного платка, не раздеваясь, села на табурет.
– «Маша, ненадолго я к тебе, раздеваться не буду, и чая не надо. Хочу тебя, Мария, просить о помощи. Парня я своего в армию провожаю, через неделю, а на праздник, 7 ноября, хочу гостей позвать. Помоги мне, голубушка, коньяк на водку и вино обменять, у тебя, я слыхала, повсюду связи есть!»
Пока Пелагея разговаривала с Машей, Подоля, предварительно постучав, вошел в Машину комнату. Там все было в полном порядке, даже кровать застелена, только не очень-то аккуратно – возле самой стены высился за подушками какой-то горб, как будто одеяло ватное валиком скатали да так и застелили, не расправив. Да еще и ковер сверху накинули, а раньше он на стенке над кроватью висел. Сполз, что ли, или, может, оборвали?
Подоля покрутил длинным носом, как птица-ворона, схватил с подставки на подоконнике медный тяжелый чайник, потом, оглянувшись по сторонам, на всякий случай приоткрыл пузатый высокий платяной шкаф и заглянул внутрь.
Сдавленным голосом тихо просипел: «Коля, ты тут?» – и, не получив никакого ответа от плаща, пальто и шубы, быстро захлопнул дверцу шкафа, который все жители московских коммуналок называли всегда просто «гардероб», а провинциалы обязательно величали «шифоньер», причем, и те, и другие французского уже не знали.
Неграмотная Москва произносила бойко «в гардероПе», а приезжая провинция полагала, что, раз шкафы делают теперь из фанеры, то и называться они должны «шифанеры».
Подумав об этом вскользь, грамотей Подоля пожал плечами и потопал на кухню. Там он поставил кипятить чайник и тихо удалился. Постоял еще немного в коридоре, прислушиваясь к спокойному разговору женщин.
Говорила Маша:
– «Тетя Поля, ну, какие деньги? Мне деньги не нужны, главное – человеку помочь!
Давайте вы лучше и меня на эти проводы пригласите – вот и рассчитаемся.
Грустно мне одной, без семьи, без праздников, просто выть иногда хочется.
Никто меня к себе не зовет – как огня боятся…
Вот уж и погуляю я хоть у вас в гостях!
Колю вашего все мы в доме хорошо знаем и любим, всем он помогал, и мне с Подольским в том числе – а то бы уж и пропали мы здесь, в подвале нашем, от вечных поломок и засоров, дерьмом чужим сверху от соседей залитые!»
Пелагея аж руками всплеснула:
«Дык, Машуня ты моя драгоценная, дык приходи просто так, какие тут еще приглашения!
А за работу возьми себе коньяк, да хоть вот «пять звездочек» – ты знаешь, куда его пристроить!
Приходи, милая! Просто так приходи. Всегда тебе буду рада. Надо же, удумала – приглашения какие-то!»
– «Да ведь, тетя Поля, тогда весь дом наш так просто к вам придет, если без приглашения! А вот давайте я уж и на стол накрою, вы мне доверяете? Прямо в кухне у вас, думаю, и поставим столы, а через двери ее широкие продолжим в коридор, в переднюю, широкую его часть.»
– «А как же тогда в кухню проходить-то будем? Если вход-то в нее столами заставим?» – сразу начала соображать Поля, заведомо согласившись на Машино действенное участие в проводах.
Пелагея не удивилсь Машиному предложению потому, что и сама всегда помогала безотказно и бескорыстно всем, кто просил, чем могла: и работой, и душой, и сердцем…
– «Я ведь, теть Поль, вашу квартиру отлично знаю и помню, у батюшки моего она одна из лучших была. Там вход из кухни в соседнюю смежную комнату – столовую когда-то – существует, скрытый в спираль. Подавали горячее в прежние времена через этот узкий проход.
Если фанерную перегородку к Должанским из кухни сломать временно, всего-то три доски! то через их комнату и заходить в кухню будем, когда все столы расставим. Ну, а в коридорной части молодежь рассадим, там они, небось, и танцы устроят, и выйти им из-за столов покурить на лестницу легче будет!
Посуду я тоже свою принесу, и у соседей ваших стулья да вилки-ложки соберем. Очень я это дело и люблю, и умею – столы гостям накрывать!
А про расходы вы мне, тетя Поля, и не упоминайте – что там мы уж такого особенного с вами наготовим? Картошка, селедка, огурцы соленые, кислая капуста, постный винегрет. Это – за мной все. Принесу – приготовлю. Да пирогов всяких – это уж вы сами напечете, только блинов вот не надо – не поминки.»
– «Да знамо дело! – поджала было губы обиженно Полина, хотя сама по дороге уже подумала – надо же, дают на проводы столько же бутылок, как прям на поминки, – но потом спохватилась: “Да дорогуша ж ты моя Машенька, вот уж не знала я, не чаяла, что ты такая добрая душа! Спасибо тебе, миленькая ты моя! Поклон тебе за такую помощь земной!”»
И Пелагея встала, чинно, по-деревенски, руку к сердцу приложила и поклонилась низко перед Марией.
За дверью кухни, в коридоре, раздался звук, похожий на чихание.
Это Подоля прыснул со смеху в кулачок и быстро смылся, наконец, в свою комнату.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































