Текст книги "Дело Артамоновых"
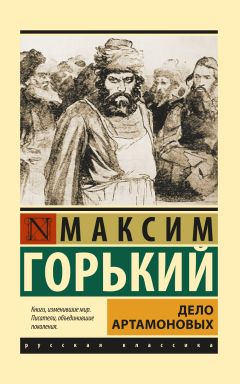
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
III
Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Петр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх; не верилось, что все, что воскрешала память, он видел наяву и сам кипел в огромном, каменном котле, полном грохота, рева музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал все это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке; на синем, бритом лице его были влеплены выпуклые, совиные глаза; человек этот шлепал толстыми губами и, обнимая, толкая Артамонова, орал:
– Дурак – молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!
Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают провожать богатых покойников в могилы. Петр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нем мороженое, и человек, рыдая, говорил:
– Пойми рев русской души! Мой отец был священник, а я – прохвост!
Голос у него был густой, трубный, но мягкий, он обливал всех людей темным потоком неслыханных слов, и слова эти неотразимо волновали.
– Истление плоти! – кричал он. – Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощай телесный бунт, Петя! Не согрешив – не покаешься, не покаешься – не спасешься. Омой душу! В баню ходим, тело моем? А – душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душе, святой, великой!
Петр тоже плакал, растроганный, и бормотал:
– Сирота она, душа, приемыш – верно! Забыта. Не жалеем.
И все люди кричали:
– Верно! Правильно!
А лысый, рыжебородый человек с раскаленным лицом и лиловыми ушами, кругленький, верткий, крутился, точно кубарь, исступленно, по-бабьи взвизгивая:
– Степа – правда! Обожаю тебя. Смертельно люблю. Три штучки смертельно люблю: тебя, кисленькое и правду. О душе – правду!
И тоже плакал и пел:
Смертию смерть поправ.
Петр подпевал ему словами Антона-дурачка:
Кибитка потерял колесо.
Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из темного, шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной: в знойный, будний день, на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею, задрав голову, девочка лет двенадцати в измятом, синеньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся голосом поет:
И не жду от жизни ниче-во я…
И я ищу свободы и покоя…
Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку с лиловыми ушами:
– Душа – певчая! Это он – верно!
– Степа? – крикливо спрашивал рыжебородый. – Степа все знает! У него – ключи ко всякой душе!
И, раскаляясь все более, рыжебородый визжал:
– Степа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов – вези нас в вертеп неприступный! Все допускаю…
Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников, и всюду, куда бы он ни являлся со своим пьяным стадом, грохотала музыка, звучали песни, то – заунывные, до слез надрывавшие душу, то – удалые, с бешеной пляской; от музыки оставались в памяти слуха только глухо бухающие удары в большой барабан и тонкий свист какой-то отчаянной дудочки. Когда пели тягучие, грустные песни, казалось, что каменные стены трактиров сжимаются и душат, а когда хор пел бойко, удало и пестро одетые молодцы плясали – стены точно ветер колебал и раздувал. Буйно качало, перебрасывая от радости к восхищению печалью, и минутами Петра Артамонова обнимал и жег такой восторг, что ему хотелось сделать что-то необыкновенное, потрясающее, убить кого-нибудь и, упав к ногам людей, стоять на коленях пред ними, всенародно взывая:
«Судите меня, казните страшной казнью!»
Были на «Самокате», в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми, лакеями медленно вертелся; оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Круг пола вертелся и показывал в одном углу кучу неистовых, меднотрубых музыкантов; в другом – хор, толпу разноцветных женщин с венками на головах; в третьем на посуде и бутылках буфета отражались огни висячих ламп, а четвертый угол был срезан дверями, из дверей лезли люди и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивая руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то.
Друг человеческий, черный Степа, объяснял Артамонову:
– Глупо, а – хорошо! Пол – на брусьях, как блюдечко на растопыренных пальцах, брусья вкреплены в столб, от столба, горизонтально, два рычага, в каждый запряжена пара лошадей, они ходят и вертят пол. Просто? Но – в этом есть смысл. Петя – помни: во всем скрыт свой смысл, увы!
Он поднимал палец к потолку, на пальце сверкал волчьим глазом зеленоватый камень, а какой-то широкогрудый купец с собачьей головою, дергая Артамонова за рукав, смотрел на него в упор, остеклевшими глазами мертвеца, и спрашивал громко, как глухой:
– А что скажет Дуня, а? Ты – кто?
Не ожидая ответа, он спрашивал другого соседа:
– Ты – кто? А что я скажу Дуне? А?
Откидывался на спинку стула, фыркал:
– Ф-фу, черт!
И кричал неистово:
– Айда в другое место!
Потом он оказался кучером, сидел на козлах коляски, запряженной парой серых лошадей, и громогласно оповещал всех прохожих, встречных:
– К Пауле едем! Айда с нами!
Ехали под дождем, в коляске было пять человек, один лежал в ногах Артамонова и бормотал:
– Он меня обманул – я его обману. Он меня – я его…
На площади, у холма, похожего на каравай хлеба, коляска опрокинулась, Петр упал, ушиб голову, локоть и, сидя на мокром дерне холма, смотрел, как рыжий с лиловыми ушами лез по холму, к ограде мечети, и рычал:
– Прочь, хочу в татара креститься, в Магометы хочу, пустите!
Черный Степан схватил его за ноги, стащил вниз, куда-то повел; из лавок, из караван-сарая сбежалась толпа персов, татар, бухарцев; старик в желтом халате и зеленой чалме грозил Петру палкой.
– Урус, шайтан…
Меднолицый полицейский поставил Петра на ноги, говоря:
– Скандалы не разрешаются.
Съехались извозчики, усадили пьяных и повезли; впереди, стоя, ехал друг человеческий и что-то кричал в кулак, как в рупор. Дождь прекратился, но небо было грозно черное, каким никогда не бывает наяву; над огромным корпусом караван-сарая сверкали молнии, разрывая во тьме огненные щели, и стало очень страшно, когда копыта лошадей гулко застучали по деревянному мосту через канал Бетанкура, – Артамонов ждал, что мост провалится и все погибнут в неподвижно застывшей, черной, как смола, воде.
В разорванных, кошмарных картинах этих Артамонов искал и находил себя среди обезумевших от разгула людей, как человека почти незнакомого ему. Человек этот пил насмерть и алчно ждал, что вот в следующую минуту начнется что-то совершенно необыкновенное и самое главное, самое радостное, – или упадешь куда-то в безграничную тоску, или поднимешься в такую же безграничную радость, навсегда.
Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это – женщина, Паула Менотти. Он видел ее в большой, пустой комнате с голыми стенами; треть комнаты занимал стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вазами цветов и фруктов, серебряными ведерками с икрой и шампанским. Человек десять рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом; среди нескольких пустых стульев один был украшен цветами.
Черный Степа стоял среди комнаты, подняв, как свечу, палку с золотым набалдашником, и командовал:
– Эй, свиньи, подождите жрать!
Кто-то глухо сказал:
– Не лай.
– Молчать! – крикнул друг человеческий. – Распоряжаюсь – я!
И почему-то вдруг стало темнее, тотчас же за дверью раздались глухие удары барабана, Степа шагнул к двери, растворил; вошел толстый человек с барабаном на животе, пошатываясь, шагая, как гусь, он сильно колотил по барабану:
– Бум, бум, бум…
Пятеро таких же солидных, серьезных людей, согнувшись, напрягаясь, как лошади, ввезли в комнату рояль за полотенца, привязанные к его ножкам; на черной, блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы. Лежала она вверх грудью, подложив руки под голову; распущенные темные волосы ее, сливаясь с черным блеском лака, вросли в крышку; чем ближе она подвигалась к столу, тем более четко выделялись формы ее тела и назойливее лезли в глаза пучки волос под мышками, на животе.
Повизгивали медные колесики, скрипел пол, гулко бухал барабан; люди, впряженные в эту тяжелую колесницу, остановились, выпрямились. Артамонов ждал, что все засмеются, – тогда стало бы понятнее, но все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина отклеивалась, отрывалась от крышки рояля; казалось, что она только что пробудилась от сна, а под нею – кусок ночи, сгущенный до плотности камня; это напомнило какую-то сказку. Стоя, женщина закинула обильные и густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли; было слышно, как под ударами ее ног гудели струны.
Вошли двое: седоволосая старуха в очках и человек во фраке; старуха села, одновременно обнажив свои желтые зубы и двухцветные косточки клавиш, а человек во фраке поднял к плечу скрипку, сощурил рыжий глаз, прицелился, перерезал скрипку смычком, и в басовое пение струн рояля ворвался тонкий, свистящий голос скрипки. Нагая женщина волнисто выпрямилась, тряхнула головою, волосы перекинулись на ее нахально торчавшие груди, спрятали их; она закачалась и запела медленно, негромко, в нос, отдаленным, мечтающим голосом.
Все молчали, глядя на нее, приподняв вверх головы, лица у всех были одинаковые, глаза – слепые. Женщина пела нехотя, как бы в полусне, ее очень яркие губы произносили непонятные слова, масляные глаза смотрели пристально через головы людей. Артамонов никогда не думал, что тело женщины может быть так стройно, так пугающе красиво. Поглаживая ладонями грудь и бедра, она все встряхивала головою, и казалось, что и волосы ее растут, и вся она растет, становясь пышнее, больше, все закрывая собою так, что кроме нее уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было. Артамонов хорошо помнил, что она ни на минуту не возбудила в нем желания обладать ею, а только внушала страх, вызывала тяжкое стеснение в груди, от нее веяло колдовской жутью. Однако он понимал, что, если женщина эта прикажет, он пойдет за нею и сделает все, чего она захочет. Взглянув на людей, он убедился в этом.
«Всякий пойдет, все».
Он трезвел, и ему хотелось незаметно уйти. Он окончательно решил сделать это, услыхав чей-то громкий шепот:
– Чаруса. Омут естества. Понимаешь? Чаруса.
Артамонов знал, что чаруса – лужайка в болотистом лесу, лужайка, на которой трава особенно красиво шелковиста и зелена, но если ступить на нее – провалишься в бездонную трясину. И все-таки он смотрел на женщину, прикованный неотразимой, покоряющей силой ее наготы. И когда на него падал ее тяжелый масляный взгляд, он шевелил плечами, сгибал шею и, отводя глаза в сторону, видел, что уродливые, полупьяные люди таращат глаза с тем туповатым удивлением, как обыватели Дремова смотрели на маляра, который, упав с крыши церкви, разбился насмерть.
Черный, кудрявый Степа, сидя на подоконнике, распустив толстые губы свои, гладил лоб дрожащей рукою, и казалось, что он сейчас упадет, ударится головою в пол. Вот он зачем-то оторвал расстегнувшийся манжет рубашки и швырнул его в угол.
Движения женщины стали быстрее, судорожней; она так извивалась, как будто хотела спрыгнуть с рояля и – не могла; ее подавленные крики стали гнусавее и злей; особенно жутко было видеть, как волнисто извиваются ее ноги, как резко дергает она головою, а густые волосы ее, взметываясь над плечами, точно крылья, падают на грудь и спину звериной шкурой.
Вдруг музыка оборвалась, женщина спрыгнула на пол, черный Степа окутал ее золотистым халатом и убежал с нею, а люди закричали, завыли, хлопая ладонями, хватая друг друга; завертелись лакеи, белые, точно покойники в саванах; зазвенели рюмки и бокалы, и люди начали пить жадно, как в знойный день. Пили и ели они нехорошо, непристойно; было почти противно видеть головы, склоненные над столом, это напоминало свиней над корытом.
Явилась толпа цыган, они раздражающе пели, плясали, в них стали бросать огурцами, салфетками – они исчезли; на место их Степа пригнал шумный табун женщин; одна из них, маленькая, полная, в красном платье, присев на колени Петра, поднесла к его губам бокал шампанского и, звонко чокнувшись своим бокалом, предложила:
– Выпьем, рыжий, за здоровье Мити!
Была она легкая, как моль, звали ее – Пашута. Она очень ловко играла на гитаре и трогательно пела:
Снилось мне утро лазурное, чистое
– и когда звонкий голос ее особенно печально выговаривал:
Снилась мне юность моя, невозвратная
– Артамонов дружески, отечески гладил ее голову и утешал:
– Не скули! Ты еще молодая, не бойся…
А ночью, обнимая ее, он крепко закрывал глаза, чтобы лучше видеть другую, Паулу Менотти.
В редкие, трезвые часы он с великим изумлением видел, что эта беспутная Пашута до смешного дорого стоит ему, и думал:
«Экая моль!»
Поражало его умение ярмарочных женщин высасывать деньги и какая-то бессмысленная трата ими заработка, достигнутого ценою бесстыдных, пьяных ночей. Ему сказали, что человек с собачьим лицом, крупнейший меховщик, тратил на Паулу Менотти десятки тысяч, платил ей по три тысячи каждый раз, когда она показывала себя голой. Другой, с лиловыми ушами, закуривая сигары, зажигая на свече сторублевые билеты, совал за пазухи женщин пачки кредиток.
– Бери, немка, у меня много.
Он всех женщин называл немками. Артамонов же стал видеть в каждой из них неприкрытое бесстыдство густоволосой Паулы, и все женщины, – глупые и лукавые, скрытные и дерзкие, – чувствовал он, враждебны ему; даже вспоминая о жене, он и в ней подмечал нечто скрыто враждебное.
«Моль», – думал он, присматриваясь к цветистому хороводу красивых, юных женщин, очень живо и ярко воскрешаемых памятью.
Он не мог понять что же это, как же? Люди работают, гремят цепями дела, оглушая самих себя только для того, чтоб накопить как можно больше денег, а потом – жгут деньги, бросают их горстями к ногам распутных женщин? И все это большие, солидные люди, женатые, детные, хозяева огромных фабрик.
«Отец, пожалуй, так же бы колобродил», – почти уверенно думал он. Самого себя он видел не участником этой жизни, этих кутежей, а случайным и невольным зрителем. Но эти думы пьянили его сильнее вина, и только вином можно было погасить их. Три недели прожил он в кошмаре кутежей и очнулся лишь с приездом Алексея.
Артамонов старший лежал на полу, на жиденьком, жестком тюфяке; около него стояло ведро со льдом, бутылки кваса, тарелка с квашеной капустой, обильно сдобренной тертым хреном. На диване, открыв рот и, как Наталья, подняв брови, разметалась Пашута, свесив на пол ногу, белую с голубыми жилками и ногтями, как чешуя рыбы. За окном тысячами жадных пастей ревело всероссийское торжище.
Сквозь похмельный гул в голове и ноющую боль отравленного тела Артамонов угрюмо вспоминал события и забавы истекшей ночи, когда вдруг, точно из стены вылез, явился Алексей. Прихрамывая, постукивая палкой, он подошел и рассыпался словами:
– Что – опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал, да к утру сам завертелся.
Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду; подскочил к дивану, пошлепал Пашуту по плечу.
– Вставай, барышня!
Не сразу открыв глаза, барышня проворчала:
– К черту. Отстань.
– Это ты пойдешь к черту, – не сердито сказал Алексей, приподнял ее за плечи, посадил, потряс и указал на дверь:
– Брысь!
– Не тронь ее, – сказал Петр; брат усмехнулся, успокоил:
– Ничего; позовем – придет!
– О, черти, – сказала женщина, уже покорно надевая кофту.
Алексей командовал, как доктор:
– Вставай, Петр, сними рубаху, вытрись льдом!
Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела ее на встрепанную голову, но, посмотрев в зеркало над диваном, сказала:
– Очень прекрасная королева!
И, швырнув шляпку на пол, под диван, длительно зевнула:
– Ну, прощай, Митя! Помни: я – в номерах Симанского, номер тринадцать.
Петру стало жалко ее, не вставая с пола, он сказал брату:
– Дай ей.
– Сколько?
– Ну… пятьдесят.
– Э! Много.
Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил ее, плотно притворил дверь.
– Скупо дал, – вызывающе заметил Петр. – Она вчера за шляпу больше заплатила.
Алексей сел в кресло, сложил руки на палке, оперся на них подбородком и сухо, начальнически спросил:
– Ты что же делаешь?
– Пью, – задорно ответил старший, встал и начал обтирать тело льдом, покрякивая.
– Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что?
– А что?
Алексей подошел к нему и, глядя, как на незнакомого, тихим голосом, с присвистом спросил:
– Забыл? На тебя жалоба подана, ты адвокату морду разбил, полицейского столкнул в канал…
Он так долго перечислял проступки, что Артамонову старшему показалось:
«Врет. Пугает».
Он спросил:
– Какому адвокату? Ерунда.
– Не ерунда, а – черному, этому – как его?
– Мы с ним и раньше дрались, – сказал Петр, трезвея, но брат еще строже продолжал:
– А за что ты излаял почтенных людей? И своих?
– Я?
– Ты, вот этот! Жену ругал, Тихона, меня, мальчишку какого-то вспомнил, плакал. Кричал: Авраам, Исаак, баран! Что это значит?
Петра обожгло страхом, он опустился на стул.
– Не знаю. Пьян был.
– Это – не причина! – почти крикнул Алексей, подпрыгивая, точно он скакал на хромой лошади. – Тут – другое: «Что у трезвого на уме, у пьяного – на языке», вот что тут! О семейном в кабаках не кричат. Почему – Авраам, жертвоприношение и прочая дрянь? Ты ведь дело конфузишь, ты на меня тень наводишь. Что ты, как в бане, разделся? Хорошо еще, что был при скандале этом Локтев, приятель мой, и догадался свалить тебя с ног коньяком, а меня вот телеграммой вызвал. Он и рассказал мне все это. Сначала, говорит, все смеялись, а потом начали вслушиваться, – что такое человек орет?
– Все орут, – пробормотал Петр, подавленный и снова пьянея от слов брата, а тот говорил почти шепотом:
– Все – об одном, а ты – обо всем! Ладно, что Локтев догадался напоить всех в лоск. Может – забудут. Но ведь наше дело политическое: сегодня Локтев – друг, а завтра – лютый враг.
Петр сидел на стуле, крепко прижав затылок к стене; пропитанная яростным шумом улицы, стена вздрагивала; Петр молчал, ожидая, что эта дрожь утрясет хмельной хаос в голове его, изгонит страх. Он ничего не мог вспомнить из того, о чем говорил брат. И было очень обидно слышать, что брат говорит голосом судьи, словами старшего; было жутко ждать, что еще скажет Алексей.
– Что с тобой? – допытывался он, все подпрыгивая. – Сказал, что едешь к Никите…
– Я у него был.
– И я был. Когда на депешу ответили, что тебя там нет, я, конечно, туда поскакал. Испугались все; ведь – на земле живем, могут и убить.
– Завелась во мне какая-то дрянь, – тихо, виновато сознался Петр.
– Так ее на люди выносить надо? Пойми: ты на дело наше тень бросаешь! Какое там у тебя жертвоприношение? Что ты – персиянин? С мальчиками возишься? Какой мальчик?
Приглаживая волосы на голове и бороду обеими руками, Петр сказал сквозь пальцы:
– Илья… все из-за него…
И медленно, нерешительно, точно нащупывая тропу в темноте, он стал рассказывать Алексею о ссоре с Ильей; долго говорить не пришлось; брат облегченно и громко сказал:
– Ф-фу! Ну, это – ничего! А Локтев понял по-азиатски, скандально. Значит – Илья? Ну, брат, ты прости, только это – неразумно. Купечество долж-но всему учиться, на все точки жизни встать, а ты…
Он очень долго и красноречиво говорил о том, что дети купцов должны быть инженерами, чиновниками, офицерами. Оглушающий шум лез в окно; подъезжали экипажи к театру, кричали продавцы прохладительных напитков и мороженого; особенно невыносимо грохотала музыка в павильоне, построенном бразильцами из железа и стекла, на сваях, над водою канала. Удары барабана напоминали о Пауле Менотти.
– Какая-то дрянь завелась во мне, – повторил Артамонов старший, щупая ухо, а другою рукой наливая коньяку в стакан лимонада; брат взял бутылку из руки его, предупредив:
– Смотри, опять напьешься. Вот у меня Мирон учится на инженера – сделай милость! За границу хочет ехать – пожалуйста! Все это – в дом, а не из дома. Ты – пойми, наше сословие – главная сила…
Петру ничего не хотелось понимать. Под оживленный говорок брата он думал, что вот этот человек достиг чем-то уважения и дружбы людей, которые богаче и, наверное, умнее его, они ворочают торговлей всей страны, другой брат, спрятавшись в монастыре, приобретает славу мудреца и праведника, а вот он, Петр, предан на растерзание каким-то случаям. Почему? За что?
– А за распутство ты обругал почтенных людей – напрасно! – говорил Алексей уже как-то мягко, вкрадчиво. – Это – не от распутства, это от избытка силы. Адвокат – шельма, но он правильно понимает, он умный! Конечно – люди пожилые, даже старики, а озорство у них, как у мальчишек, да ведь мальчишки-то озоруют тоже от силы роста. И то возьми в расчет, что бабы у нас пресные, без перца, скучно с ними! Я не про Ольгу мою говорю, она – особенная! Есть такие глупо-мудрые бабы, они как бы слепы на тот глаз, который плохое видит, Ольга вот из эдаких. Ее обидеть – нельзя, она плохого не видит, злому – не верит. Ты про Наталью эдак не скажешь, а людям верно сказал про нее: домашняя машина!
– Так и сказал? – угрюмо осведомился Петр.
– Не сам же Локтев выдумал эти слова.
Хотелось еще о многом спросить брата, но Петр боялся напомнить ему то, что Алексей, может быть, уже забыл. У него возникало чувство неприязни и зависти к брату.
«Все умнеет, бес…»
Он видел в брате нечто рысистое, нахлестанное и лисью изворотливость. Раздражали ястребиные глаза, золотой зуб, блестевший за верхней, судорожной губою, седенькие усы, воинственно закрученные, веселая бородка и цепкие, птичьи пальцы рук, особенно неприятен был указательный палец правой руки, всегда рисовавший в воздухе что-то затейливое. А кургузый, железного цвета пиджачок делал Алексея похожим на жуликоватого ходатая по чужим делам.
Ему вдруг захотелось, чтоб Алексей ушел.
– Поспать надо мне, – сказал он, прикрыв глаза.
– Это – разумно, – согласился брат. – Ты уж сегодня не ходи никуда.
«Как мальчишку, он меня учит», – обиженно подумал Петр, проводив его. Пошел в угол к умывальнику и остановился, увидав, что рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и красной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале, над диваном, потом жалобно усмехнулся и снова стал вытирать куском льда лицо, шею, грудь.
«Найму извозчика, поеду в город», – решил он, одеваясь, но, сунув руку в рукав пиджака, сбросил его на стул и крепко прижал пальцем костяную кнопку звонка.
– Чаю; завари крепче! – сказал он слуге. – Соленого дай. Коньяку.
Посмотрел из окна, широкие двери лавок были уже заперты, по улице ползли люди, приплюснутые жаркой тьмою к булыжнику; трещал опаловый фонарь у подъезда театра; где-то близко пели женщины.
«Моль».
– Можно убрать, – сказали за спиною, он круто обернулся; в двери стояла старуха с одним глазом, с половой щеткой и тряпками в руках. Он молча вышел в коридор и наткнулся на человека в темных очках, в черной шляпе; человек сказал в щель неприкрытой двери:
– Да, да, больше ничего!
Все было нехорошо, заставляло думать, искать в словах скрытый смысл. Потом Артамонов старший сидел за круглым столом, перед ним посвистывал маленький самовар, позванивало стекло лампы над головою, точно ее легко касалась чья-то невидимая рука. В памяти мелькали странные фигуры бешено пьяных людей, слова песен, обрывки командующей речи брата, блестели чьи-то мимоходом замеченные глаза, но в голове все-таки было пусто и сумрачно; казалось, что ее пронзил тоненький, дрожащий луч и это в нем, как пылинки, пляшут, вертятся люди, мешая думать о чем-то очень важном.
Он пил горячий, крепкий чай, глотал коньяк, обжигая рот, но не чувствовал, что пьянеет, только возрастало беспокойство, хотелось идти куда-то. Позвонил. Явился какой-то туманно струящийся человек, без лица, без волос, похожий на палку с костяным набалдашником.
– Ликеру зеленого принеси, Ванька; зеленого, знаешь?
– Так точно, шартрез.
– Ты разве Ванька?
– Никак нет, Константин.
– Ну, ступай.
Когда лакей принес ликер, Артамонов спросил:
– Солдат?
– Никак нет.
– А говоришь, как солдат.
– Должность сходная, повиноваться надо.
Артамонов подумал, дал ему рубль и посоветовал:
– А ты – не повинуйся. Пошли всех к…, а сам торгуй мороженым. И больше ничего!
Ликер был клейкий, точно патока, и едкий, как нашатырный спирт. От него в голове стало легче, яснее, все как-то сгустилось, и, пока в голове происходило это сгущение, на улице тоже стало тише, все уплотнилось, образовался мягкий шумок и поплыл куда-то далеко, оставляя за собою тишину.
«Повиноваться надо? – размышлял Артамонов. – Кому? Я – хозяин, а не лакей. Хозяин я или нет?»
Но все размышления внезапно пресеклись, исчезли, спугнутые страхом: Артамонов внезапно увидал пред собою того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живет Алексей, как живут другие, бойкие люди: мешал ему широколицый, бородатый человек, сидевший против него у самовара; он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы; а по краю бороды, около левого глаза, шевелилась большая муха; вот она переползла, точно по лицу покойника, на висок, остановилась над бровью, заглядывая в глаз.
– Что, сволочь? – спросил Артамонов врага своего; тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами.
– Ревешь? – злорадно заорал Петр Артамонов. – Запутал меня, подлец, а сам плачешь? Самому жалко?
У-у…
Схватив со стола бутылку, он с размаха ударил того по лысоватому черепу.
На треск разбитого зеркала, на грохот самовара и посуды, свалившихся с опрокинутого стола, явились люди, их было немного, но каждый раскалывался надвое, расплывался; одноглазая старуха в одну и ту же минуту сгибалась, поднимая самовар, и стояла прямо.
Сидя на полу, Артамонов слышал жалобные голоса:
– Ночь, все спят.
– Зеркальце разбили.
– Это, знаете, не фасон…
Артамонов, разводя руками, плыл куда-то и мычал:
– Муха…
На другой день к вечеру, рысцой, прибежал Алексей, заботливо, как доктор – больного или кучер – лошадь, осмотрел брата, сказал, расчесывая усы какой-то маленькой щеточкой:
– Неестественно ты разбух; в этом образе домой являться – нельзя! К тому же ты мне здесь можешь оказать помощь. Бороду следует постричь, Петр. И купи ты себе сапоги другие, сапоги у тебя – извозчичьи!
Стиснув челюсти, покорно Артамонов старший шел за братом к парикмахеру, – Алексей строго и точно объяснял, насколько надо остричь бороду и волосы на голове; в магазине обуви он сам выбрал Петру сапоги.
После этого, взглянув в зеркало, Петр нашел, что он стал похож на приказчика, а сапоги жали ему ногу в подъеме. Но он молчал, сознавая, что брат действует правильно: и волосы постричь, и сапоги переменить – все это нужно. Нужно вообще привести себя в порядок, забыть все мутное, подавляющее, что осталось от кутежа и весомо, ощутимо тяготило.
Но сквозь туман в голове и усталость отравленного, измотанного тела, он, присматриваясь к брату, испытывал все более сложное чувство, смесь зависти и уважения, скрытой насмешливости и вражды. Этот рысистый человек, тощий, с палочкой в руке, остроглазый, сверкал и дымил, пылая ненасытной жадностью к игре делом. Завтракая, обедая с ним в кабинетах лучших трактиров ярмарки, в компании именитых купцов, Петр с немалым изумлением видел, что Алексей держится как будто шутом, стараясь смешить, забавлять богачей, но они, должно быть, не замечая шутовского, явно любили, уважали Алексея, внимательно слушали сорочий треск его речей.
Огромный, тугобородый текстильщик Комолов грозил ему пальцем цвета моркови, но говорил ласково, выкатив бычьи глаза, сочно причмокивая:
– Ловок ты, Олеша, хитер, лиса! Обошел ты меня…
– Ермолай Иванович! – восторженно кричал Алексей. – Соревнование – так?
– Верно. Не зевай, ходи тузом козырей!
– Ермолай Иванович, – учусь!
Комолов соглашался:
– Учиться – надо.
– Господа! – так же восторженно, но уже вкрадчиво говорил Алексей, размахивая вилкой. – Сын мой, Мирон, умник, будущий инженер, сказывал: в городе Сиракузе знаменитейший ученый был; предлагал он царю: дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну!
– Ишь ты, серопузый…
– Переверну, говорит! Господа! Нашему сословию есть на что опереться – целковый! Нам не надо мудрецов, которые перевертывать могут, мы сами – с усами; нам одно надобно: чиновники другие! Господа! Дворянство – чахнет, оно – не помеха нам, а чиновники у нас должны быть свои и все люди нужные нам – свои, из купцов, чтоб они наше дело понимали, – вот!
Седые, лысые, дородные люди весело соглашались:
– Верно, серопузый!
А одноглазый, остроносый, костлявенький старичок, дисконтер Лосев, вежливенько хихикая, говорил:
– У Алексея Ильича умишко – мышка; все знает: где – сало, где – мало, и грызет, грызет! Его здоровье!
Поднимали бокалы, Алексей радостно чокался со всеми, а Лосев, похлопывая детской ручкой по крутому плечу Комолова, говорил:
– Умненькие среди нас заводятся.
– Всегда были! – гордо отвечал Комолов. – Родитель мой из грузчиков в люди вышел…
– Родитель твой с того начал, говорят, что богатого армянина зарезал, – посмеиваясь, сказал Лосев, а тугобородый текстильщик, захохотав, как баран, ответил:
– Враки! Это у нас по глупости говорят: если – счастлив, значит – грешен! И про тебя, Кузьма, нехороши слухи бегают…
– И про меня, – подтвердил Лосев, вздыхая. – Слухи – мухи, эх!
Артамонов старший слушал, покрякивая, много ел, старался меньше пить и уныло чувствовал себя среди этих людей зверем другой породы. Он знал: все они – вчерашние мужики; видел во всех что-то разбойное, сказочное, внушающее почтение к ним и общее с его отцом. Конечно, отец был бы с ними и в деле, и в кутежах, он, вероятно, так же распутничал бы и жег деньги, точно стружку. Да, деньги – стружка для этих людей, которые неутомимо, со всею силой строгают всю землю, друг друга, деревню.
Но брат был чем-то не похож на этих больших людей, и порою, несмотря на неприязнь к нему, Петр чувствовал, что Алексей острее, умнее их и даже – опаснее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































