Текст книги "Дело Артамоновых"
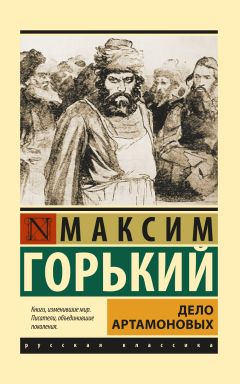
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик, он кричал:
– Теперь все пойдет отлично; теперь народ скажет наконец свое мощное слово, давно назревшее в душе его!
Мирон уже не спорил с ним, задумчиво улыбаясь, он облизывал губы; а Яков видел, что так и есть: все пошло отлично, все обрадовались, Митя с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге, рабочие кричали ура, потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок, в большой мяч, и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе, казалось, что у него отрываются и руки и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих, и огромный, жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему:
– Митрий Павлов, ты – удобный человек, удобный, – понял? Ребята – уру ему!
Кричали ура, а кочегар Васька, приплясывая, блестя лысоватым черепом, орал, точно пьяный!
Эх, – далеко люди сидели
От царева трона!
Подошли да поглядели —
На троне – ворона!
– Делай, Вася! – поощряли его.
Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх – не подхватят на руки, и тогда он расшибется о землю. А вечером, сидя в конторе, он услыхал на дворе под окном голос Тихона:
– Зачем отнял кутенка? Ты продай его мне. Я из него хорошую собаку сделаю.
– Э, старик, разве теперь время собак воспитывать? – ответил Захар Морозов.
– А ты чего делаешь? Продай, возьми целковый, ну?
– Отстань.
Яков, выглянув из окна, сказал:
– Царь-то, Тихон, а?
– Да, – отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул.
– Свергли царя-то!
Тихон наклонился, подтягивая голенища сапога, и сказал в землю:
– Разыгрались. Вот оно, Антоново слово – потеряла кибитка колесо!..
Выпрямился и пошел за угол дома, покрикивая негромко:
– Тулун, Тулун…
Хороводом пошли крикливо веселые недели; Мирон, Татьяна, доктор, да и все люди стали ласковее друг с другом; из города явились какие-то незнакомые и увезли с собой слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная и жаркая.
– Послушай, Солененький, – говорила Полина, – я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, солдат всех перебили, изувечили; полицию разогнали, командуют какие-то штатские, – как же теперь жить? Всякий черт будет делать все, что хочет, и, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он и все другие, кто ухаживал за мной и кому я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все заодно, жить здесь, я должна жить там, где меня никто не знает! И потом: ведь уж если это сделано – революция и свобода, – то, конечно, для того, чтоб каждый жил, как ему нравится!
Полина говорила все настойчивее, все многословней, Яков чувствовал в ее речах нечто неоспоримое и успокаивал:
– Подожди немного, утрясется это, тогда…
Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится, он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Человек, который привык бояться, всегда найдет причину для страха; Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова, Захар ходил царьком, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой, Митя летал вокруг него ручной сорокой. В самом деле, Морозов приобрел сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах; сожженная кожа на голове его, должно быть, полопалась, он иногда обертывал голову, как чалмой, купальным, мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя; огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом; шагал он важно, как толстый помощник исправника Экке, большие пальцы держал за поясом отрепанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал:
– Товарищи – порядок!
Он судил троих парней за кражу полотна; громко, так что было слышно на всем дворе, он спрашивал воров:
– Вы понимаете, у кого украли?
И сам же отвечал:
– Вы украли у себя, у всех нас! Разве можно теперь воровать, сукины дети?
Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы, а Васька – кочегар исступленно пел, приплясывая:
Вот как нынче насекомых секут!
Вот какой у нас праведный судья…
Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и вдруг крикнул:
Спаси, Господи, люди твоя!
Митя закричал:
– Браво-о!
Митя бегал в сереньких брючках, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, на рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная, зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою, Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шепот, а потом несдерживаемый крик Татьяны:
– Вы – клоун! Вы – бесчестный человек! Ваши убеждения? У нищих – нет убеждений. Ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения… Довольно! Завтра я уезжаю в город, к сестре… Да, дети со мной…
Это не удивило Якова, он давно уже видел, что рыженький Митя становится все более противным человеком, но Яков был удивлен и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадежность рыженького. А теперь даже мать, еще недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала:
– Что уж это, какой он стал несогласный, будто жиденок! Вот, корми их…
Митя кричал:
– Все – превосходно! Жизнь – красавица, умница! Но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами, – это надо забыть, Татьяна Петровна! С этим – опоздали!
Мирон озлобленно и сухо спросил его:
– А что вы скажете завтра?
– Что жизнь подскажет! Да! Ну-с, дальше?
Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно, точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество свое: три больших связки книг и корзину с бельем.
Всюду Яков наблюдал бестолковую, пожарную суету, все люди дымились дымом явной глупости, и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням.
– Ну, – сказал он Полине, – я решил: едем! Сначала – в Москву, а там – подумаем…
– Наконец-то! – обрадовалась женщина, обнимая, целуя его.
Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождем, нагретой солнцем. Было хорошо, но грустно.
Сняв со своей шеи горячие, влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал:
– Прикрой грудь… Вообще – оденься! Надо – серьезно.
Она соскочила на пол с колен его, в два прыжка подбежала к постели, окуталась халатом и деловито села рядом с ним.
– Видишь ли, – заговорил Яков, растирая ладонью бороду по щеке так, что волоса скрипели. – Надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно. Где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот!
– Конечно, – сказала Полина.
– Все надо делать осторожно. Мирон говорит: поезда набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться…
– Только ты возьми с собой побольше денег.
– Ну да, разумеется. Я уеду так, чтоб мои не знали – куда. Я будто в Воргород поеду, – понимаешь?
– А – зачем скрывать? – удивленно и недоверчиво спросила Полина.
Он не знал – зачем; эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это – хорошая мысль.
– Ну, знаешь – отец, Мирон, расспросы… Это все – не нужно. Деньги – в Москве, денег я могу достать много, хороших…
– Только скорее! – просила Полина. – Ты видишь: жить – нельзя. Все дорого, и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что – как жить?
Оглянувшись на дверь, она шептала:
– Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне, почему же не зарезать, если все так спуталось? Вчера слышу – перешептывается с кем-то. Боже мой! – думаю, – вот! Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленках и – рычит! Ужас!
– Подожди, – остановил Яков быстрый поток ее тревожного шепота. – Сначала уеду я…
– Нет, – громко сказала она, ударив кулачком своим по колену. – Сначала – я! Ты дашь мне денег и…
– Что ж ты – не веришь мне? – обиженно и сердито спросил мужчина и получил твердо сказанный ответ:
– Не верю. Я – честная, я говорю прямо: нет! Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили и всему изменяют? Ты – кому веришь?
Она говорила убедительно, и еще более убедительно говорила грудь ее из складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей; решили, что она завтра же начнет собираться, поедет в Воргород и там подождет его.
На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове, это было весьма правдоподобно; за последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели. И через восемь дней он ехал по дороге от города на станцию; тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин, в них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная трещинами. Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а впереди из мягкой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце.
Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, разглядывая ладонь свою:
– Должен сообщить тебе нечто печальное: в Москве ко мне явилась эта пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди – гм, какие теперь люди? – избили его и выбросили из вагона…
– Нет! – крикнула Татьяна, попробовав встать со стула.
– На ходу поезда. Через двое суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки.
Татьяна молча прижала платок к своим глазам, ее острые плечи задрожали, черное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять.
Мирон поправил пенсне, хрустнул пальцами, потирая руки, послушал звон одинокого колокола, благовест ко всенощной, затем, шагая по комнате, сказал:
– Что же плакать? Между нами – он был совершенно бесполезный человек. И – неприлично глуп, прости! Разумеется – жалко. Да.
– Боже мой, – сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками, и, помуслив палец, пригладила брови.
– Эта бойкая девица, – говорил Мирон, сунув руки в карманы, – весьма неискусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что – ясно: она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда.
Татьяна отрицательно мотнула головою.
– Нет? Я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом, пусть думают, что Яков жив. Так?
– Да, это лучше, – согласилась Татьяна.
– Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает, но мать утопила бы себя в слезах…
Покачав головою, Татьяна сказала:
– Скоро мы все погибнем.
– Возможно, если останемся здесь. Но я немедля отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов… Итак: мы старикам ничего не скажем. Ну, извини меня, еду домой, жена нездорова…
Длинной рукою своей он встряхнул руку сестры и ушел, сказав:
– Невероятно трудно ездить теперь, дороги – в ужаснейшем состоянии!
Артамонов-старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон, все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна; за окном голубая пустота, иногда ее замазывали облака; в зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой, серой бородою. Артамонов смотрел на свое лицо и думал:
«Хорош комар».
Приходила жена, наклонялась над ним, тормошила и хныкала:
– Уехать надо, лечиться надо…
– Уйди, – лениво говорил Артамонов. – Уйди, лошадь. Надоела. Дай покою.
И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде. А фабрика молчит.
Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек, исчез, умер. И хорошо сделал, – думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все: Яков, Татьяна, зять?
Иногда он спрашивал жену:
– Илья – воротился?
– Нет.
– Нет еще?
– Нет.
– А – Яков?
– И Яков.
– Так. Гуляют. А дело Мирошка сосет.
– Ты не думай про это, – советовала Наталья.
– Уйди.
Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые, она похудела, оплыла, как сальная свеча.
Изредка, но все чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме: являлись какие-то чужие люди, он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слышал вопли жены:
– Господи, да – что же это? За что? Ведь это – хозяин, хозяева мы! Ну, дайте я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему! Да – позвольте же увезти-то…
«Спрятать хочет. А – чего прятать? – соображал Артамонов. – Дура. Весь век свой дурой жила. Яков – в нее родился. И – все. А Илья – в меня. Вот он воротится – он наведет порядок…»
Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель.
Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке; сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо, казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукою.
– Есть хочу, – сказал Артамонов; ему не ответили.
Синеватая, сырая мгла наполняла сад; перед беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серая и темная; на скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок.
– Наталья, – слышишь? Есть давай…
Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась, она всегда была где-то близко, а сегодня – нет ее.
«Неужто? – подумал Артамонов, и в голове его стало яснее. – Или – захворала?»
Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело, потом оказалось, что это ружье со штыком за спиною зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал:
– Вы что, товарищи, – шутите? Разве так лошадей держат? Так – свиней не держат! А почему сено не убрано и намокло? А в баню, под замок – хочешь?
Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата:
– Явился еси, с небеси, черт его унеси!
– Командиров стало больше прежнего, – ответил солдат.
– И кто их, дьяволов, назначает?
– Сами себя. Теперь, браток, все само собой делается, как в старухиной сказке.
Человек подошел к лошадям, взял их за гривы, – Артамонов-старший крикнул как мог громко:
– Эй, позови жену!
– Молчи, старик, – ответили ему. – Ишь ты, жену захотел…
Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастекленной стены беседки, под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздьями, как рябина; лежать было жестко; он покрыт своей изношенной лисьей шубой, и на нем толстый зимний пиджак. Но – не жарко. Нельзя понять зачем он тут? Может быть – в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем лошади в саду и солдат у бани? И кто это орет на дворе: «Вы, товарищ, – бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать – рано! Без дураков…»?
Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум в голове. И ног как будто нет; от колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор; он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме.
В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внес холодную тень и густой запах дегтя.
– Это – Тихон?
– А как же…
Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развел руками, точно поплыл над скрипучим полом.
– Кто это орет?
– Захарка Морозов.
– А – солдат к чему тут?
– Война.
Помолчав, Артамонов спросил:
– И сюда враг дошел?
– Это – против тебя война, Петр Ильич…
Хозяин строго сказал:
– Ты, старый дурак, не шути, я тебе не товарищ.
Он услыхал спокойный ответ:
– Последняя война, больше не хотят. И теперь – все товарищи. А для дурака я действительно стар.
Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапку. На дворе сиповато, сорванным голосом, командуют:
– И чтобы после восьми часов на улицах – никаких фигур!
– Где жена? – спросил Артамонов.
– Ушла хлеба искать.
– Как это – искать?
– А как же? Хлеб – не кирпич, на земле не валяется.
Сумрак в саду становился все гуще, синее; около бани зевнул, завыл солдат, он стал совсем невидим, только штык блестел, как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал: все равно у Тихона ничего не поймешь. К тому же и вопросы как-то прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть.
Тихон заворчал:
– Дурак, а правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил: всем каторга! И – пришло. Смахнули, как пыль тряпицей. Как стружку смели. Так-то, Петр Ильич. Да. Черт строгал, а ты – помогал. А – к чему все? Грешили, грешили, – счета нет грехам! Я все смотрел: диво! Когда конец? Вот наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом все это… Потеряла кибитка колесо…
«Вредит», – сообразил Артамонов, но все-таки спросил:
– Зачем я тут?
– Выгнали из дома.
– Мирон?
– Всех.
– А… Яков?
– Его давно нет.
– Где Илья?
– Слышно – с этими. Надо быть, потому ты и жив, что он – с ними, а то…
«Бредит, – уверенно решил Петр Артамонов и замолчал, думая: – Выжил из ума старичишко. Так и надо было ждать».
Мелкие, тускленькие звезды высыпались в небо; раньше как будто не было таких звезд. И не было их так много.
Тихон взял шапку и, тиская ее в руках, снова заворчал:
– Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим – легче.
Вдруг, иным голосом, он спросил:
– Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то?
– Ну? Так – что?
Петр Артамонов не мог понять: испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос? Но он тотчас понял, как только Тихон сказал:
– Убил ты его, как Захар кутенка. А на что убил?
Артамонову стало ясно: Тихон наконец все-таки донес на него, и вот он, больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорей возмутило нечеловеческой глупостью. Он оперся локтями, приподнял голову, заговорил тихо, с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту:
– Это ты – врешь! И – для каждого проступка есть срок, давность! А ты – все сроки пропустил. Да! И – сошел с ума. И – забыл, что сам видел, сам сказал тогда…
– А – что я сказал? – перебил его старик. – Я, конешно, не видел, ну – я понял! Сказал, чтоб поглядеть: что ты будешь делать? Я – лжу сказал, а ты – рад, схватился за лжу. Я глядел-глядел, ждал – ждал… И все вы – такие. Алексей Ильич научил тестя своего, пьяницу, трактир Барского поджечь, а твой отец догадался об этом, устроил, что убили пьяницу до смерти. Никита Ильич знал это, он тоже до всего доходил умом. Ему бы молчать, а он, со зла на тебя, мне сказал. Я говорю: «Ты монах, тебе все это забыть надо, а я – буду помнить». Запугали вы его делами вашими. Послали его в петлю, а после в монастырь: молись за нас! А ему за вас и молиться страшно было – не смел! И оттого – Бога лишился…
Казалось, Тихон может говорить до конца всех дней. Говорил он тихо, раздумчиво и как будто беззлобно. Он стал почти невидим в густой жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он все более убеждался, что этот непонятный человек сошел с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал все так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное:
– Веры вы, Артамоновы, и меня лишили. Никита Ильич сбил меня из-за вас, сам обезбожел и меня… Ни Бога, ни черта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь – все видно: раздели вас…
С трудом пошевелив тело свое, Артамонов сбросил на пол страшно тяжелые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе, это испугало его, он схватился руками за плечо Тихона.
– Куда? – спросил дворник, грубо стряхнув его руки. – Не тронь. Силы у тебя нет, не задушишь. – У отца твоего была сила, – хвастовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси…
Артамонов все сильнее хотел есть, и его очень пугали ноги.
«Неужто умираю? Мне еще семидесяти пяти нет. Господи…»
Он снова попробовал лечь, но не хватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону:
– Помоги, подними ноги мои!
Положив на скамью мертвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукою в шапку, в руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся: это игла, Тихон в темноте ушивал шапку, утверждая этим свое безумие. Над ним мелькала серая, ночная бабочка. В саду, в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал:
– Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас.
Тихон заглушил этот голос:
– Тоже и отец твой; он брата моего убил.
– Врешь, – невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил: – Когда?
– Вот те и когда…
– Что ты все врешь, безумный? – вдруг возмутился Артамонов, ощущая, как голод сосет и сушит его. – Что тебе надо? Совесть мне ты, судья? Зачем ты молчал тридцать лет с лишком?
– Вот и молчал. Значит – думал!
– Злобу копил? Эх… Ну, ступай, донеси полиции.
– Полиции – нет.
– Скажи – вот, он меня всю жизнь поил, кормил – судите его! Так ведь донес уж! Чего же надо, ну? Прижми, припугни меня, – денег требуй, ну?
– Денег у тебя нет. Ничего у тебя нет. И – не было. А на судей мне – наплевать. Я – сам себе судья.
– Так чем ты грозишь, бредовой человек?
Но Тихон как будто не грозил, Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал:
– Конец всем Каинам. За что брата убили?
– Врешь про брата!
Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга.
– Я – вру? Я с ним был тогда…
– С кем?
– С братом. Я убежал, когда отец твой кокнул его. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то?
– Опоздал ты…
– Ну вот – опрокинули вас, свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне…
– Безумным остался…
Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где все неразличимо, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил:
– Опоздал ты. Брата – врешь – не было у тебя, у таких, как ты, – ничего не бывает…
– Совесть бывает.
– Ты сам сбил мне с толку сына, Илью!
– Это вы, Артамоновы, сбили меня с толку, Никита Ильич разбередил!
– А он говорил – ты его!
– Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хряснул… Вы – хитрые…
– Ты сам…
– Серафима завели. Он тоже мутил меня: никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде – хитрости…
– Кто идет? К-куда? – сердито, громко крикнули во тьме. – Сказано вам, гадам, – после восьми не двигаться?
Тихон встал, подошел к двери и вывалился из нее во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как сквозь три полосы масленого света в саду промелькнуло широкое, черное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного.
– Достала? – спросил Тихон кого-то.
– Вот – всё!
Это голос жены. Где была она, зачем она оставила его с этим стариком?
Артамонов открыл глаза, приподнялся на локтях, глядя в дверь, заткнутую двумя черными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват пред ним, по чьей вине жизнь его была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас все это стало ясно.
Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала:
– Ну, слава тебе, господи…
– Вот, Тихон, кто виноват во всем! – решительно сказал Артамонов и облегченно вздохнул. – Она жадничала, она меня настраивала, да!
Он с торжеством зарычал:
– Из-за нее и брат Никита пропал. Ты сам знаешь, да…
Артамонов задохнулся. Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукою волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала:
– Тихонько, не кричи, тут – злые все…
– Есть давай…
Жена сунула в руку его огурец и тяжелый кусок хлеба; огурец был теплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто.
Артамонов изумился:
– Это – что? Мне? Всё?
– Тише, Христа ради, – шептала Наталья, – ведь – нет ничего! И солдатики тоже…
– Это ты мне – за все? За весь страх, за всю жизнь?
Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимо, смертельно оскорбительное, в чем даже и она, Наталья, не виновата.
Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твердо:
– Не хочу.
Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришептывая:
– Кушай, кушай, не сердись…
Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:
– Не хочу. Прочь.
1924–1925
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































