Текст книги "Дело Артамоновых"
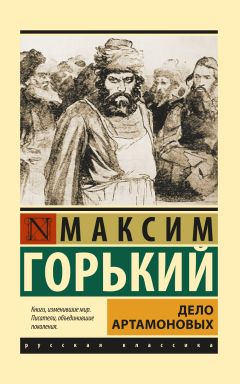
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Когда она брала в руки деньги, красивое лицо ее становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масляное и едкое. Считая разноцветные, грязные бумажки, она трогала их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под рук ее, как мухи.
– Как вы – доходы-то делите с Алексеем? – спрашивала она в постели, насытив Петра ласками. – Не обсчитывает он тебя? Он – ловкий! Они с женой жадные. Так и хватают все, так и хватают!
Она чувствовала себя окруженной жуликами и говорила:
– Никому, кроме Тихона, не верю.
– Значит, дураку веришь, – устало бормотал Петр.
– Дурак – да совестлив.
Когда Петр впервые посетил с ней нижегородскую ярмарку и, пораженный гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену:
– Каково, а?
– Очень хорошо, – ответила она. – Всего много, и все дешевле, чем у нас.
Затем она начала считать, что следует купить:
– Мыла два пуда, свеч ящик, сахару мешок да рафинаду…
Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты.
– Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них, хорошо ли для ребенка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна!
В такие минуты Петр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленоватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба – жирный, глупый линь.
Наталья все так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись в кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению ее пышным телом. От кожи ее пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копченой рыбы, окорока. Петр нередко и все чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно, ласки ее опустошают его.
– Отстань, устал я, – говорил он.
– Ну, спи с Богом, – покорно отзывалась жена и, быстро заснув, удивленно приподнимала брови, улыбалась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею.
В те часы, когда Петр особенно ясно, с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать ее в жуткий день рождения первого сына. Мучительно тянулся девятнадцатый час ее страданий, когда теща, испуганная, в слезах, привела его в комнату, полную какой-то особенной духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искаженные лютой болью глаза, растрепанная, потная и непохожая на себя, жена встретила его звериным воем:
– Петя, прощай, умираю. Мальчик будет… Петр, прости…
Губы ее, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто не из горла, а из опустившегося к ногам живота, безобразно вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось; она дышала, как уставшая собака, и так же высовывала опухший, изжеванный язык, хватала волосы на голове, тянула их, рвала и все рычала, выла, убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей:
– М-мальчика…
День был ветреный, за окном тряслась и шумела черемуха, на стеклах трепетали тени, Петр увидел их прыжки, услыхал шорох и, обезумев, крикнул:
– Окно занавесьте! Не видите?
И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины:
– И – и – у – у…
А через полтора часа теща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены, Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким, пьяным языком сказала:
– Мальчик. Сын.
Он наклонился, приложил щеку к плечу ее, забормотал:
– Ну, мать, этого я тебе не забуду до гроба, так и знай! Ну, спасибо…
Впервые он назвал ее матерью, вложив в это слово весь свой страх и всю радость; она, закрыв глаза, погладила голову его тяжелой, обессиленной рукою.
– Богатырь, – сказала рябая, носатая акушерка, показывая ребенка с такой гордостью, как будто она сама родила его. Но Петр не видел сына, пред ним все заслонялось мертвым лицом жены, с темными ямами на месте глаз:
– Не умрет?
– Н-ну, – громко и весело сказала рябая акушерка, – если б от этого умирали, тогда и акушерок не было бы.
Теперь богатырю шел девятый год, мальчик был высок, здоров, на большелобом, курносом лице его серьезно светились большие, густо-синие глаза, – такие глаза были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился еще сын, Яков, но уже с пяти лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали несколько необычный характер, и это возбуждало у отца чувство, близкое гордости.
Однажды Петр застал сына в сарае, мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки.
– Это что будет?
– Пароход.
– Не поедет.
– У меня – поедет! – сказал сын задорным тоном деда. Петр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал:
«Дедушкин характер».
Илья был непреклонен в достижении своих целей, но все-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и двух колес тачки. Тогда он нарисовал колеса углем на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим белье:
– Эй, бабы! Вытащите, а то утону…
Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлепала, с этого дня он стал смотреть на нее такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестренку Таню. Он был вообще деловой человечек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал:
«Толк будет. Строитель».
Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени, приказывал:
– Расскажи чего-нибудь.
– Некогда мне.
– Мне тоже некогда.
Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги.
– Ну, вот: жили-были мужики…
– Про мужиков я все знаю; смешное расскажи.
Смешного отец не знал.
– Ты поди к бабушке.
– Она сегодня чихает.
– Ну – к матери.
– Она меня мыть будет.
Артамонов смеялся; сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший, легкий смех.
– Тогда я пойду к Тихону, – заявлял Илья, пытаясь соскочить с колен отца, но тот удерживал его.
– А что Тихон говорит?
– Все.
– Что однако?
– Он все знает, он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки…
Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала:
– Не лазай по крышам, уродушкой будешь, горбатым!
Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери:
– Еще я тебе помру, когда бить будешь!
Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся:
– Ты не бей его, а посылай ко мне.
Сын пришел, встал у косяка двери, заложив руки за спину; не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Петр спросил:
– Ты что это матери грубишь?
– Я не дурак, – сердито ответил сын.
– Как же не дурак, если грубишь?
– Так она – дерется. Тихон сказал: только дураков бьют.
– Тихон? Тихон сам…
Но Петр почему-то остерегся назвать дворника дураком; он шагал по комнате, присматриваясь к человеку у двери, не зная – что сказать?
– Ты вот тоже брата Якова бьешь.
– Он – дурак. Ему – не больно, он толстый.
– Что же: толстый, так – надо бить?
– Он жадный.
Петр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой, вихрастой головою. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных, синих глаз. И солнце мешало; всегда выходило как-то так, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Петр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова и они не доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть, это Петр Артамонов тоже хорошо знал.
Второй сын Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слезы, пыхтел, надувая щеки, и тыкал кулаками в глаза свои. Он был труслив, много и жадно ел и, отяжелев от еды, или спал, или жаловался:
– Мама, мне скушно!
Дочь Елена приезжала домой только летом, она была какая-то чужая барышня.
Семи лет Илья начал учиться грамоте у попа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по Псалтырю, а по книжке с картинками «Родное слово», сказал отцу:
– Я не стану учиться, у меня язык болит.
Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил:
– Паша Никонов учится по родному, а я по чужому.
Но иногда этот очень живой мальчик, запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под сосною, бросая сухие шишки в мутно-зеленую воду реки Ватаракши.
«Скучает», – догадывался отец.
Он тоже недели и месяцы жил оглушенный шумом дела, кружился, кружился и вдруг попадал в густой туман неясных дум, слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его: заботы о деле или же скука от этих, в сущности, однообразных забот? Часто в такие дни он натыкался на человека и начинал ненавидеть его за косой взгляд, за неудачное слово; так, в этот серенький день, он почти ненавидел Тихона Вялова.
Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая:
– Мы, Вяловы, большая семья…
– Что же ты со своими не живешь? – спросил Петр, подходя к Баймаковой, взяв ее под локоть; Тихон замолчал, отшагнул в сторону; Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил:
– Да уж нет их никого, своих-то, всех извели.
– Что значит – извели? Кто извел?
– Двоих братов под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились; отец – тоже причастный бунту – с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Потом было еще двое у матери, от другого мужа, Вялова, рыбака, я да брат Сергей…
– А где брат? – спросила Ульяна, мигая опухшими от слез глазами.
– Его убили.
– Рассказываешь ты, как поминанье читаешь, – сердито сказал Артамонов.
– Это Ульяне Ивановне любопытно… Приуныла она маленько, вот я и…
Не кончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча.
– А кто убил брата? – вдруг спросил Артамонов.
– Кто убивает? Человек убивает, – спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила:
– Молния тоже…
…В середине лета наступили тяжелые дни, над землей, в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина; всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой, горячий ветер, люто шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю, рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землей вместе со стружкой, кострикой, перьями кур; толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, еще жарче раздувая пожары.
На фабрике было много больных; Артамонов слышал, сквозь жужжание веретен и шорох челноков, сухой, надсадный кашель, видел у станков унылые, сердитые лица, наблюдал вялые движения; количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже; сильно возросли прогульные дни, мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Веселый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребенка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных, еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок.
– Гулянье надо устроить, – настаивал Алексей, – повеселить надо, подбодрить народ!
Уезжая с женою на ярмарку, он еще раз посоветовал:
– Устрой гулянье – оживут люди! Ты – верь: веселье – от всех бед спасенье!
– Займись, – приказал Петр жене. – Получше сделай, пообильнее.
Наталья недовольно заворчала, он сердито спросил:
– Ну?
Протестующе громко высморкав нос в край передника, жена ответила:
– Слышу.
Гулянье начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб; он стал еще более худ и сух; надтреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил; серые лица чахоточных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели; многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди, вслед за ним, тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое, лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его.
После молебна бабы вынесли на улицу поселка столы, и вся рабочая сила солидно уселась к деревянным чашкам, до краев полным жирной лапшою с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось десять человек, на каждом столе стояло ведро крепкого, домашнего пива и четверть водки; это быстро приподняло упавших духом, истомленных людей. Тишина, горячей шапкой накрывшая землю, всколебалась, отодвинулась на болота, к лесным пожарам, поселок загудел веселыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодежи.
За сытным, обильным обедом сидели часа три; потом, разведя пьяных по домам, молодежь собралась вокруг чистенького, аккуратного плотника Серафима. Его синяя пестрядинная рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми, пьяненькое, розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глазки. В этом веселом делателе гробов было, соответственно имени его, что-то небесно-радостное, какой-то легкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны темными пальцами, изогнутыми, точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих, с нарочитой заунывностью и гнусаво, в нос:
А и вот вам, люди, сказ на забаву
Да премудрости вашей на разгадку!
И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида, грудастая, красивая, с дерзкими глазами, он завел еще более высоко и уныло:
Да вот сидит Христос в светлом рае,
Во душистой, небесной прохладе,
Под высокой, златоцветной липой,
Восседает на лыковом престоле.
Раздает он серебро и злато,
Раздает драгоценное каменье,
Все богатым людям в награду,
За то, что они, богатеи,
Бедному люду доброхоты,
Бедную братию любят,
Нищих, убогих сыто кормят.
Он снова подмигнул девкам и вдруг перевел голосишко на плясовой лад, а дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон.
А кто серебро возьмет, –
Тому ноги отшибет!
А кто золото возьмет, –
Того пламенем сожжет!
А яхонты, жемчуга
Все бельмами на глаза!..
Звон гусель и веселую игру песни Серафима заглушил свист парней; потом запели плясовую девки и бабы:
С моря быстрые кораблики бегут,
Красным девушкам подарочки везут!
А Зинаида, притопывая, подпевала пронзительно:
От Пашки – Палашке
Рогож на рубашки;
От Терешки – Матрешке
Две березовы сережки.
Илья Артамонов сидел на штабеле теса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая, лысоватая голова, а на сером, нездоровом лице жадно бегали серые, боязливые глазки. Илье очень нравился голубой старичок, было приятно слушать игру гусель и задорный, смешной голос Серафима, но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачовой кофте и все разрушила, вызвав буйный свист, нестройную, крикливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал:
– Зинаидка – распутная, со всеми живет. И с твоим отцом тоже, я сам видел, как он ее тискал.
– Зачем? – недогадливо спросил Илья.
– Ну, знаешь!
Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц, и ему было досадно, что он спросил об этом товарища.
– Врешь, – сказал он брезгливо и не слушая шепот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях, а Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил обо всем, точно братишка Яков, – как будто жалуясь на всех людей.
Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там, в саду, пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов, лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расползалась улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи.
Илья сел рядом с отцом, не веря, чтоб этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную, морозную ночь.
– В поселок-то пойдем? – спросила мать.
– Да; пойду оденусь, – сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому; спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце.
– Ты что? – ласково спросил отец, – сын тоже спросил, глядя в глаза его:
– Ты Зинаиду тискал или не тискал?
Илье показалось, что отец испугался; это не удивило его, он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот – сейчас боится. И, чтоб ободрить испуганного человека, он сказал:
– Я – не верю, я только спрашиваю.
Отец толкнул его в сени и, затолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам стал, посапывая, шагать из угла в угол, так шагал он, когда сердился.
– Поди сюда, – сказал Артамонов старший, остановясь у стола, младший Артамонов подошел.
– Ты что сказал?
– Это Павлушка говорит, а я не верю.
– Не веришь? Так.
Петр выдул из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьезное, неласковое лицо. Он дергал себя за ухо, соображая: хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он, не верит и, видимо, утешает его этим неверием? Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное – бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дергая их, начал бормотать:
– Не слушай дураков, не слушай!
И, оттолкнув, приказал:
– Ступай. Сиди в своей горнице. И – сиди там. Да.
Сын пошел к двери, склонив голову набок, неся ее, как чужую, а отец, глядя на него, утешал себя:
«Не плачет. Я его – не больно».
Он попробовал рассердиться:
– Ишь ты! Не верю! Вот я тебе и показал.
Но это не заглушало чувства жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою.
«Впервые побил, – думал он, неприязненно разглядывая свою красную, волосатую руку. – А меня до десяти-то лет, наверно, сто раз били».
Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобное капле жира в мутной воде, послушав зовущий шум в поселке, Артамонов неохотно пошел смотреть гулянье и дорогой тихонько сказал Никонову:
– Пасынок твой моему Илье глупости внушает…
– Я его выпорю, – с полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик.
– Ты ему придержи язык, – добавил Петр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегченно думая:
«Вот как просто».
Поселок встретил хозяев шумно и благодушно; сияли полупьяные улыбки, громко кричала лесть; Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых онучах, перевязанных, по-мордовски, красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну:
Ой, кто это идет?
Это – сам идет!
А кого же он ведет?
Самое ведет!
Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил:
– Мы тобой довольны. Мы – довольны.
Другой старик, Мамаев, кричал с восторгом:
– У Артамоновых забота о людях барская!
А Никонов говорил Коптеву так, что все слышали:
– Благодарный народ, умеет ценить благодетелей своих!
– Мама, меня толкают! – жаловался Яков, одетый в рубаху розового шелка, шарообразный; мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала:
– Ты гляди, как старичок пляшет…
Голубой плотник неутомимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки:
Эх, притопывай, нога!
Притопывай чаще!
Лапоть легче сапога,
Баба – девки – слаще!
Артамонов не впервые слышал похвалы ему, он имел все основания не верить искренности этих похвал, но все-таки они его размягчали; ухмыляясь, он говорил:
– Ну, ладно, спасибо! Ничего, живем дружно.
И думал:
«Жаль, не видит Илья, как чествуют отца».
У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей; подумав, дернув себя за ухо, он сказал:
– Детскую больницу надо вдвое расширить.
Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него.
– Слышали? Валяй – ура, хозяину!
Недружно, но громко люди рявкнули ура; растроганная, окруженная бабами, Наталья сказала в нос, нараспев:
– Подите, бабы, возьмите еще бочонка три пива, Тихон выдаст, подите!
Это еще более усилило восхищение баб; а Никонов, качая головой, умиленно говорил:
– Архиерейская встреча…
– Ма-ам, – мне жарко, – мычал Яков.
Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый, с огромными, как сливы, глазами, кочегар Волков; он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребенка, с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать:
– Как быть-то? Жена скончалась. От жары скончалась, ау! Вот – прирост остался, – как быть?
Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы; отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили, как будто извиняясь:
– Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была. Чахоточная. Да он и сам нездоровый.
– Возьмите младенца-то у него, – сердито посоветовал Артамонов, и тотчас же к раскисшему тельцу ребенка протянулось несколько пар бабьих рук, но Волков крепко выругался и убежал.
В общем все было хорошо, пестро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью:
«Растет число народа. Видел бы отец…»
Вдруг жена пожалела:
– Не вовремя наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе.
Артамонов промолчал, взглянув исподлобья на Зинаиду, она шла впереди десятка девиц и пела неприятным, низким голосом:
Ходит мимо, Смотрит мило, Видно, хочет,
Ах, полюбить!
«Халда, – подумал он. – И песня плохая».
Вынул часы, посмотрел на них и зачем-то солгал:
– Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея.
Он пошел быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну, придумал что-то очень строгое и достаточно ласковое, но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, все забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник, он смотрел в багрово-дымное небо; сумрак наполнял маленькую комнату бурой пылью; на стене, в большой клетке, возился дрозд: собираясь спать, чистил свой желтый нос.
– Ну что, сидишь?
Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула.
– То-то вот! Слушаешь всякую дрянь.
Сын стоял наклонив голову, отец понял, что он делает это нарочно, чтоб напомнить о трепке.
– Зачем гнешься? Держи голову прямо.
Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жердочкам, негромко посвистывая.
«Сердится», – подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку. – Пустяки слушать не надо.
Илья спросил:
– А как же, когда говорят?
Его серьезный, хороший голос обрадовал отца, Петр заговорил более ласково и храбро:
– Говорят, а ты – не слушай! Ты – забывай! Скажут при тебе пакость, а ты – забудь.
– Ты забываешь?
– Ну а как же? Если б я помнил все, что слышу, чем бы я стал?
Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще, отлично понимал, что все они не нужны, и, быстро запутавшись в темной мудрости простых слов, сказал, вздохнув:
– Поди ко мне.
Илья подошел осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся.
– Ты что капризничаешь? Погляди на меня.
Илья взглянул прямо в глаза, но это вышло еще хуже, потому что он спросил:
– За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке.
Артамонов старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом встал вровень с ним, сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя.
«Не по возрасту обидчив», – мельком подумал он и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою.
– Я тебя – не больно. Надо учить. Меня отец бил ой-ей как! И мать. Конюх, приказчик. Лакей-немец. Еще когда свой бьет – не так обидно, а вот чужой – это горестно. Родная рука – легка!
Шагая по комнате, шесть шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит еще что-нибудь.
– Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо, – бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати. – Учить надо тебя. В губернию надо. Хочешь учиться?
– Хочу.
– Ну, вот…
Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить: ласкали его отец и мать после того, как, бывало, обидят?
– Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то.
– Его никто не любит.
– И не за что, такого гнилого.
Сойдя к себе, стоя пред окном, Артамонов задумался: нехорошо у него вышло с сыном.
«Избаловал я его. Не боится он».
Со стороны поселка притекал пестрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот четко прозвучали слова Тихона:
– Что ж ты дома, дитя? Гулянье, а ты – дома? Учиться поедешь? Это хорошо. «Неученый – что нероженый», вот как говорят. Ну, мне без тебя скушно будет, дитя.
Артамонову захотелось крикнуть:
«Врешь, это мне будет скучно! Ишь, ластится к хозяйскому сыну, подлая душа», – подумал он со злостью.
Отправив сына в город, к брату попа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Петр действительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада; к синеватому огоньку ее Петр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал.
Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память; нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову.
– Ты что ж это как озоруешь? – спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил набок, и Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек.
«Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня?»
Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своем отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему.
«Что ж я, добрее отца?» – спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная – добрый он или злой? Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, нападая во время работы. Дело шумно росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье – деловые думы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтоб вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сыну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его.
– Тятя, купи мне козла, – просил Яков; он всегда чего-нибудь просил.
– Зачем козла?
– Я буду верхом кататься.
– Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.
– А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший…
Отец думал:
«Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал: расскажи про ведьму».
Не нравилось ему, что Яков, сам раздразнив фабричных ребятишек, жаловался:
– Обижают.
Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в поселке, а этот труслив, ленив, всегда что-то сосет, жует. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее: за чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожглась кипятком.
– А я видел, что прольешь, – широко улыбаясь, похвастался Яков.
– Видел, а – молчал; это нехорошо, – заметил отец. – Вот мать ноги обварила.
Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то на дворе, захлебываясь словами:
– Я видел, что он его бить хочет; идет, идет, подошел, да сзади ка-ак даст!
Выглянув в окно, Артамонов увидал, что сын, размахивая кулаком, возбужденно беседует с дрянненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запретил ему дружить с Никоновым, хотел сказать что-то поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына:
– Иди, пустоглазый…
Осторожно, как по скользкому, Яков пошел, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нес на них что-то неудобное, тяжелое.
«Неуклюж. Глуповат», – решил отец.
В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила лежать, читая книжки, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху; поджимала туго налитые кровью, очень красные губы и часто, не подобающим девчонке тоном, говорила матери:
– Теперь так не делают. Это уже вышло из моды.
Когда отец сказал ей: «Ты что же, ученая, не взглянешь, как тебе на рубахи полотно ткут?» – она ответила:
– Пожалуйста.
Надела праздничное платье, взяла зонтик, подарок дяди Алексея, и, покорно шагая вслед за отцом, внимательно следила: не задеть бы платьем за что-нибудь. Несколько раз чихнула, а когда рабочие желали ей доброго здоровья, она, краснея, молча, без улыбки на лице, важно надутом, кивала им головою. Отец рассказывал ей о работе, но, скоро заметив, что она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчал, почувствовав себя обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу. Выйдя из ткацкой на двор, он все-таки спросил:
– Ну что?
– Пыльно очень, – ответила она, осматривая свое платье.
– Немного видела, – усмехнулся Петр и с досадой закричал: – Да что ты все подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток.
Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато:
– Маслом очень пахнет.
Его особенно раздражали эти ее два пальчика, и Артамонов ворчал:
– Гляди, двумя-то пальцами немного возьмешь!
В ненастный день, когда она читала, лежа на диване, отец, присев к ней, осведомился, что она читает.
– Об одном докторе.
– Так. Наука, значит.
Но заглянув в книгу, возмутился.
– Что же ты врешь? Это – стихи. Разве науку стихами пишут?
Торопливо и путано она рассказала какую-то сказку: Бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору черта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это мешало понимать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































