Текст книги "Дело Артамоновых"
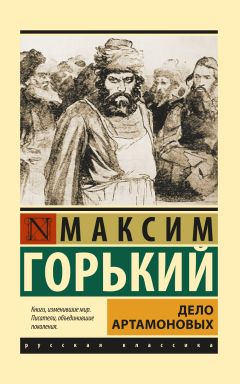
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Будто – твои мысли, – насмешливо сказал хозяин.
– Мои? – Тихон отрицательно мотнул головой. – Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет, никакого зла. А они говорят: все – от нас пошло, мы – хозяева! Ты гляди, Петр Ильич, это верно: все от них! Они тебя впрягли в дело, ты вывез воз на ровную дорогу, а теперь…
Артамонов солидно крякнул, встал, сунул руки в карманы и решительно, хотя несколько путаясь в словах, заговорил, глядя через голову Тихона, в облака:
– Вот что: я, конечно, понимаю, ты всю жизнь со мной прожил, это – так! Ну, однако, ты стар, тебе уж трудно…
– А Серафим поддакивал в этом, – сказал Тихон, видимо не слушая хозяина.
– Подожди! Тебе пора на отдых…
– Всем – пора. А как же?
– Постой… Характер у тебя – тяжелый…
Тихон Вялов не удивился, услыхав о расчете, он спокойно пробормотал:
– Ну что ж…
– Я тебя, конечно, награжу, – обещал Артамонов, несколько смущенный его спокойствием. Тихон промолчал, смазывая дегтем свои пыльные сапоги; тогда Артамонов сказал со всей твердостью:
– Значит – прощай!
– Ладно, – ответил дворник.
Артамонов пошел за реку, надеясь, что там прохладнее; там, под сосною, где он поссорился с Ильей, Серафим построил ему из белых сучьев березы нечто вроде трона. Оттуда хорошо было видно всю фабрику, дом, двор, поселок, церковь, кладбище. Льдисто сверкали большие окна фабричной больницы, школы; маленькие люди челноками сновали по земле, ткали бесконечную ткань дела, люди еще меньше бегали по песку фабричного поселка. Около церковной ограды, среди серых стволов ольхи, паслось игрушечное стадо коз; их развел одноглазый фельдшер Морозов, внук древнего ткача Бориса, – фабричные бабы много покупали козьего молока для детей. А за больницей, на лысом квадрате земли, обнесенном решеткой, паслись мелкие люди в желтых халатах и белых колпаках, похожие на сумасшедших. Вокруг фабрики развелось много птиц: воробьев, ворон, галок, трещали сороки, торопливо перелетая с места на место, блестя атласом белых боков; сизые голуби ходили по земле, особенно много было птиц около трактира на берегу Ватаракши, где останавливались мужики, привозя лен.
Но с некоторого времени все это большое хозяйство уже не возбуждало ни удовольствия, ни гордости Артамонова, оно являлось для него источником разнообразных обид. Обидно было видеть, как брат, племянник и разные люди, окружающие их, кричат, размахивают руками, точно цыгане на базаре, спорят, не замечая его, человека старшего в деле. Даже говоря о фабрике, они забывали о нем, а когда он им напоминал о себе, люди эти слушали его молча, как будто соглашались с ним, но делали все по-своему и в крупном и в мелком. Это началось давно, еще с той поры, как они, против его желания, построили на фабрике электрическую станцию; Артамонов-старший быстро убедился, что это и выгоднее и безопасней, но все-таки не мог забыть обиду. Мелких обид было много, и они всё увеличивались в числе, становились острее.
Особенно дерзко и противно вел себя племянник; он кончил учиться, одевался в какие-то нерусские, кожаные курточки, весь, от золотых очков до желтых ботинок, блестел, щурился, морщился и говорил:
– Это, дядя, старо. Не то время, дядя.
Казалось, он боится времени, как слуга – строгого хозяина. Но только этого он и боялся, во всем же остальном – невыносимо дерзок. Однажды он даже сказал:
– Поймите, дядя, с такими людями, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить.
Это настолько крепко ударило Артамонова, что он даже не спросил: почему? Оскорбленный, ушел и несколько недель не ходил к брату, не разговаривал с Мироном, встречая его на фабрике.
Мирон собирался жениться на дочери Веры Поповой, такой же высокой и стройной, как ее поседевшая, замороженная мать. Как все, эта девица тоже неприятно усмехалась. Она дергала шеей, присматривалась ко всему упорным взглядом больших, бесстыдно открытых глаз, должно быть, ни во что не верующих, и, напевая сквозь зубы, жужжа, как муха, с утра до вечера портила полотно, размазывая на нем пестрые картинки. Ее соломенная шляпа, привязанная лентой за шею, всегда болталась на спине, волосы у нее были тоже соломенного цвета; одевалась неаккуратно, ноги были видны из-под юбки, почти до колен.
Противен был бездельник Горицветов; он мелькал, как стриж, неожиданно являлся, исчезал, снова являлся и, наскакивая на всех злой, маленькой собачкой, кричал свое:
– Вы хотите превратить богато одухотворенную Россию в бездушную Америку, вы строите мышеловку для людей…
В этих криках Артамонов слышал иногда что-то верное, но чаще – нечто общее с глупостью Тихона Вялова, хотя он не знал людей, более различных, чем этот обожженный, судорожный прыгун и тяжелый, ко всему равнодушный Тихон. Горицветов подбегал к Елизавете Поповой и кричал на нее:
– Почему вы молчите, вы, человек Духа?
Она улыбалась; лицо у нее было надменно и неподвижно, улыбались только ее серые, осенние глаза. Артамонов-старший слышал какие-то неслыханные, непонятные слова.
– Агония романтизма, – говорил Мирон, тщательно протирая куском замши стекла очков.
Алексей летал где-то в Москве; Яков толстел, держался солидно в стороне, он говорил мало, но, должно быть, хорошо: его слова одинаково раздражали и Мирона и Горицветова. Яков отпустил окладистую татарскую бородку, и вместе с рыжеватой бородою у Якова все заметнее насмешливость; приятно было слышать, когда сын лениво говорил бойким людям:
– Сядете вы в лужу по дороге в господа! Жили бы проще.
Старшему Артамонову и – он видел – Якову было очень смешно, когда Елизавета Попова вдруг уехала в Москву и там обвенчалась с Горицветовым. Мирон обозлился и не мог скрыть этого; покручивая острую, не купеческую бородку, вытягивая из нее нить сухих слов, он говорил явно фальшиво:
– Такие люди, как Степан Горицветов, – люди вымирающего племени. Нигде в мире нет людей настолько бесполезных, как он и подобные ему.
Яков сказал, подзадоривая:
– Однако ж один эдакий ловко стащил из-под твоего носа кусок, облюбованный тобою!
Приподняв плечи, Мирон ответил:
– Я – не романтик.
– Чего? Кто это? – спросил Артамонов-старший, и Мирон отчеканил, точно судья, читающий приговор свой:
– Никто не понимает, что такое романтик, вам этого тоже не понять, дядя. Это – нечто для красоты, как парик на лысую голову, или – для осторожности, как фальшивая борода жулику.
«Ага, прищемил нос», – подумал Артамонов-старший с удовольствием.
Эти маленькие удовольствия несколько примиряли его со множеством обид, которые он испытывал со стороны бойких людей, все более крепко забиравших дело в свои цепкие руки, отодвигая его в сторону, в одиночество. Но и в одиночестве он нашел, надумал нечто горестно приятное, одиночество знакомило его с новым, хотя уже смутно знакомым, – с Петром Артамоновым иного рисунка, иного характера.
Это – хороший человек, и он жестоко обижен; жизнь обращалась с ним несправедливо, как мачеха с пасынком. Он начал жизнь покорным, бессловесным слугою своего отца, который не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену и взвалил на плечи его большое, тяжелое дело. Да, жена любила его, и первый год жизни с нею был не плох, но теперь он знал, что даже распутная шпульница Зинаида умеет любить забавнее, жарче. И уж лучше не вспоминать о ловких, бешеных женщинах ярмарки. Жена всю жизнь боялась, сначала – Алексея, керосиновых ламп, потом электрических; когда они вспыхивали, Наталья отскакивала и крестилась. Она сконфузила его на ярмарке, в магазине граммофонов.
– Ой, не надо, не покупай! – просила она. – Может, в этой штуке проклятый кричит, душа его спрятана!
Теперь она боялась Мирона, доктора Яковлева, дочери своей Татьяны и, дико растолстев, целые дни ела. Из-за нее едва не удавился брат. Дети не уважали ее. Когда она уговаривала Якова жениться, сын советовал ей насмешливо:
– Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь.
Она отвечала покорно и неуверенно:
– Да я как будто уж не хочу.
И снова ела.
Отец сказал Якову:
– Ты что насмехаешься над матерью? Жениться тебе – пора!
– Не время связывать себя семьей, – деловито ответил Яков.
– Да что вы все боитесь времени? – рассердился отец; сын, не ответив, пожал плечами.
Он тоже говорил:
– Вы, папаша, не понимаете.
Он говорил это мягко, но все-таки ведь не может быть, чтоб отец понимал меньше сына. Люди живут не завтрашним днем, а вчерашним, все люди так живут.
Старший сын, любимый, пропал, исчез. Из любви к нему пришлось сделать такое, о чем не хочется вспоминать.
Старшая дочь Елена, широколицая, широкобедрая баба, избалованная богатством и пьяницей мужем, была совершенно чужим человеком; она изредка приезжала навестить родителей, пышно одетая, со множеством колец на пальцах. Позванивая золотыми цепочками, брелоками, глядя сытыми глазами в золотой лорнет, она говорила усталым голосом:
– Как у вас пахнет нехорошо; дом весь протух, сгнил; вы бы новый построили. И кто же теперь живет рядом с фабрикой!
Артамонов случайно слышал, как она говорила матери:
– А папаша все такой же? Как, должно быть, скучно с ним! Мой – пьяница, шалун, а – веселый.
У нее была какая-то особенно раздражавшая страсть к чистоте: садясь на стул, она обмахивала его платочком, от нее так крепко пахло духами, что хотелось чихать; ее бесцеремонная, обидная брезгливость ко всему в доме вызывала у Артамонова желание возместить дочери за все, чем она раздражала его; он при ней ходил по дому и даже по двору в одном нижнем белье, в неподпоясанном халате, в галошах на босую ногу, а за обедом громко чавкал и рыгал, как башкир. Дочь возмущалась:
– Что это, папаша?
Именно этого возмущения он и добивался.
– Извините, барыня! – говорил он. – Я ведь мужик.
И рыгал, чавкал еще более свирепо.
Дочь бывала за границей и вечерами лениво, жирненьким голоском рассказывала матери чепуху: в каком-то городе бабы моют наружные стены домов щетками с мылом, в другом городе зиму и лето такой туман, что целый день горят фонари, а все-таки ничего не видно; в Париже все торгуют готовым платьем и есть башня настолько высокая, что с нее видно города, которые за морем.
С младшей сестрою Елена спорила и даже ругалась. Татьяна росла худенькой, темнокожей и обозленной тем, что она неприглядна. В ней было что-то, напоминавшее дьячка; должно быть, ее коротенькая коса, плоская грудь и синеватый нос. Она жила у сестры, не могла почему-то кончить гимназию, боялась мышей и, соглашаясь с Мироном, что власть царя надо ограничить, недавно начала курить папиросы. Приезжая летом на фабрику, кричала на мать, как на прислугу, с отцом говорила сквозь зубы, целые дни читала книги, вечером уходила в город, к дяде, оттуда ее приводил золотозубый доктор Яковлев. По ночам не спала от девичьей тоски и била туфлей комаров на стенах, как будто стреляя из пистолета.
Все вокруг становилось чуждо, крикливо, вызывающе глупо, все – от дерзких речей Мирона до бессмысленных песенок кочегара Васьки, хромого мужика с вывихнутым бедром и растрепанной, на помело похожей, головою; по праздникам Васька, ухаживая за кухаркой, торчал под окном кухни и, подыгрывая на гармонике, закрыв глаза, орал:
Стала ты теперь несчастна-я,
Моя привычка!
Хочу видеть ежечасно
Твое, морда, личико!
И давно уже Ольга ничего не рассказывала про Илью, а новый Петр Артамонов, обиженный человек, все чаще вспоминал о старшем сыне. Наверное, Илья уже получил достойное возмездие за свою строптивость, об этом говорило изменившееся отношение к нему в доме Алексея. Как-то вечером, придя к брату и раздеваясь в передней, Артамонов-старший слышал, что Мирон, возвратившийся из Москвы, говорит:
– Илья – один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади.
«Врешь», – подумал Артамонов, находя что-то утешительное во враждебном отзыве племянника.
Алексей спросил:
– Он – одной партии с Горицветовым?
– Он – вреднее, – ответил Мирон.
Входя в комнату, Артамонов-старший мысленно пригрозил им:
«Погодите, воротится он – покажет вам кое-что…»
Мирон тотчас начал рассказывать о Москве, сердито жаловаться на бестолковость правительства; приехала Наталья с сыном – Мирон заговорил о необходимости строить бумажную фабрику, он давно уже надоедал этим.
– У нас, дядя, деньги зря лежат, – сказал он, Наталья, покраснев так, что у нее даже уши вспухли, крикливо возразила:
– Где это они лежат, у кого лежат?
Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где все знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. Эта внезапная, телесная скука являлась откуда-то извне, туманом; затыкая уши, ослепляя глаза, она вызывала ощущение усталости и пугала мыслями о болезни, о смерти.
– Надоели вы мне, – сказал он. – Когда я отдохну от вас?
Яков проворчал:
– Довольно возни с тем, что есть…
А Наталья кричала:
– И так развели рабочих до того, что выйти некуда! Пьянство, матерщина…
Артамонов подошел к окну, – в саду стоял Тихон Вялов и, задрав голову, указывал пальцем на яблоню какой-то девчонке.
«Ишь ты, Адам», – подумал Петр Артамонов, стряхнув скуку; такие отдаленные думы не часто, мышами, пробегали мимо него, он всегда рад был их внезапности, он даже любил их за то, что они не тревожили, мелькнет, исчезнет и – только.
Вот тоже Тихон; жестоко обиделся Петр Артамонов, увидав, что брат взял дворника к себе после того, как Тихон пропадал где-то больше года и вдруг снова явился, притащив неприятную весть: брат Никита скрылся из монастыря неизвестно куда. Петр был уверен, что старик знает, где Никита, и не говорит об этом лишь потому, что любит делать неприятное. Из-за этого человека Артамонов-старший крепко поссорился с братом, хотя Алексей и убедительно защищал себя:
– Подумай: человек всю жизнь работал на нас, а мы его выкинули, – ну, хорошо это?
Петр знал, что это нехорошо, но еще хуже для него было присутствие Тихона в доме. Жена тоже, кажется, первый раз за всю жизнь встала на сторону Алексея; с необычной для нее твердостью она говорила:
– Нехорошо, Петр Ильич, хоть бей меня, а – нехорошо!
Они и Ольга уговорили и успокоили его. Но обиженный человек торжествовал:
«Что? Твоя воля – никому не закон… Видишь?»
Обиженный человек становился все виднее, ощутимее Артамонову-старшему. Осторожно внося на холм, под сосну, свое отяжелевшее тело, Петр садился в кресло и, думая об этом человеке, искренне жалел его. Было и сладостно и горько выдумывать несчастного, непонятного, никем не ценимого, но хорошего человека; выдумывался он так же легко, так же из ничего, как в жаркие дни над болотами, в синей пустоте, возникал белый дым облаков.
Глядя на фабрику и на все рожденное ею, человек этот внушал:
«Можно бы жить иначе, без этих затей».
Фабрикант Артамонов возражал ему:
«Тихоновы мысли».
«Поп Глеб то же говорил, и Горицветов, и еще многие. Да, мухами в паутине бьются люди».
«Дешево – не проживешь», – нехотя возражал фабрикант.
Иногда этот немой спор двух людей в одном разгорался особенно жарко, и обиженный человек, становясь беспощадным, почти кричал:
«Помнишь, ты, пьяный, на ярмарке, каялся людям, что принес в жертву сына, как Авраам Исаака, а мальчишку Никонова вместо барана подсунули тебе, помнишь? Верно это, верно! И за это, за правду, ты меня бутылкой ударил. Эх, задавил ты меня, погубил! И меня ты в жертву принес. А – кому жертва, кому? Рогатому богу, о котором Никита говорил? Ему? Эх ты…»
В минуты столь жестоких споров фабрикант Артамонов-старший крепко закрывал глаза, чтоб удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились, он стирал их со щек и бороды ладонями, потом досуха тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие, багровые руки свои. И пил мадеру большими глотками, прямо из горлышка бутылки.
Но, несмотря на эти горестные слезы, выжимаемые им, обиженный человек был приятен и необходим Артамонову-старшему, как банщик, когда тот мягкой и в еру горячей, душисто намыленной мочалкой трет кожу спины в том месте, где самому человеку нельзя почесать, – не достает рука.
…Вдруг где-то далеко, за Сибирью, поднялся крепкий кулак и стал бить Россию.
Алексей подпрыгивал, размахивая газетой, кричал:
– Разбой! Грабеж! – и, поднимая птичью лапу к потолку, свирепо шевелил пальцами, шипел:
– Мы их… мы им…
Золотозубый доктор, сунув руки в карманы, стоял, прислонясь к теплым изразцам печи, и бормотал:
– Возможно, что и они нас.
Этот большой, медно-рыжий человек, конечно, усмехался, он усмехался всегда, о чем бы ни говорилось; он даже о болезнях и смертях рассказывал с той же усмешечкой, с которой говорил о неудачной игре в преферанс; Артамонов-старший смотрел на него, как на иноземца, который улыбается от конфуза оттого, что неспособен понять чужих ему людей; Артамонов не любил его, не верил ему и лечился у городского врача, молчаливого немца Крона.
Озабоченно покручивая бородку, морщась, точно у него болел висок, Мирон журавлем шагал из угла в угол и поучал всех:
– Дело надо было начинать в союзе с англичанами…
– Да – какое дело-то? – допытывался Артамонов – старший, но ни бойкий брат, ни умный племянник не могли толково рассказать ему, из-за чего внезапно вспыхнула эта война. Ему было приятно наблюдать смятение всезнающих, самоуверенных людей, особенно смешным казался брат, он вел себя так непонятно, что можно было думать: эта нежданная война задевала, прежде всех, именнно его, Алексея Артамонова, мешая ему делать что-то очень важное.
По городу пошел крестный ход. Бородатое купечество, важно и благочестиво утаптывая тяжелыми ногами обильно выпавший снег, тесным стадом быков шагало за кряжистым, золотым духовенством; несло иконы, хоругви; соединенный хор всех церквей города громогласно и внушительно пел:
– «Спаси, го-осподи, люди твоя-а…»
Слова молитвы, похожей на требование, вылетали из круглых ртов белым паром, замерзая инеем на бровях и усах басов, оседая в бородах нестройно подпевавшего купечества. Особенно пронзительно, настойчтиво и особенно не в лад хору пел городской голова Воропонов, сын тележника; толстый, краснощекий, с глазами цвета перламутровых пуговиц, он почлучил в наследство от своего отца вместе с имуществом и неукротимую вражду ко всем Артамоновым.
Они, семеро, шли все вместе; впереди прихрамывал Алексей, ведя жену под руку, за ним Яков с матерью и сестрой Татьяной, потом шел Мирон с доктором; сзади всех шагал в мягких сапогах Артамонов-старший.
– Нация, – негромко говорил Мирон.
– Парад сил, – ответил доктор.
Мирон снял очки, стал протирать их платком, а доктор добавил:
– Увидите – вздуют!
– Н-ну, это сырье не скоро загорится…
– Перестань, – сказал Артамонов-старший племяннику, тот искоса взглянул на него и повесил очки на свой длинный нос, предварительно пощупав его пальцами.
– Спас-си, господи, люди твоя! – требовал Воропонов подчеркнуто громко, с присвистом вывизгивая слово «люди», волком оборачивался назад, оглядывая горожан, и зачем-то махал на них бобровой шапкой.
Хорошо, густо пела сорокалетняя, но свежая, круглая, грудастая дочь Помялова, третий раз вдова и первая в городе по скандальной, бесстыдной жизни. Петр Артамонов слышал, как она вполголоса советовала Наталье:
– Ты бы, кума, отправила мужа-то на войну, он у тебя страховидный, от него враги побегут.
И спрашивала Якова:
– Ты что, крестник, не женишься, петух?
Артамонов-старший тряхнул головою, слова, как мухи, мешали ему думать о чем-то важном; он отошел в сторону, стал шагать по тротуару медленнее, пропуская мимо себя поток людей, необыкновенно черный в этот день, на пышном, чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром, точно кипящие самовары.
Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом; снежинки искрятся на ее седых волосах; белые, в инее, ресницы ее дрогнули, когда она кивнула пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел ее:
«Глупая. Впряглась уток пасти».
Прокатилась длинная волна стриженых голов; это ученики двух городских училищ; тяжелой, серой машиной продвинулась полурота солдат, ее вел знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин: он ежедневно купался в Оке, начиная с половодья и кончая заморозками, и, как было известно, жил на деньги Помяловой, находясь с нею в незаконной связи.
Важно, сытым гусем, шел жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, а его больная жена шла под руку с братом своим, Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода; про Житейкина говорили, что хотя он распутничает с монахинями, но прочитал семьсот книг и замечательно умел барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству.
Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей зятем своим и косоглазой дочерью; темной кучей долго двигался мелкий народ: мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнаженные головы, издали доносился неумолимо требующий крик Воропонова:
– Спаси, господи, люди твоя…
«А на что Богу эти люди? Понять – нельзя», – подумал Артамонов. Он не любил горожан и почти не имел в городе связей, кроме деловых знакомств; он знал, что и город не любит его, считая гордым, злым, но очень уважает Алексея за его пристрастие украшать город, за то, что он вымостил главную улицу, украсил площадь посадкой лип, устроил на берегу Оки сад, бульвар. Мирона и даже Якова боятся, считают их свыше меры жадными, находят, что они всё кругом забирают в свои руки.
Осматривая медленный ход задумавшихся людей, Артамонов хмурился, – много незнакомых лиц и слишком много разноцветных глаз смотрят на него с одинаковой неприязнью.
У ворот дома Алексея ему поклонился Тихон. Артамонов спросил:
– Воюем, старик?
Молча, знакомым движением тяжелой руки, Тихон погладил скулу. Первый раз за всю жизнь с ним Артамонов спросил этого человека с доверием к нему:
– Ты что думаешь?
– Пустяковина, – тотчас ответил Вялов, как будто он ждал вопроса.
– У тебя – все пустяки, – неопределенно сказал Артамонов.
– А – как же? Собаки, что ли? Не звери мы.
Артамонов пошел дальше сквозь мелкий, пыльный снег. Снег падал все гуще и уже почти совсем скрыл толпу людей вдали, в белых холмах деревьев и крыш.
Теперь, после смерти Серафима Утешителя, Артамонов-старший ходил развлекаться к вдовой дьяконице Таисье Параклитовой, женщине неопределенных лет, худенькой, похожей на подростка и на черную козу. Она была тихая и всегда во всем соглашалась с ним:
– Так, милый! – говорила она. – Да, да, милый, да!
Пил Артамонов много, но хмелел медленно, и его раздражало, что навязчивые, унылые думы так долго не тают, не тонут в крепких, вкусных водках Таисьи. Первые минуты опьянения были неприятны, хмель делал мысли Петра о себе, о людях еще более едкими, горькими, окрашивал всю жизнь в злые, зелено-болотные краски, придавал им кипучую быстроту; Артамонову казалось, что это кипение вертит, кружит его, а в следующую минуту перебросит через какой-то край. Скрипя зубами, он вслушивался, всматривался в темный бунт внутри себя, потом кричал дьяконице:
– Ну, что молчишь? Говори что знаешь!
Женщина козой прыгала на колени к нему, она была удивительно легкая и теплая; раскрыв пред собою невидимую книгу, она читала:
– Поручика Маврина Помялова отчислила от себя, он опять проиграл в карты триста двадцать; хочет она векселя подать ко взысканию, у нее векселя на него есть. А жандарм потому жену свою держит здесь, что завел в городе любовницу, а не потому, что жена больная…
– Это все – дрянь, – говорил Артамонов.
– Дрянь, милый, и – какая дрянь!
Ее рассказы о дрянненьких былях города путали думы Артамонова, отводили их в сторону, оправдывали и укрепляли его неприязнь к скучным грешникам – горожанам. На место этих дум вставали и двигались по какому-то кругу картины буйных кутежей на ярмарке; метались неистовые люди, жадно выкатив пьяные, но никогда не сытые глаза, жгли деньги и, ничего не жалея, безумствовали всячески в лютом озлоблении плоти, стремясь к большой, ослепительно белой на черном, бесстыдно обнаженной женщине…
Петр Артамонов молча сосал разноцветные водки, жевал скользкие, кисленькие грибы и чувствовал всем своим пьяным телом, что самое милое, жутко могучее и настоящее скрыто в ярмарочной бесстыднице, которая за деньги показывает себя голой и ради которой именитые люди теряют деньги, стыд, здоровье. А для него от всей жизни осталась вот эта черная коза.
– Раздевайся, – рычал он. – Пляши!
– Как же я без музыки-то? – говорит дьяконица, расстегиваясь. – Носкова бы позвать, охотника, он на гармонии хорошо играет…
В этих забавах время шло незаметно, иногда из потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое: зимою пришли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя.
Тихон Вялов ворчал:
– Еще и церкви рассыплют. А – как же? Народ – не железный.
Летом стали говорить, что по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам, – Тихон сказал:
– А – как же? Навыкли воевать.
По городу снова пошли с иконами. Воропонов в рыжем сюртуке нес портрет царя и требовал:
– Спаси, господи, люди твоя-а-а!
В этот раз он кричал еще громче и даже злее, но все-таки в его – а-а! – призыв на помощь звучал тревожно.
Житейкин, с двухствольным ружьем в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шел во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал:
– Ребята! Не дадим жидам Россию! Чья Россия? Наша!
– Наша, – согласно кричали кожевники, тоже не трезвые, и, встречая ткачей, врагов своих, затевали с ними драки, ударили палкой доктора Яковлева, бросили в Оку старика аптекаря; Житейкин долго гонялся по городу за сыном его, дважды разрядил вслед ему ружье, но – не попал, а только поранил дробью спину портного Брускова.
Фабрика перестала работать, молодежь, засучивая рукава рубах, бросилась в город, несмотря на уговоры Мирона и других разумных людей, несмотря на крики и плач баб.
Фабрика опустела, обездушела и точно сморщилась под ветром, который тоже бунтовал, выл и свистел, брызгая ледяным дождем, лепил на трубу липкий снег; потом сдувал его, смывал.
Сидя у окна, Артамонов-старший тупо смотрел, как из города и в город муравьями бегут темненькие фигурки мужчин и женщин; сквозь стекла были слышны крики, и казалось, что людям весело. У ворот визжала гармоника, в толпе рабочих хромой кочегар Васька Кротов пел:
Стало тесно на земле:
Деремся с японами!
Они бьют нас по скуле.
А мы их – иконами!
Ветер приносил из города ворчливый шумок, точно там кипел огромный самовар, наполненный целым озером воды. На двор въехала лошадь Алексея, на козлах экипажа сидел одноглазый фельдшер Морозов; выскочила Ольга, окутанная шалью. Артамонов испугался и, забыв о боли в ногах, вскочил, пошел встречу ей.
– Что случилось?
Встряхиваясь, точно курица, она сказала:
– Окна побили у нас кожевники…
Артамонов, уступая ей дорогу, усмехнулся, проворчал:
– Ну вот… Доболтались! Орали на меня, а – вот оно как! Нет, царь…
И вдруг он услыхал гневный, необычный для Ольги, громкий ответ:
– Отстань! Нечестный человек это, твой царь!
– Много ты понимаешь в царях, – смущенно сказал он, дотрагиваясь до своего уха.
Его изумил гнев маленькой старушки в очках, всегда тихой, никого не осуждавшей, в ее словах было что-то поражающе искреннее, хотя и ненужное, жалкое, как мышиный писк против быка, который наступил на хвост мыши, не видя этого и не желая. Артамонов сел в свое кресло, задумался.
Он давно, несколько недель, не видел Ольгу, избегал встреч с ее сыном, поссорившись с ним. Еще в конце лета, когда Петр Артамонов лежал в постели с отекшими ногами, к нему явился торжественный и потный Воропонов и, шлепая тяжелыми, синими губами, предложил ему подписать телеграмму царю – просьбу о том, чтоб царь никому не уступал своей власти. Артамонова очень удивила дерзкая затея городского головы, но он подписал бумагу, уверенный, что это будет неприятно брату, Мирону, да, наверное, и Воропонов получит хороший выговор из Петербурга: не суйся, дурак толстогубый, не в свое дело, не заносись высоко!
Положив бумагу в карман сюртука, застегнувшись на все пуговицы, Воропонов начал жаловаться на Алексея, Мирона, доктора, на всех людей, которые, подзуживаемы евреями, одни – слепо, другие – своекорыстно, идут против царя; Артамонов-старший слушал его жалобы почти с удовольствием, поддакивал, и только когда синие губы Воропонова начали злобно говорить о Вере Поповой, он строго сказал:
– Вера Николаевна тут ни при чем.
– Как это – ни при чем? Нам известно…
– Ничего тебе не известно.
– Доиграетесь до беды, – пригрозил голова и ушел.
А вечером на Артамонова собаками бросились племянник, дочь, бросились и залаяли, не щадя его старость.
– Что вы делаете, папаша? – кричала Татьяна, и на ее некрасивом лице прыгали сумасшедшие глаза. Яков стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Артамонову казалось, что и сын против него, а Мирон едко спрашивал:
– Вы читали, что там написано в этой бумаге?
– Не читал! – сказал Артамонов. – Не читал, а – знаю: написано, чтоб щенкам воли не давать!
Ему было приятно видеть, как сердятся Мирон и Татьяна, но молчание Якова – смущало, он верил деловитости сына, догадывался, что поступил против его интересов, а вовлечь Якова в этот спор, спросить: как он думает? – не позволяло самолюбие. Он лежал и огрызался, рычал, а Мирон долбил, качая носом:
– Поймите: царь окружен шайкой мошенников, и нужно, чтоб их сменили честные люди…
Артамонов знал, что именно Мирон метит в честные люди и что отец его ездил в Москву хлопотать, чтоб Мирона кто-то там назначил кандидатом в государеву думу. И смешно и опасно представить этого журавля-племянника близко к царю. Вдруг вбежал растрепанный, расстегнутый Алексей и запрыгал, затрещал:
– Что ж ты делаешь, безумный человек?
Он кричал, как на служащего.
– К черту! – взревел Артамонов-старший. – Учить меня? Провалитесь все к черту! Вон!..
Он даже сам был испуган внезапным взрывом своего гнева.
Теперь, сидя в углу, слушая беззлобный рассказ Ольги о бунте в городе, он вспоминал эту ссору и пытался понять: кто же прав, он или эти люди?
Его особенно смутили детски гневные слова Ольги. Вот она уже спокойно, даже умиленно говорит:
– Милые люди ткачи у нас! Как они живо прогнали воропоновских рабочих и кожевников. Остались там, охраняют дом…
А Наталья, очень испуганная, сердито хныкает:
– От вашего дома и пошла смута. Так и надо вам! Всё – от вас.
Явился Мирон и, не здороваясь, расхаживая по комнате пружинной походкой, стал грозить:
– Все эти Воропоновы и Житейкины дорого заплатят за то, что обучают народ бунтовать. Это им даром не пройдет, это отзовется! Вполне достаточно уроков мятежа со стороны друзей Ильи Петровича Артамонова, а если еще и эти начнут…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































