Читать книгу "Триумф юношеской воли, или Моя борьба с ресентиментом"
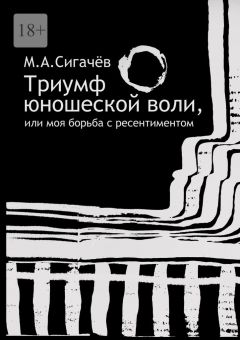
Автор книги: Максим Сигачев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
У Кампена, на мой взгляд, иная проблема – лица уродливые, вызывают отвращение и только. Человеку, расположенному всю жизнь в бетонном городке Кайна, приелась эстетика безобразного. «Вандергусовские» лица мне ближе, хотя какой во всем этом толк, если опираться на них не придется.
Закончить предстоит кое-что более самостоятельное (едва начатое), и обращаться ни к кому из перечисленных я не стану (немного к Брейгелю, может, не более), ведь напротив зрачка – пейзаж, где на переднем плате асфальт и потоптанная трава – на ней вчера лежал мужичек, но еще сутки он решил не валяться, из-за чего придется, конструируя местность, додумывать силуэт. Благо, тело было целиком в черном, фантазии хватит с лишком. На среднем по бокам, словно занавес, архитектор выложил хрущевские панельблоки, немного дальше, на заднем стоит самострой из рифленого металлического листа, его гордо проигнорирую. А за ним – горы, изящные предвещающие степь выступы.
Перенести нужно плоско, практически супрематически, но с реалистичными фигурами, пропорциями. Здесь все просто и скучно: обличаешь мысли в форму, вытаскиваешь названную из небытия, подбираешь аналогии – действия монотонные, заунывные; копируешь одну сверх другой в верной последовательности, в соответствии с фазой творческого эмбриогенеза, скрепляешь светотенью, подобающим цветом, пятном, линией, чем потребно. Руки – мужское начало, лист – феминное, покорное, обездвиженное – от них рождается существо или сущее, пока не определился, а существо или сущее, как известно, является из дерьма, крови, но никак не из фарфора и ребер, Виталик. По выходе в материю сущее будоражит отцовский ум, отзывается приятным покалыванием в груди у создателя, а потом ложится на полку и гниет там, затянуто умирая в мечтах о ждущей жизни и воскресении, втором дыхании. Увы, вряд ли дождется.
Скорректировал ракурс я в прошлый раз, намечал ось, тогда же кадрировал. Сегодня успел куда больше, в конце концов лежалый апоксиомен сурово на меня посмотрел. Так вышло, похож он скорее на армянина, чем на задуманного сперва грека. Клячкой не поработать – печаль. Вот он, мой русский ренессанс, моя красота, моя вечность. Триумф моей Родины!
16
Ближайшие два месяца Вика гостит у родственников в Стерлитамаке. Путешествие выдастся долгое, сложное, ведь, как известно, невозможно покинуть Краснознаменогорск или въехать в него без аварий и казусов. Маленькое происшествие обязано случиться, это как ритуал, без которого не обходится проникновение в отдельный мирок, как таможня на въезде в шенгенскую зону, небольшая трудность вроде Стикс, преодолеть которую поможет за небольшую плату Микола.
В крайний перед отбытием раз мы увиделись, чтобы одарить друг друга сладкими комплиментами. Как потемнело, заняли уютную скамеечку, уселись, и Вика заплакала. Я крепко обнял ее и принялся успокаивать. Как всегда, объятия плавно перетекают в нечто другое, за что мне бывает стыдно. Но она не противится, следовательно, я все делаю правильно. И действительно, ее не будет до середины августа, как устоять? В одиннадцать часов пришлось разойтись. Впереди много времени, я наперед устроил себе мозговой штурм, рассудительно взвесил, систематизировал тревожащие мысли, дабы в будущем иметь четкий подход и не ругаться впредь без конкретики, отсутствие которой влечет стыдливое поражение под давлением слез на ее страдальчески грустном лице.
В момент встреч я чувствую себя превосходно, нахожусь в пике счастья, получаю в масштабах любовь и нежность, но как только расходимся, она начинает творить необъяснимое: флиртует с незнакомцами и знакомыми, едва не переходя грань, но ничего не скрывает и уведомляет меня каждый раз о случившемся, пересылая полученные и отправленные сообщения. И с одной стороны, меня жжет ревность, я прошу так не делать более, но с другой – она демонстрирует каждый свой спорный шаг, не прекращая при том делать все новые. Продолжается это очень давно и не находит себе решения. Снова и снова, с каждым эксцессом я пытаюсь обсудить и предупредить, но встречаю обвинения, слезы, откровения о суицидальных мыслях и фотографии свежих порезов – диалог заходит в тупик. Цикл возобновляется.
Я думал об этом по пути домой, а по приходе отвлекся. Выпил кофе, макая в него бутерброд с маслом и сыром. Уложившись в кровать, осмотрел снова вчерашний труд и представил, как бы эстетично смотрелся флаг, торчащий из неподвижного туловища безымянного субъекта, распластайся он в ином месте и позе, скажем, по центру площади, навзничь, с раскрытым широко ртом и ладонью над головой, напоминающей отделенный от туловища гребешок. Выдался насыщенный день. «Ленин – хорошо». «Ленин – хорошо».
17
Я боюсь Бога. Самозванец Антиной
Боги ревнивы. Если затерянный колосок из целого человеческого посева внезапно выделился талантом, социалистические социо-аграрники старались его подрезать. А лучше, целиком устранить, дабы соки, не нашедшие себе применения на рост вверх, не ушли на питание семян-наследников выдающихся генов. Греческие Боги не отличались ничем. Неизбежно тлеющая номенклатура оставляет кресла потомкам. Бессмертная, к коей принадлежали Аполлон, Арес, Афина, пуще прочих сражается за исключительность права на власть, не желая видеть ровней существ (?) /субъектов (?) другого поля. Но самым ревнивым из всех мне известных был и остается еврейский Бог. Он один сумел выстроить эффективную службу и покорить непокорных, он один обладает абсолютной монополией на право (сильного). Если на удаленную территорию Азии его суверенитет не распространяется, то безотложно положение дел изменится в самом скором времени.
Я параноик, слабак, с детства боюсь неповиновения Богу. Не завладеет ли душой дьявол? Гореть мучительно. Гореть вечно – невообразимо, ибо невыносимо. С ранних лет я мечтаю об уверенности в отсутствии Бога, но никто мне ее так и не предоставил. До тринадцати я прилежно соблюдал заповеди и смертельно боялся нарушить одну. При всем этом, в Бога скорее не верил. Пари Паскаля, я понимал еще в начальной школе. Страсти!
Сами эти вещи, которые пишу, меня очень пугают. Но это честно? Хотя бы. Смерть без жизни после развязала бы руки до; не в вульгарном гедонистическом смысле, нет, скорее, в созидательном, ницшеанском. Как же хочется верить, что Бога нет, как и жизни после смерти. Или, в крайнем случае, знать, что он есть. В неведении тяжело, абсурдно.
Хара́ктерный находится на том же этапе, ему зато присущи фанатизм, романтизация, но будто не осознание. Виталик – человек умный. Он склонен к мысли по природе, вот только социум научил от нее уклоняться. В некоторой мере это рационально. Глубоко в душе в высшие силы он не верит, это точно. Сам, однако, считает иначе – так работает субкультура или авто-субкультура (частный случай).
Восхищает пример Антиноя, ставшего почитаемым языческим богом по одной своей красоте. Пример удивительный. Выделись ты и возвысишься. «Восхищаюсь» – не значит «верю» (пометка для себя). Судя по всему, такая практика была нормой и у римлян, и у германцев, и у греков, следует из размышлений выше. Неспокойно жить в мире, где есть Бог. Боюсь самой этой записи. Богохульство не прощается. Не быть бы наказанным.
И попробую отказаться даже от мимолетный мысли о том, что Бог может быть. Откажусь от Бога. Стану жить, исходя из императива! Так нравственнее и проще. Выражу ужас углем.
«Ленин – хорошо!»
18
Соседей своих знаю всех. Нет, я не веду с ними бесед, не помню их имени, но встречаю на протяжении лет известные выражения в ходе прогулки, в связи с чем вмиг идентифицирую инодворца, аки машина. Также я давно взял за привычку ежедневную пробежку, хотелось бы назвать ее утренней, хотя на практике случается спорт в любое время суток, в полдень или посреди ночи, внезапно.
Сегодня такая выдалась именно что на утро, как и должно быть, в общем-то, в идеале всегда. Возвращаясь с тренировки, уставший я, предвкушая, как вот-вот достигну дома, обнаружил группу чужих, явно заселявшихся в соседний относительно моего подъезд: у большинства превалировали семитские черты, но что куда страннее и важнее, среди незнакомцев не было ни одного в спортивном костюме, футболке с дурацкой надписью, тапках или другой одежде, в «культурном» обществе, подозреваю, стигматизируемой. Более того, многие лица сквозь лоб излучали благородство и ум, что касалось не только взрослых, но и детей. Особенно я подметил рыжего паренька, годами, судя по щетине, тремя-четырьмя старше, с прямыми, как шпала нашей железной дороги, волосами и исключительно приятным уставшим аристократическим взглядом.
Я решил, что это могли быть инженеры, прибывшие устранять неполадки на «Красгорхимпроме», и непременно доложил обо всем лучшему другу. Виталик подтвердил версию, припомнив, что около недели назад мать, работающая бухгалтером при производстве, обронила за ужином фразу, смысл которой сводился к тому, что в город в скором времени на длительный срок приедут московские инженеры. Вероятно, визит ожидается столь долгим, что те взяли в командировку семьи. Стало быть, неполадки на заводе куда существеннее, чем мы привыкли думать. Немудрено, что гостей поселили в одном из лучших районов.
До самого полудня и малость дольше, не переставая, гремели снаружи шкафы, рояли, стучали колеса автомобильных прицепов, шуршал картон и шелестела пузырчатая и однослойная пленка. Они привезли все свое, рассчитывая, должно быть, не встретить в предоставленном жилье мебели, атмосферы, удобоваримых для комфортного проживания. К обеду же шум долею стих, а часами спустя насорившие воспитанно устранили осевший в дорожках и смешавшийся цветом-стилем с раскиданными тут-и-там кусками асфальта сор. Так не принято поступать, по правде, но что с них взять? Наверное, я злословлю, на отдельных проезжих участках покрытие сохранило обозримую целостность, впрочем, едва ли оно не приходится мне ровесником.
В остальном, день прошел, как и повелось, более чем скучно, в той степени пресно, что внешний наблюдатель мог бы обвинить меня в неуважении ко времени, и я не в силах был бы ему противопоставить веское слово в свою защиту. Пошатнулась скука, сглаживаемая помаленьку морфием прокрастинативного видео-потребления совсем к вечеру, стоило молоку иссякнуть на пятой кофейной чашке и вынудить меня двинуться в магазин за двадцать две минуты до закрытия. А если отсчитывать с момента выхода из подъезда, то за девятнадцать, что еще позже. Справедливости ради, за сутки было кое-что сделано, и речь не про очередную ссору с Викой по прежней причине, которая также имела место. По-настоящему важно то, что я, наконец, добил шизо-марксистскую бадью приколиста Лакана. В некоторой степени занимательна демагогия про лица порноактрис и на прочие (пост-) фрейдистские темы. Некая Микита Бротманн, судя по всему, занимательно разобрала вектор его размышлений, но наверняка узнать этого мне без английского не по силам.
Я говорил о другом. Как бы кто ни стонал, повествование затрагивало поход за молоком и непременно коснется вновь. Касания, они по натуре прерывисты, но возобновляемы, что не может не радовать. Кхм, куда это все завернулось. Вернемся: я уже шествовал обратно довольный, держа над собой трофеем бутылку свежего, если верить этикетке, молока, на упаковке коего вырвиглазными бардовыми буквами, объятыми для броскости и дополнительной убедительности в желтую окантовку, покупателю сообщается, двести грамм продукции он получает бесплатно, плюсом, в качестве подарка; иду я, значит, с молочной бадьей, дурачком, думал, так и достигну дома, но встречаю на пути того самого подмеченного ранее рыжеволосого юношу. Летом закаты поздние, он снимал их на пленочный, восьмидесятых годов, как выяснится далее, фото-агрегат.
Я, естественно, не сумел пройти мимо и навязчиво поинтересовался, что это такое интересное свисает у него с шеи. Выяснилось – Смена Символ, шкальный фотоаппарат.
С хозяином техники завязался какой-никакой диалог, пусть тот и не производил впечатление общительного. Напротив, он мне показался закрытым, своеобразным, двояко приятным, как личность, и не очень – в общении. Но обстоятельства ограниченной враждебной среды и ближайшего соседства на срок этак в полгода, вынудил его поддержать беседу и даже назваться – Ильей Перетцем. Не обошлось без дружелюбных с моей и сухих довольно с его стороны рукопожатий.
Знаю, я зарекался не использовать диалоги в силу их вокабулярной скудности (надменно звучит) и, не станем скрывать, откровенного уродства ибо, переписывая на лист, я извращаю невольно сказанное, адаптируя фразы к литературному образцу, исключая по возможности обсценную лексику, как следствие, речь теряет в жизни, приукрашается, сам перестаю в нее верить. Но у этого человека выражения в своем живом, неизмененном виде изящнее изрядного количества мной и другими написанного, так что, если общение будет продолжено, я обязательно включу в дневник диалоги, которые пусть и будут звучать вычурно, выглядели ровно так первоначально. Это его непринужденный лад, который я имею полное право выразить на листе, не испытывая вины за нарочные искажения. Мне выпал большой шанс. Использую его позже, возвращаться к прямой речи по-прежнему страшно.
Мы поболтали о фотографиях, к сожалению, проявить их до возвращения в Москву не получится. Илье, вопреки моим ожиданиям, только исполнилось шестнадцать, и он проучится первый триместр в нашей школе. Он спросил про среду, я вкратце ответил. Там, в сущности, ничего интересного, больше удовольствия мне принесли истории про Стингеров. Они вызвали шквал искреннего возмущения: «Да как это так!», «Безумие!», «И с покровительства мэрии? Как так могло случиться? Неужели мэр с азиатскими корнями – сторонник национал– (цензура)?».
Жителю метрополии трудно поверить, что такие мелочи никого не волнуют. У людей по большей части взгляды отсутствуют, они варварски комбинируют имперские флаги, кресты и плакат со Сталиным, не видя противоречий. Не редкость, когда у такого гражданина с футболки кричит коловрат. Всем побоку, кроме крохотных группировок политизированных в край радикальных подростков. У него не выходило никак мне поверить.
Следом гость услышал о смене школьного руководства. Я в шутку пообещал познакомить с главой коммуны отцов!
19
Иду к Перетцу в гости. Под окнами у него, на скамейке у лужеозера, в наслаждении с отражения, сидят оголенные, гальюн наводящие, всем тут известные сибариты-пропойцы. Поют опереточно и, эстетствуя, дают кругом абсурдный стакан с гранями, аж можно споткнуться (граненный). Парвеню, нувориш, блюет один на аллею.
Я, наблюдая, поймал себя на двух мыслях. Во-первых, будь это Вики стакан, абсурдный, колючий, пей она из него перед мной, я бы хотел стать стаканом ее. А во-вторых, осознанно или нет, я, гуляя по улицам, верчу задом, лицо делаю агрессивное и уверенное, либо субтильно наивное, чтобы люди в спортивных штанах и старых туфлях смотрели, как если б я был моделью на подиуме. И ведь смотрят, то на меня, то на выцветши-розовые стенки балконов на доме, где посередине один, как по случайности, краской насыщен.
Проходя пройдох, поздоровался: «Слава России, мужики!». Те вежливо в след мне: «И ее потомкам, Толик!» – официально-то как.
У Ильи дома открыта дверь. В уши влетел Шопен. Голос ему подпевал против замысла автора: «Извинишься за Бабий Яр? Извини-и-и-шься?»
– Здравствуй, Перетц! Держать открытой ее опрометчиво.
– Здравствуй, я буду знать. Дом наполнил рояль, я забылся. В пальцы – сила, с мозга – вон.
– Почему под Шопена поешь? Он такой нежный, а тут грубость.
– На более изощренное не хватает сил и желания. У нас есть небольшой стол, нам сойдет. Вот. Эм, тебе налить чай, кофе? Могу плеснуть вина. Отец в избытке привез.
– Я не пью, спасибо.
– Оно кошерное – Илья сделал особый акцент на втором слове и довольный своим остроумием, вызвавшим тотчас неподдельный интерес, в моих глазах, смотрящих ему на переносицу, улыбнулся.
– Ты уже видишь, что я заинтригован, верно? От такого не в силах отказаться. Это лишение кошерной девственности, полагаю. Может, у тебя и хала есть? – я думал, что пошутил.
– Конечно. Испек буквально час назад. Хочешь?
– Было бы мило.
– Сейчас порежу. Мне откупорить бутылку? Спрашиваю на случай, если для тебя процесс в удовольствие. Как правило, гости стремятся к пробке с рвением. Я научен скромным опытом – он снова заулыбался, но в этом раз не так широко. Мне кажется, Илья обычно скуп на позитивные эмоции. Сегодня выходит немного иначе.
– Лучше доверюсь тебе.
– Славно. Составлю компанию в трапезе.
– Так почему Бабий Яр?
– Экспериментирую с неприятным для слуха примером неразрешенного диссонанса, причиной которому служит внутри диссонанс, в человеке. Крученых сказал, это работает так.
– Абсурд? – уточняю в близких себе категориях.
– Он.
Я обещал принести свои рисунки, чтоб Перетц сфотографировал. В движение достал их из тубуса.
– Дай взглянуть. Сходишь пока в мою комнату за аппаратом? Выход из кухни и сразу налево.
Я встал с дряхлого стула, оставленного, уверен, арендодателем. Мебель, явно принадлежащая съемщикам, отличается красотой, человек, ее приобретший, обладает восхитительным классическим вкусом. По пути старался мельком осмотреть убранство: в шкафу, защищая взор от сервиза, стоял за стеклом шестиконечной подсвечник, очаровательного вида, как и все, привезенное ими; форма идеально вписалась бы в натюрморт с черной бутылкой и свежеиспеченной халой. На стене в коридоре скосилась икона. Думаю, ее задели коробкой грузчики при переносе вещей в квартиру.
– Илья, а зачем тебе портрет Геббельса над кроватью? – смальца кричу. Стены тонкие, у меня дома также. Не хотелось бы, чтоб соседи услышали знакомую фамилию.
– Приходи сюда, объясню. Нашел?
Я вернулся с камерой. Что если он антисемит, потому сведущ в еврейском быте, хе-хе.
– Это Аба Ковнер в молодости. Сходство есть, род (занятий) разный. Личность выдающаяся, поэт, а прежде успел побывать в вильнюсском гетто, участвовал в партизанском движении, боролся за свой народ. После войны не успокоился, травил эссесовцев, воевал за независимость Израиля, а на старости лет занялся литературой. Не назвал бы его примером для подражания, однако жизнь Ковнер прожил не зря, наполнял дни многих поколений, и мои, смыслом, красотой, вечностью. Толь, мог заметить под изображением флаг. Скажем так, неофициальный символ идешеговорящих евреев. Сомневаюсь, что у него есть формальный статус, лично для меня менора и две черные полоски на белом фоне ассоциируются с традицией, языком, связью с Европой, с неприятием тотальной культуры.
– Менора – это тот подсвечник? – я указал пальцем на.
– Ага. Как пахнет вино?
– Отрадно. Вкус приятный.
– Оно, что занимательно, российского производства.
Я посчитал, он антисионист, чем оскорбил чуть-чуть. В ответ – тирада и пояснение.
– Не радикальный. В движении есть отвратительные фанатики, террористы, откровенная сволочь. Мне всего-навсего не импонирует, что Израиль размывает локальные идентичности, мягко борется с ними, а взамен нативно навязывает разному по происхождению населению искусственно созданную единую. Подобные процессы принято называть гражданским национализмом. Считаю, они наподобие фашизма. Нет, это и есть фашизм: «Все для государства, ничего против государства, никого вне государства», and so on, and so on, бла-бла-бла.
– Маяковский?
– Почти. Муссолини – шутка его удалась – И народ для государства, и дети для него же, и предки. Какие процессы происходили тысячелетиями, никого не интересует. Подавай гомогенность, сиюминутный уют.
Тогда я спросил о корреляции сионизма-антисионизма с дихотомией лево-право. Ответа не получил. Мол, это инсинуация. Зато под стать:
– Левые склонны осуждать еврейское государство за «колониализм», агрессивную внешнюю и внутреннюю политику, правые привычно все это поддерживают. Меня, по правде, палестинцы не слишком интересуют, больше радею за тот же идиш, хотя я левый, умеренный.
– А именно?
– Неавторитарный… – Перетц сделал короткую паузу – не скажу, что марксист. К франкфуртской школе отношусь однозначно.
Стали раскладывать работы. Процесс сам по себе сложен, Илья старался блюсти неведомые мне принципы эстетики, наклоняя одни листы и подкладывая под них другие, где-то он вымазал края мокрым чайным пакетиком, на один из натюрмортов поставил физический бокал в пустующий угол – отбрасываемая им тень смогла даже гармонично вписаться отмеченные мной ранее, отброшенные аппетитными сгнившими в действительности неведомо когда яблоками, изуродованными временем тыквами, убранными и помытыми мамой стаканами. Его видение удивительно, оно восхищает мой мозг. Вышло что-то невообразимо красивое, Илья сделал два одинаковых кадра. Один пообещал отдать мне, второй оставил себе на повешение на флаг рядом с лицом поэта-партизана.
– Отец говорил что-нибудь о производстве?
– Nebenbei. Не могу быть уверен, там, кажется, ситуация запущенная, на грани катастрофы.
– Может закрыться?
– Разумеется, может. Но я про вероятность спонтанного выброса химикатов. Не хочу рассуждать на темы, в которых слаб. Переспрошу, если имеет смысл. А так, на глазок, на грани катастрофы.
Нас заметно расслабило, разговор стих, глаза укатили у кого куда, я взялся за телефон; там мерзко – следовало бы расстаться с ней, еще Виталик со своим «Бей хрен, внатуре». Поведение подобного рода недопустимо, но как совладать с чувством, с надеждой, с похотью? Будет грустно и одиноко, усугубится тем, что Вика непременно найдет нового.
– …, вижу в цивилизационном подходе ультра-правое развитие формационного, оба претят мне.
– Спасибо за вечер. Сладких снов!
Дома хорошо, но тревожно. Возникло желание повесить над кроватью Сталина, это пост-иронично. Или Ленина: на голой поверхности приятно рисовать ирокез, руны, ухо открыто – место для неоднократного пирсинга. За место старой копии с Климта, она не соответствует сегодня ни моему вкусу, ни стилю, ни умению – лети в окно. И старому металлическому светильнику путь туда. Не экология бы – лети оно в окно так же. Завтра, обещаю, не забуду и вынесу. «Ленин – хорошо».
20
– Отчего у тебя, крещенного, так стучат пальцы?
– Они стучали с момента нашего знакомства. Лечиться не планирую, тремор еще подарит вторую категорию годности в военкомате.
– Ты готов? Мы должны забрать Илью и успеть на совещание. Не желаю его подвести.
– Стоять! Маска только наложена. Дай 15 минут. О чем ты? Знакомство учеников с новым директором в субботу посреди июля не может оказаться серьезным мероприятием. Я, хоть убей, не вижу смысла собирать для такого учащихся.
Через время Виталий, одевшись в отцовский костюм, нацепив женское ожерелье, навесив серьгу с полшеи, а на ноги надев псевдоклассические туфли, инкрустированные самолично фальш-золотыми фасциями (он слепил их из художественного пластилинина, высушил и придал цвет под драгоценный металл) – над обувь держались зеленые носки с рисунком в виде купательных резиновых уточек, – заявил о готовности выйти в свет. Эксцентрик! Надо ли говорить, что немало времени потрачено на косметическое уменьшение носа и «незаметную» подводку контура челюсти?
Вышли. Солнечные лучи благостно отражались в наножных карликовых топориках, которые почему-то с каждым шагом позвякивали, что материалу не свойственно совершенно – магия встречается всюду и всегда. Противоречивое бесящее удовольствие мне приносило то, как друг избегал луж. Трудно перепрыгивать водные налити, когда ими облицован путь целиком, как раскрашен больным, но самым старательным стрит-артером. Дошагать до дома Перетца удалось.
Вышел.
– Где же вы теперь, друзья однополчане…. – напевал Илья, не силясь попадать в такт, зато позволив нам узнать о своем приближении. – Премилое утро! Виталий? – Илья, очень приятно. Ахенбах? Славно! Перетц. Толь, а ты до сих пор не раскрыл свой Familienname.
– Шварцвальд.
Илья знает немецкий лучше нас обоих, и всех, кажется, кто тут живет. Скажем, на B2. Он периодами вводит германские слова, реже, фразы в речь, то ли по привычке, то ли подкалывая меня и остальных. Сперва обстоятельство озаботило Виталика, разочаровало и слегка ошарашило, но и у него был для нас сюрприз.
– Пацаны, я не с пустыми руками. Толь, чего, думаешь, я столько копался? Ха-ха, готовил убойный коктейль!!! Улетите, братья! Не приходить же в школу трезвым, это как наблудить или оскорбить ближнего.
Мы не знали, как реагировать. И тут перлы выдал Илья.
– Очень мило, но есть проблема. Законы кидуша запрещают бриться, но мне не хотелось бы впервые посещать школу заросшим. Толь, извини, не поможешь мне? Уйдет не более десяти минут. Поднимемся и сразу вернемся. Виталий успеет провести первую почетную дегустацию.
– Я был готов к чему-то такому, когда ты предупредил, что придется войти.
– Ага. Побудешь моим утренним шабес-гоем.
Но прежде чем покинуть начавшего пить товарища, мы минутку постояли, Илья достал вытащил в квадратном письме портсигар, достал эстетичную коричневую сигарету (она сочеталась с его костюмом) и любезно предложил вторую Виталику. Тот не мог отказаться (к его образу она подходила не меньше). И мы пошли.
Внутри мне была выдана острая бритва. Можно ли ожидать другого от человека, использующего портсигар и зачесывающего рыжие волосы назад-вбок под джентельмена 30-ых годов?
– Prima. Пользовался лезвием?
– Давно дед учил. Что написано на сигар-шахтеле?
– «Разочарование. Комедия. Тело.» – на лицевой стороне, «Болезненность. Синдром. Победа.» – на обороте; идиш. Твой друг правый?
– Экономически – да. Если ты про символику, это чистый эпатаж и хулиганство. С моей точки зрения, фашизм – доктрина левая.
– Она представляется мне глубокой архаикой. Слушай, а у тебя легкая рука. Напрасно считаешь себя неуклюжим.
– Благодарю. Приятно видеть, что ты улыбаешься хотя бы зеркалу.
– Даже это редкость. Так, осталось смыть пену. С этим я справлюсь сам. Правда, спасибо тебе.
На выходе встречал Виталик, стоял спокойно и попивал зелье, а завидев нас, стал подтанцовывать, подражая Рудольфу Нуриеву, насколько может пятнадцатилетний уральский художник, скульптор и деятель ему одному известного перфоманса, в жизни не пробовавший заниматься балетом. Фальш-золотые бляшки, крылья пиджака, серьга, отросшие волосы подскакивали вслед за пятками, в таком контексте Виталик напоминал не балетмейстера мирового признания, но конголезского денди, кичащегося пред соотечественниками новокупленной побрякушкой, с той только разницей, что у Хара́ктерного (отсюда-то кличка отчасти) безусловно отменный вкус, в материальном выражении которого, правда, нельзя не отметить экстравагантность, свойственную молодым модникам.
– Вышли! Вышли! Побрились? Я вас ждал. Илья, я сначала намешал белого русского, а потом спохватился и специально для тебя взял кровавую мери.
– Очень мило. Не откажусь.
– Вы планируете прийти в школу бухими? Ладно, он. Но ты…
– Я пьянею медленно. Не забывай, всегда можно списать внешний вид на беспричинное недомогание. Среда, если судить по лицам мной встреченных здесь вокруг, будет едва ли благонравной, волнение в подобных условиях ни к чему. В московской-то школе приходится держаться в углу одиночкой, тут, гляди, побьют за манерный взмах рукой.
– Не побьют. Краснознаменогорск может казаться сколь угодно провинциальным, враждебным, уродливым, но населению присуща необыкновенная для русской глубинки черта – полная, всеобъемлющая, радикально-агрессивная толерантность. Заслуга ли, нет, но привнесена данная неподражаемая черта популяционного характера стингерами, я говорил про них. Обстановка такова, что за гомофобную реплику, произнесенную вслух в публичном поле, бабушки неодобрительно на тебя посмотрят, если не сказать больше, выдавят глаза тростями, а девочка уйдет со свидания, не посчитавшись с твоими достоинствами, так привлекавшими ее до этой роковой секунды. Быть нетерпимым стыдно, как испражняться посерединке пешеходного перехода. Исключение составляет расизм. Он, как феномен, в моде, хотя принимает экзотические формы: казахи вскидывают руки в упоенном прославлении белой расы, н- (цензура) маршируют с изображением Сталина, единственный в городе армянин нашил на куртку свастику и гордится ею, пользуется уважением в националистической среде. Ты мог не знать, наибольшей поддержкой наш мэр, внимание на имя, Чингиз Ауфройман, пользуется в кругу условно белых супремасистов. И стингеры перед выборами фанатически активизируются, принимая участие в избирательной кампании с отчаянным рвением.
– Как это объяснить?
– Никто не знает. Традиция – так повелось.
– Гегелевский расизм. Однажды обязано произойти снятие. К слову, как к происходящему относятся правоохранительные органы?
– Им по́барабану. – вмешался Хара́ктерный, привычно полупроглотив слог в слове.
– Их нет. – уточнил я. – Что происходит – приезжает патруль из Кургана, но на практике народ справляется имеющимися силами: обращается к скинам, антифа, махновщикам или устраивает суд Линча, что проще – в зависимости от обстоятельств. Мы зовем его ласково «троечка» в неформальной беседе – мем от старшего поколения. Никого не убивают, нет. Край – побьют и увезут в полицейский участок, в населенный пункт, где он есть. Не общество, а спектакль.
– Ницше пил мочу. – Виталик вклинился, среагировав на дурацкую шутку. Его хохма избитая, оттого несмешная, даже хуже моей, однако, простительная, так как про Ницше он более не знает ничего, а свет, пусть тусклый, все же лучше тьмы.
Он вообще псих. – исправил ситуацию Перетц, пытаясь поддержать беседу с Хара́ктерным, с кем было неловко, как и с каждым живым. Зачал тему – в вашем городке есть достопримечательности? Не считая людей, блистательных личностей, их, вижу, навалом, хоть топором половину руби, не изживутся ввек.
– В распоряжении рестарация, «Римский лупанарий» и «Монумент толерантности», Толя зовет оный «Фурой Эдмунда Гуссерля», или «Анти-Хайдеггер».
– Римский лупанарий? Смею предположить, ресторан?
– Сказал же, ресторан у нас один. Ты узнаешь его по красному знамени на крыше с торца. А то обыденная проститутошная. Как и всюду. Похвастаюсь, я выполняю для них бюст Софокла. Внатуре, диким хрено́м сдался он им.
– В таком случае были б уместней краснофигурная вазопись – цвет страсти, в исключении – чернофигурная сгодится, wnatürlich – подмазался Илья к региолекту, исковеркав на германский манер.
– Был бы я гончар. – Аахенбах стал откровенно встраиваться в чуждый штиль – Заказчик просил Антиноя, но я убедил, что это банально, голова его у каждого приличного художника на шкафу под потолком загорает, широко раскрыв идеально шаровые очи. – акцентируя на краю фразы, Виталик выпучил глаза, вставив в каждый по пальцу. – Он мне тогда сказал: «Сократа свояешь, мастер?». Отказываться бессмысленно, за труд платят. Откуда в голове владельца проститутошной возникла идея Сократа, сказать возможным не представляется, внатуре. Но мне зачем выпендриваться? Попросили написать героя труда, с золотыми руками рабочего, ты руки не золоти – упекут в шиздом или не заплатят, что то же скверно.









































