Читать книгу "Триумф юношеской воли, или Моя борьба с ресентиментом"
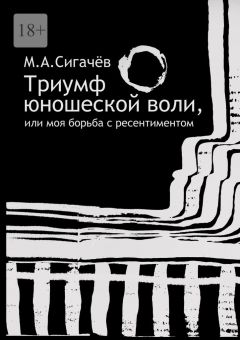
Автор книги: Максим Сигачев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
II
27
Время потеряло то веселое линейное по структуре наполнение, которое возымело со встречей московской колониальной инженерии. Помню, как в предпоследний перед их отбытием день я забежал к Илье на шаббат. Он воротил мысли о «слякоти стиля Кекушева», «Салоне отверженных» (где он?), реорганизации поселений цвета Кало, угловато-вытянутом кубофутуризме, капленогом Chippendale и многом другом, по чему рефлексия приносит глубинное наслаждение. Местные никогда не дарили мне того нежного, местами сопряженного с недоверием и дискуссией удовольствия. Я выглянул в щель меж окнами.
Далече догнивали изумрудные города гаражей. Там срам не прикрыт листом фиги – в непотребе приятней прощаться. В миг до выхода Перетц продемонстрировал коробочку со спичечными коробками. Признался, что коллекционирует их. А еще на прощение любит, шутя, брать с милых людей записку о продаже или дарении души и класть бумажки в «щепки», купленные на месте. Попросил мою.
В дворах сидели наши мужики-музыканты. Они молча-печально пили, полагаю, паршивый портвейн, поздоровались. Пожелали Илье приятной поездки, а мне – новую бабу, чистые сердцем. Панелька сменялась избой, а дрова – коробкой, изнасилована наша страна. За шагом – она, охраняемая мягким адьютантом крепость, куда не вхожи суетные шумы. Не вошла и бомжиха, бесстыдно лежит у калитки, никем не любимая и не гонимая. Она без устали ждала коммунизма, но как прохудилась клизма, ждать пришлось лежа, а не стоя у родного общественного станка (предположение). На имя «Авдотья» она кряхтит – отзывается то есть. Посмешище и мучительный позор, оплечь укусы, синяки. Она сама синяк, как есть. Ничего: не повалять и не поесть. Влажная, под рукодельным лавром из шин под дождем полуспит, не мешкаясь. Восхвалит поэт: «l’aureo crine спины», «l’aora soave кашля», в допущение – «ricca flora», – это так, среди прочего.
Сторожевой пустил за сигарету, у Ильи их много. Движение дальше: не для избавления от сантиментов. Шаг предполагает быть неторопливым. Велик риск наступить в зеленый пакет. Дыхание сдержанное. Причиной тому утомление и резиновый дым, утвердившийся в воздухе. Ахенбах рассказывал, что, взобравшись на одну из ветхих крытых крыш, найдешь над городом горы, бесцельно спрятанные от взглядов единственным на территории деревом, старомодно побеленным, с циклопической кроной (и кто оставил его?). Позволили себе шалость – бесснежные вершины преклонились пред заводским смоком, навсегда и надежно прогнавшим облака с этих мест, естественных для них, ими обжитых. Перетц все волновался за ангелов: «Как им спускаться на землю в нужный момент, когда небо не соединено с твердью водно-каменными мостами?» Подо мной поскользнулась ориентированно-стружечная плита, без треска свалилась. Стало быть, нужно вниз.
А на другой день я видел Лилю! Она была рада-рада встретить меня, засияла зубами. Ну как такое не целовать? Мы в баловстве писали оды инструментам: бетономешалке, электрокирке, снегоуборочной технике – пролетарские матгимны. Хохотали со слова «чванство» – забавное такое, поистине. Поставили импровизированный кукольный театр, первый спектакль – «Политбюракт». Эта улыбка! Не могу оторваться.
Commedia dell’arte: рабочие куклы в развеселых радужных масках исполнили оду хлебодарующим трудорудиям, пока комендант дирижировал с долей таланта, а гости от горкома и глава горисполкома натужно хлопали им: «Молодцы! – люди труда. Люди мира и чести». Я снова поцеловал ее. Стыдно плакать. Яркая и талантливая, танцующая звезда, линяет от меня. И кому мне теперь радоваться? Выпали куклы из рук, завтра скроется с глаз в Москве Россия Эйзенштейна и Рубинштейна, нас оставив с маком, борщевиком, тернью. Сказка! – в егозе любви нет.
Разверзлась портьера, в белой салфетке выскочил главный герой – статуэтка, из зубочисток и пластилина у него ирокез: «Революционная погода, смерчи анархии рождали м (i) р!» Механика-танцора, с свете неоном под гул прокурора заковали в тиски. Зрители ноют: «Взяли мальчонку и под ручонки тащат в Сибирь!» Представление кончилось – на сцену пала тряпка-вуаль. Лиля оставила о себе билетик за поездпроезд на память.
Следующим днем дома не тек ток. Пришлось не помыться и, скрипнув за собою замочным затвором, уйти. Перетц курил штуку за штукой на детской площадке со мной, ожидая прибытия грузовых мебельных фур. Некуда спешить, женщины не собрались, капуша-Лилит в окно кричит: «Вот-вот». Рядом с нами на горке родители играли с детьми. Они не противились дыму, Илья покупал дорогой табак, от него пахло приятно. Даже вредные бабушки на соседней лавочке не бранились.
Перешагнув пропасть, собрались. Провел до вокзала, схлопнулись двери – забрало.
28
Глубокий октябрь, дурно эмоционально. В Ильи и Лили отъезд я улыбался, ощущая печаль размыто, на фоне. Как затараторил автобус, я неторопливо побрел домой, и в прогулке тон рос в контрастности. Спустя какие-то полчаса или около этого мрачное осознание предстоящего одиночества, в простонародии – безбабья, но глубинно особенного, вздулось. Томление не было безнадежно, но резонировало в свете вдруг кончившегося грустного довольства от прощания. Я решил тут же начать прогрызать плоды, оставленные превосходящим умом Перетцем. С тех пор много читал, обольщаясь задумкой догнать его, и, по возможности, уходил от себя на улицу, где в быстром шаге сжигал по трети суток, без успеха борясь с назойливым состоянием, преследующим меня так давно, что я стал наблюдать в нем нотки романтики, осознавая, притом, тугую его невыносимость. Весь август я себя убеждал, что не вернусь к Вике, она не нужна мне, но смутно хотел, впрочем, ошибочно полагая, что не обманываю себя целиком.
Так продолжалось до сентября, да и тогда не много-то изменилось: прогулки стали короче, затрачиваемые на них часы занялись прозябанием в школе. Могло бы стать проще, если бы не она, сидящая спереди (наш класс с параллелью объединили!) в чем-то вульгарно обтягивающем гигантскую грудь, тут же вернувшаяся к предыдущему молодой человеку, картофелелицему, развратному, низкому. Усилий стоит делать вид несмущенного, насильно отводя глаза с их ласк на учителя.
Виталик, как мог, помогал и на переменах утаскивал в столовую или на лестницу, по ощущениям ведущую из левого конца коридора первого этажа в правый второго и третьего. И ходили туда-сюда, и болтали пока он курил в обосанном будуаре. Да, именно там, потому как в мужском клозете с постоянством и присущей шпиону внезапностью появляется Вика с парнем-гидроцефалом, пади не догадайся, чем они занимаются, аж по классу слухи пошагали.
И сколь свободнее должно быть снаружи, но не становится. Тетки гуляют по пассажу на верхней галерее. Им хорошо. А мне нет. Сердце болит, вернее, не оно – невралгия. Так сказала одноклассница, мечущая в медсестры. И нелепые попытки спрятаться в закромах аналитики Данто об эстетике не выручают никак. Берешь книгу, и больнее давит регидная печаль, требующая действий. Но как же трудно переступить через самолюбие и признаться теперь, когда отверг ее еще летом! Какой же ошибкой было бросать ее до воссоединения с Лилей, а не ждать, пока приедет в Москву, и только тогда кончать с этими отношениями, уверенно и целиком войдя в новые. Не мог я так сделать, честный и трепетный. Все из лучших сентенций…
И грязный школьный муниципальный экстерьер в унисон с моим состоянием. Я хочу к Маннам, Блоку, Петрарке, Кундере – к ойкумене. Никак не сюда. Меня пожирает Урал. Зачем Россия Блока покинула нас? Твой дивный эйдос, ушедший от материи прочь?
Наутек бегу от мыслей, читать невозможно, смотрю круглый день бред, разлагаюсь. Оно должно же пройти? однажды обязательно кончится, но сколько в этом однажды? три месяца? год? три? Хочу быть легким, как в восьмом классе, меньше года назад, как славно время играло от детской неосознанности.
Спичкой гореть – сжечь мир или стлеть. Бросил писать, зря, иначе не понять изменений. Пребываю в скотском уме, ощущаю его возвышенность, что, впрочем, наглядное проявление ресентимента. Фу! Какие мысли бессвязные. Где вкус? Стиль? – скучная юношеская баллада: пошлая и посредственная. Похожа становится на дневник Толстого, известнейшего русского аморала.
Хорошая литература – как Каббала. Перечитываешь и изучаешь годами, находя каждый раз новый шифр, а вопросов все больше, и загадки множатся. У меня записи – не литература, но к ней подготовка. Однако не Каллисфен – есть ли смысл стараться? Такая важная дурно пахнущая интроспекция. Для нее запись была задумана, я забываю, как меняюсь. Жаль, пострадала планка, больше ее не выдерживаю. Сизиф что-то знал о несправедливости. Не стать бы ни им, ни камнем. Сегодня грех жаловаться, правда. Шофтим.
И кто-то из прошлого говорил, что творчество свойственно молодым, которые с возрастом катятся в быт. Страшное слово.
И Хара́ктерный, истерший в первоздан гитару, пальцы и кисточку, выделил промеж занятий минутку, чтобы слепить мой маленький бюстик. Как же похож на бюст Антиноя! Видно, к чему апеллировал, чем вдохновлялся. Рука Висконти.
«Ленин – хорошо!»
29
Январь плюется. Перманентная меланхолия уже кажется чем-то безвыходным. Не назову депрессией, пока нет диагноза, а его я получить не решусь.
Вика как-то мне написала, в ноябре. Мы общались друзьями, я и без мысли задней. Она жаловалась на нынешнего: бьет, пинает, приковывает. Показывала в фото исцарапанную, с нечастыми сгусточками на засохших ранах спину. Ее было жалко, и я пытался помочь. А она – в радикальный отказ. Говорит: «Бьет, но люблю».
А одним днем я приболел и не пошел в школу, где меня ждал измазавшийся блесками Очень Хара́ктерный. Мы, как часто бывает, списались с ней, и на новость о моем пребывании дома Куся отреагировала возникновением во дверях.
Я пустил ее в комнату, сел на кровать и стал выслушивать. Она рядом упала, и:
Почему мы не общались? Он, выяснилось, маньяк, извращенец, садист-мазохист, следит за ней пристально спутником. Столько нежностей мне сказала. И вообще, глаза клялись в любви. Они давали санкцию на ласку, а она не давала. А потом сжаливалась. И так, шаг за шагом, на макушке далекого, постороннего вырастало все больше веток. И в один момент она предложила, когда платье скрывало щели паркета, а не ее наготу: «А давай я тебе…» А я: «И давай». Отошел за чистоплотностью в ванну, а она тут, полторы минуты прочь (я засек): «Нет, у меня парень».
Но с каким обожанием она глядела на меня, как тепло обнимала, как крепко прижимала превосходно пышную, в две головы, грудь перед уходом, в момент формального окончания учебного дня, когда была вынуждена идти в гнездо к тирану, считавшему, что она прогуливает школу у брата в гостях, а иначе попросту не пустившему бы появиться на улице без него.
Вика – многоумелый харизмат: привлекает каждого, кто встретится на пути. Как изящно-манерно держит левой рукой хвост, перекинутый через плечо вперед, на грудь, и правой пишет, как умела в экспромте там же, на месте, перед учителем с классом и всеми, кто только сядет напротив! Иногда кажется, она всесильна. И сила ее в пленительно выделяющейся внешности и в утроенном социопатической натурой (но понимаю я это только сейчас) женском шарме. Кроме того, в следствие психических свойств, она великий манипулятивный двурушник, Лилит и менада (без камней в мою Лилит, речь о первой, в додумках Перца, жене Адама).
Вика мастерски игралась со мной, манила и отталкивала, клянчила жалость, сетуя на издевательства надзирателя по согласию, ругая его с усилием, достойным Гернета, бросаясь громовыми, слезливыми признаниями в наивысших сильнейших чувствах, но потом – отдаляясь, игнорируя, сторонясь, ставя себе в оправдание невозможность взять телефон прикованной к батарее рукой, недопустимость ответа в условиях, контроль. Потому на каждое сообщение я реагировал тут же, отбрасывал вбок дела – пользовался каждым шансом обменяться с ней словом. И даже если рядом идет Ахенбах и страшно ворчит, я извини-извини-извиняюсь, забываю про все и улыбаюсь в экран, за которым лежит, сидит или стоит она.
Я, накушавшись намеков на возвращение, звал и снова звал ее обратно к себе, зажженный набором эмоций, чье наличие было неудобно к признанию. Я ждал, любил и бежал по Люксембурскому парку, что содержит дворец Пионеров и сад при нем, превозмогая отдышку, боль в икрах, слабость, все ради нее, чтобы она увидела меня, красивого, обновленного и ушла от безумия, наладив естественную экосистему моему внутреннего мир (к) а.
«Ленин – хорошо!»
30
У проститутушной раскинулся сор, на заднем дворе. А во главе, на вершине горы помоев в кулек с пакостью целлофановой пленкой свернут тигренок. С ним мог бы играть ребенок, а теперь он, тигреныш, – подзаборник, вабья. Надо бросить слюнявую жвачку, не задев заневедь большие глазенки тигренка-найденка. Слюнявка в полете попала ребенку в дырочку в ухе – это беда. В стоянии там посмотрели зрачки в его зрачки – лабуда. Карабкаться в гору, смотря в глаза, – теперь нужда. «Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам» – подряд повторять по пути к тигренку-мальчонку, смотря зрачками в его глаза. «Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам.» Пальцы сняли с ушка слякоть. Положили снова – сняли, положили – сняли вновь. Приговаривая: «Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам.» Пальцы кладут ее в нос. Не туда – подняли, рот посчитал, переложили. И снова подняли-переложили. Глаза посмотрели в глаз опять. Отвернулись, закрылись, взглянули вновь, отвернулись, закрылись «Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам.» Переложили на зрачок, залепили, скрыли. «Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам. Не возьмет, не заберет, не отдам.» Отлепили, прилепили, разгладили, помяли, прикоснулись опять, и опять, и опять. Нашлись силы уйти со двора публичного дома с тропинкой, по которой можно пройти. Затем здесь.
Дома дверь. Стук-хлоп. «Раз-два – не возьмет, не заберет, не отдам – три-четыре. Пять-шесть, пять-шесть-семь-восемь, восемь, восемь. Раз-два – не возьмет, не заберет, не отдам – три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-д-девять, нет, отменить девять, восемь.» Чайник открыт и включен. Закрыт. Включен, выключен, включен, открыт. Вода перелита, вылиты лишки, включен-включен-включен-включен. Перелить воду в чашку. Слить. Слить. Долить. В окне фигура – дерево и тряпка, напоминает человека. Смотреть, отворачиваться, смотреть, отворачиваться. Лечь в кровать и встать. Лечь «Раз-два-три. Раз-два-три-четыре» Привстать. Лечь. Привстать. Встать. Лечь. Встать. Отсчитать. Два шага вправо, два шага влево, еще два влево и вправо. Наконец лечь. «Ленин – хорошо! Ленин – хорошо! Ленин – хорошо! Ленин – хорошо!». Закрылись глаза. Открылись: «Ленин – хорошо! Ленин – хорошо!» Захлопнулись.
31
Хтоническое утро 13-го июня
Пробудился от приступа. Показалось, во сне продал душу. А ведь я агностик и склоняюсь к ее отсутствию. Время стало похоже на пытку собой от абсурда и чувства несправедливости. Я стал глубоким заложником ресентимента, от которого не хватает воли избавиться. Каждый раз с октября просыпаюсь в ужасе и мучении, проживаю в них окаянные дни, убегая от головы, а потом ложусь с трудом в том же ужасе. Засыпать стало трудно. Болит сердце и невралгия, стучит. Стараешься обуять и оставляешь на фоне звук. В одиночестве невозможно.
А еще с октября у меня возник календарь. Каждый день нового года отождествляю с прошедшим: в ту дату мы не были вместе? – есть время, его все меньше; были – поторопись.
Был убежден, что невыносимо сильно ее люблю. То была ложь себе. Я осязал ее, но выталкивал вон, стараясь не признаваться. Я противник психологов и сторонник аутентичного экзестирования. С отъездом друзей я решил, что стану сам для себя тоталитарным государством, проводящим форсированную индустриализацию, измажу пурпуром tabula rasa, дабы догнать и перегнать их, пользующихся моим трепетным восхищением. В таком случае, необходимо отдавать отчеты во всем.
Пришло время – я нагло врал, подменял. Считал, моя любовь – чистая и красивая, противопоставлял ее христианской, милосердной, отстраненной, мерзкой, жалостливой. На деле любовь играет меньшую роль. Базис-мотив – навязчивая, пожарозовущая, агрессивная похоть, мысль, что девушки таких форм у меня больше не будет, и я умру, не испытав их. Осталось подавить чувства, признавшись в слабости, или превозмочь обстоятельства, став ребенком. Мужчина часто идет на подвиг ради женщины, он же мужчина. Это нормально, естественно и красиво. Печально, когда женщина не оценивает трепетного поступка, из-за которого он страдал – об извращенности наших нравов.
Превозмогаясь, я рассказал ей. Признаться человеку, что ты скорее хочешь его, нежели любишь, непросто. Впрочем, это сработало: она стала добрее и ласковей. С этих пор тело потеряло ту невещественность, какую я ощущал раньше, видя его и касаясь. Кажется, весной-летом я формулировал его мнимость. Теперь оно живо, существенно, материально. Мания. Джон Мани.
Мой путь к ней лежал через вредные терни. На зеркальной табличке написано «Проход есть», а кусты не пускают. Стой и смотри, как блестят огоньком глаза в отражении. Это, скорее, не путь, а тоннель, горный или подземный с бурным ручьем на плоскости дна. Ты плывешь по нему на убогом суденышке, ориентируясь на округлую продолговатую щель в конце, откуда в глаза льет слепящий свет. На твоем корабле по нормам должен быть опытный капитан, ходивший по воде годы-годы-годы и еще тридцать раз годы. Субъект, спасавший тонущих тоннами, собственноручно лечивший подгнивших, не дышащих. Он смотрит на щель как бы сверху, как смотрят на карту географы.
На поверку твой капитан дурак. И ты дурак. Вы все дураки на суденышке, ваш план жив одной верой. Это эксперимент в мясе: Ханны Арендт или Марии Абрамович – не суть, один из вас точно злой.
Вскоре мы с Викой встретились – заблагодушничала после признания. В слежке времени мало, с этим в связи я примкнул, пока она шла к остановке, где ее ждал олень. Мы садились на лавочки и целовались, она шептала на ушко прелести, не заботясь о том, что он беспокоится, озирая часы в неприлично затянувшемся ожидании. Напоследок в двенадцати метрах от места, где назначалась их запоздавшая встреча, Вика раскрыла тайну из приобретенного за бурный год опыта. Если физиологически точно, она практикует особый подвид …, и инклинированно поместить.
Я покраснел, руки затряслись в треморе, волнение было скрыть невозможно. Для нее – это игра и кокетство, для меня – нечто отвратительное, постыдное. Произнесенное поразило мою либерал-искаженную нравственность, но еще сильнее тронуло ревность, доведя до смуты, до апогея. Понаблюдав за трепетом всего тела, Вика игриво чмокнула меня на прощание в губы и побежала к парню вприпрыжку.
Повторюсь, мне противно представлять это, думать и знать, но мог ли я, уничтожаемый ревнивой эмоцией и несдерживаемым сексуальным желанием к ней, отказать?
32
14 июня
Древесные почки несут с собой смердь. Воздух стал гаже. Каждый год в это время атмосфера переживает влияние подснежников и растаявших производственных химикатов, в конце концов, белкам тоже нужно где-то прятать орехи и трупы, это естественно. Совершенно особенный и наиболее концентрированный душок встречается на Уе, где вся радость собралась в единый поток. Однако этой весной ветра приобрели очень конкретный инсектоакарицидно-хлористый флер, который при всем желании не спутать с мясной гнилью или стандартными, на запах привычными каждому горожанину производственными работами на «Красгорхимпроме». Стой в небе ядрен, утренние туманы позеленесереют. А как накатила ранневесенняя нежданная марь, обстановка вдвое ухудшилась.
Невозможно скрывать, объявили с административных верхов чрезвычайное положение. Самое чрезвычайное. Каждый до единого гражданин в радиусе десяти километров от предприятия нуждается в спасении сразу, здесь, махом. Нестерпимо дышать кислотой.
Объявлена экстренная эвакуация, но никого не увозят: на чем? на какие ресурсы? куда? – по всей видимости, за пределами области о ситуации никому не известно – иллюзия черной дыры, поглощающей нестабильность в омут спокойствия.
Призрачный возмущения шепот прошагал, от края до края, от арондисмана Гастелло на западе и до Буденного на востоке, от села Целинное на севере и, через Уй, до улицы имени 22 Съезда КПСС на радикальном юге Краснознаменогорска. Истомная безответственность мэра завораживает. Правы были в своих суждениях кознеязыкие клеветники, критиковавшие высылку московско-еврейских инженеров, в руках которых была наша жизнь, свыше – здоровье, легкие.
В домах, на улицах, форумах стоит стон: «Мы все умрем», «Козни Сороса», «Задохнемся», «Страшно за себя и детей». Правда, страшно. Но меня больше волнует Вика, что ждет меня 16-го июня в гости.
16 июня
В рабочее время безработные заводские рабочие к девяти часам утра, как и положено, вышли на забастовку. Они перекрыли Ленинский проспект – центральную улицу, заморозив движение транспорта. По пробуждении подтянулись их жены, сотрудники сферы обслуживания, домохозяйки – все, кому страшно, кто заслуживает жилья в неотравленном месте, но не может его получить. Они стояли с плакатами, грудничками, каждый и каждая в медицинской маске. Кто-то, как мой сосед-дедушка, сыскал советский противогаз, наш трудовик выкрал его из школы – нет разницы. Что важно – так это бессилие и ярость, испытываемые гражданской массой, погорельческой толпой.
Дрожь пробирается от шеи к пяткам. Со стола упала салфетка. Она грязная, в таких ситуациях целесообразней прихватить пальцами ног и не пачкать руки. А не могу – трясусь, палец не дружит с пальцем. Я весь пунцовый. Надеюсь, Микола работает в страшный день. Других таксистов нет и не было. Звоню ему на единственный номер – «Работаю». Чудно.
К обеду со стороны «Монумента толерантности» к точке протеста маршировала толпа. Из нее торчали залысые головы, цветные ирокезы, шляпы, руки и кепки. Им придавали ритм – «Эйн-цвей-дрей-фир» – едущие впереди в прицепе, запряженном грациозным конем шерсти и гривы цветов палитры Делакруа, оперевшись ногами о генератор, держат в руках инструмент со злым выражением разукрашенных лиц Стингеры. Буревестники революции, бритые, напомаженные, в белилах и пастиле, улыбаются, пляшут; сильные ноги, умер комарик в лабиринте подошвы, синеет из куртки торчащий флаг. С подчеркнутыми носами и подбородками, толстыми сине-красно-зелеными стрелками, алеющими губами, веснушками, и тысячью слоев тонального крема, с угрожающим взглядом, двигаясь в центр народного возмущения, ведя за собой объединенные силы взявшихся за руки скинов, панков, антифа, анархистов, пробудив не вставших сразу на митинг рабочих с сердцами, залитыми семидесяти градусным спиртом. Они поют о великом, грядущем, они безоговорочно вошли в революционный авангард.
Инклюзивные взгляды: расизм, стал (цензура) м, монархизм, р (цензура) патриотизм и радикальный го (цензура) м позволили объединить авторитетом разнородное, фрагментированное, до единиц атомизированное народное движение, люди, пришедшие на Ленинский протест раньше всех, встретили их ликованием.
«Да здравствуют пышные похороны!» – визжат голодные пенсионерки. «Подполье и конспирация. Альтернативная коммуникация!» – агитирует антифа. «Панки. Анархия. Массовые беспорядки!» – стучит толпа в такт туфлями. Вместе оно – контрапункт.
Машина под домом. Вылетаю. Сажусь. Увлеченной гримасой встречает директор Микола… то есть Акакий Алексеевич. В зеркальце видно, как блестят покрытые слезливой пленкой мои глаза. Вспышка в самом зрачке, немного выше и правее центра.
– Да так после школы подрабатываю привычка знаешь ли Толь. Я вообще почему в такое время работаю? Я на митинг сходить хочу но не могу должность то государственная сам понимаешь. Так хотя бы смотрю что на улицах происходит. А ты куда едешь? К девушке? Да в такой час! Ох сейчас бы о жизни думать не о них. Но ладно что я тебе молодому сетую. Мужик растешь. Правильно. Я в твоем возрасте только так! Все село шарахалось. Старые нацисты как меня завидят так ругаться начинают. Мол, что ты до моей внученьки доморачиваешься Микоша. Я был парень хоть куда девочки глаз не могли отвести. Не все конечно. Я тогда выпивал а для кого то это было достоинством. Ну сейчас то я не пью и самогонку не пью. Пять лет как в завязке.
По радио зазвучала вещь Бетховена, прозванная в сообществе «Es muss sein» и популяризованная среди читающих Миланом Кундерой.
– Наунывная чушь. В такое время хочется чего то бодрящего. Любишь советскую эстраду?
Потею. Вижу, в окошке кружатся толпы. Слышу, как Тихон, явно вспоминая слова из их недолгого диалога с Перетцем, приводит народу в пример Ковнера, как волевого мятежника против системы и государства. «Гражданином быть важно, анархистом-вандалом – должно» – соглашаются.
В ход пошли факелы. Горят спичками, как и мы должны, не затухая, густо, отчетливо. Из здания мэрии за руки выволокли Чингиза Ауфроймана, стоящие через дом, ему вслед машут девушки, вышедшие на перекур из «Римского лупанария». Градоначальника, по всей видимости, ex-, избивают, связывают, бесцеремонно пихают в славянский древесный шкаф с вензелями, подобно мэру, грубо притащенный с соседней помойки вблизи. Дверки захлопывают, приструняют велосипедным замком. Рухлядь щедро поливают бензином, в нее целятся факелом и не одним. Горит – красиво. Доносятся малость из нутра инсталляции душещипательные крики, но народ в круге пятом, по уши довольный, водит многолюдный хоровод. В небо вздымаются флаги: имперский, советский, республиканский и многие-многие-многие другие.
– Хороший был мэр. Я его подвозил как то. Он меня своим замом звал. А я тогда развелся переживал не стал. Дядька видать работящий. Но что поделать вот так оно. Может и к лучшему.
Жестокость сменяется пением – революция танца, наше новое начало. На город гор красных знамен, государство в государстве, спускается плавно предвечерний ядрено-зеленый туман. Его разъедают точечно горящие там-сям по площади, по муниципальным зданиям костры-огоньки. И в школе горит – в государстве в государстве в государстве – почти Гаванский университет, с ее направления слышатся выстрелы.
Граждане счастливы – поют и подпевают Стингерам, чьи голоса звонки, лица честны, а пальцы не скованны и елозят по струнам, выбирая одну для проигрыша и, скользя по ней, теребя, принося удовлетворение наблюдающим.
Аморфная масса нужна, а главная роль – радикалам. Поэтому, наверное, сначала «Сталинских Стингеров» взяла прибывшая на партикулярных легковушках снаружи, из-за уральского бугра полиция. Не будет наш город никогда упокоен, ведь возведен на крови.
33
Пленные немцы
чью вину нельзя искупить никаким трудом, увезены были сюда, на юг, на Урал, для построения промышленно-рабочего городка. Они умирали в труде, а их понукали и, надо сказать, резонно за преступления Родины, иногда же и собственные. Они мерли мухами-одновневками, в фельдграу форме их клали в бетон, землю, грязь, лес, реку – куда придется, вот как вышло, что кость человека можно найти в огороде. Находят и перекладывают в христианский гроб. Он сам соберется при воскресении, Бог всесилен. Целое тело – буржуазный пережиток, вот я о чем.
И никогда не будет спокойно то, что построено, как по сатанинской инструкции, методичке, как произошло то с нашим городом гор красных знамен – Краснознаменогорском.
32
16 июня
Сережа Молот танцевал поодаль от праздника с девушкой вальс, для него остальные подобрали верные ноты. Его первого оцепили, оторвали от Веры, найденной здесь, на беспорядочном русском поле бунта, и потащили под локти к первому жандарм-поясу. Он лишь выпрямил скрюченные руки, показав ей и людям ладони. Она стояла спокойно в смиренном ступоре, а толпа аплодировала во полицейское всеуслышание.
Рабочих взяли, кого – разогнали. Площадь пуста и свободна от шаркающих подошв. Ее бесстыдно раздели, показав то, что было спрятано до сих пор: развевается славный флаг, уходящий стержнем в плитку, они общаются так через дырку в теле-калитке; тело с раскрытым ртом, точно воздух с зефиром, флаг ему – гребешком, уходящим за «позитивом». А нас пропустил революционный аванпост, и Микола помчался дальше, к дому горячо ожидающей меня Вики.
Высадился. Встретил опять большой, зеленый, уродливый, переполненный вечным отходом и о многом напоминающий контейнер, покрытый снегом зимой и песком – летом.
Ступил в подъезд. Лестница расширялась в направлении от меня. Каждая ступень сверху превосходила размером соседку снизу. По пролетам ходили большие собаки с маленькими детьми. Сени. Двери в них кажутся золотой ржавой рамой. Вместе с возбуждением, предвкушением подскочил интерес. Она взаправду ждала: впустила, разула. Дальше по коридору – шире проход. Не пойму, где потолок, а где кровля крыш соседних домов. Усадила меня за стол, «тебе налить чаю?». Странный стол. Скошенный, ножки – врозь, и они – расширяются. Огромный стакан и маленький чайник. Вкусный смиренно-темный чай. Двадцать минут болтовни ни о чем. Невтерпеж! – она схватила меня, но не стала давить, оставалась податливой. А дальше случилось то, что как в том отвратительном разговоре, в том разговоре – узнаваемый рельеф, за него хватаются кисти, сжимают пальцы. Она потеряла сознание.
Ужас в моих глазах и лице, ебана в-рот, что делать: положил на преломленный в ножках стол, водой помочил, ладонью по щекам шлепал – не помогает. Ее очи открыты – в них безразличие к миру и мне. И двери закрыты – в окно.









































