Читать книгу "Триумф юношеской воли, или Моя борьба с ресентиментом"
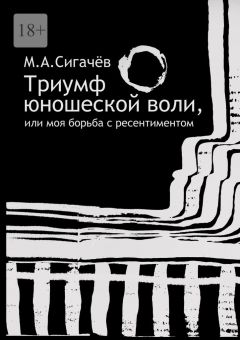
Автор книги: Максим Сигачев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Пир! Аккуратно одень худой пик скалы в куртку-козявку!
21
Далее к трехэтажному учреждению следовали сквозь дворы и, попав в частный сектор, наткнулись на культовое ООО «Победа». Оно походило на «Пропасть»: проволочный забор, за ним что-то валяется, дурно пахнет. Возле двери вывешена реклама, она гласит: «Продажа навоза оптом и в розницу». Скажи кто мне – не поверил бы, и не верит никто мне, пока сам не проверит. Кафкианско-ложскинский окрас истории рушит сверх– или над-стереотипы, стереотипы о стереотипах, рождая монструозно-уродливую, страшную сущность, которую можно бы принять за не пост-, но мета-иронию, если бы не осязаемая ощущением, данным нам русских опытом, серьезность, с какой владельцы в прошлом пахотной площади уверенно съиницировали.
Витийствуй, школьный эшафот. Радостно слышать речь разнородного скопища ребят! Разрозненные голоса:
– As-tu garetsi freiern?
– Baisé la comtesse dans cul
Не надо думать и гадать
Отымел графиню в зад.
– Un wos?
– И тишина. Тань уйди.
– Vazy.
– Allez-y?
– Azy.
– Камилев кадык козла. Он проклят на извращения.
– Magnifique. Balle que (в написании сомневаюсь).
– Математичка идет.
– Keine Mathe keine Schule nur Mädels und Bier.
– Dort ist ein Platz, hier ist kein Platz.
– Balle que (сомневаюсь).
Грязный французский Перетца злит. На листке могу его пуще испортить. Романские не мое, сленг лазурного побережья – мимо тотально.
Усадили в актовый зал. Никто ничего не ждал. Акакий Алексеевич представился по паспорту, удивив. А я устал.
Директор продекламировал принципы и пригласил на сцену провинциального театрала, чье имя я не запомнил, некоего Кофку. Было посредственно. Мы сели рядом друзьями: Илья, Виталя, я. Сбоку прибилась кудрявая девочка, у нее, изменись вдруг структура волос, могло б быть каре. Не нашенская девочка, не видел тут, а у подъезда – да, с остальной делегацией. Тогда только не обратил никакого внимания, а зря – лоб точеный. Постановка бессмысленна от начала и до конца, декорации будто с выставки Фриденсрайха Хундертвассера, что в Зальцбурге этим летом. Ярко, наперекор-перекосяк, искусно, детскими ручками. Девочка представилась: «Лилит. Очень приятно».
Она чуть покраснела от французской брани – бедняжка. Ставил сто двадцать рублей, ее впечатлило само его наличие в стенах. Деньги, кстати, Ахенбах мне проиграл. К слову, он понурил плечом, загнался. Как же злит смердье с этим ихним «garetsi», манера жаков. Фу, мой рот и снобизм. Это все ирония!
– Пост– или мета-?
– На этот раз пост-, glaube ich.
– Cogito.
– Хочу печень трески – как всегда не вовремя вклинился Хара́ктерный – cod iecoris, внатуре блин.
На подмостки выступили спортивные мужчины в полупрозрачных робах, по розовому треугольнику у каждого на груди. На экране позади демонстрировалась нарезка из черно-белых советских фильмов. У единственного актера были подведены глаза – он вышел в сценический арьергард, запел. Впереди первых рядов, у сцены сидел за ноутбуком невротичный, теревший нос, губы, чесавший затылок, виски оператор, – по-видимому, часть представления. Очень активно он трогал лицо. Другой артист хлопал дверью.
– Толь, не хочу показаться бестактным, но Вика – сущая семитская блудница, коль откровенно.
– Как есть.
– Типа Венерки в меховых колготках натуго на жопе? – оживилась с улыбкой Лилит, как позже выяснилось, Кохал.
– Кукож – донесся ор с периферийных мест.
– Эклектичная хрень: история – синтез калевальских рун и лагерей. M. O. – хрестоматийное преступление графоманов-модернистов. Я все выжидаю, когда случится снятие – внес ясное мнение Илья.
– Отцы хуже дедов, считаешь? А мы внатуре никчемные?
– Мой бывший называл Платона иудеем. Я так и не выяснила, правда ли это, но для него такого свойства дух был показателем упадка эллинизма. Каждое поколение противоречиво. Наше не хуже – оно толерантное.
Ограничились одним актом. Паршивая мизансцена. Я поинтересовался у Лилит, как ей. Та ответила, что ее любимое число – √-1. Музыка кончилась, растворились в занавесе обнаженные физкультурники, люди в форме, погасли экраны с изуродованными телами. Директор к нам вернулся и озвучил план на год. Отпустили.
В коридорах собрались толпы, поделились на меньшие. Мы прибились к диалогу дураков из параллели. У одного отец – пролетарий, у второго – старик, бывший кгб-шник, человек православный, в 80-ых, если верить словам сынка, занимался вербовкой, раскруткой, индоктринацией первых рок-групп. Теперь же работает при мэрии, имея диплом пиар-жиар-щика.
– Ну, мой отец типа правой руки при Чингизе, да. Они давно корефанятся, там историй набралось, ха-ха. Он типа политтехнолога. Он не пьет и не курит. А мэр наш бухает только так. А потом от жены получает, так сказать. Батя и ихняя компания шутят, что у него «матрилокальный брак», шаришь. А батя мой че. Его Старый называют. Он вообще и есть старый, борода, седина, все дела. Но его за мудрость так, понимаешь. Мудрый типа, жизнь повидал. Сработались они, короче. Чингиз толковый мужик так-то, все у них слаженно, батя говорит. Вот смотришь снизу – бред тупой, а оттуда видно лучше – как «Чайка», под контролем конкретно все.
– Технократия типа?
– Типа, да. Сам смари, как тебя, еще раз? Извини, Илюха, да. Как держать город? Дать право жить по своим законам и найти людей, которые бы ручались за дружественность. Все, никто не шуршит. И желательно, чтоб лица эти конфликтовали, чтоб была не одна братва, а несколько конкурирующих.
22
Я сдружился с Лилит, гулял с ней по пять-восемь часов каждый день, показывал город, изучал тотчас сам. – da steppt der Bär – сказал бы Илья, виделись бы только мы с ним почаще. Исключительные даты – старательно выделенное под Перца время. Оно было необходимо, беседы, длинною в сутки, в ходе которых мы спешно обоюдно обобществляли свои знания в замкнутой спирали. Он стал красивейшим мозгом в моей жизни. Он мог догадываться и подсказать мне, но время! Не удавалось выделить четырех секунд на обсуждение личной жизни и отношений. Зачем? Хотелось узнать магометанское имя Генона, про «труд как вид селфхарма», освобождающий интеллектуала от мыслей, про «Конфликт двух афганских евреев» (скорее всего, я переврал название пьесы), в меньшей степени – про «помора Михайло» (ласковая ссылочка на Миколу).
Да и кто, окромя Перца, способен сформулировать тезис сродни «„Дебаты о Конституции“ – нечто платоновско-сократическое, но в нео-римском вкусе…» на стыке Уральских гор и казахской границы, у берегов реки с красивым названием Уй, в Краснознаменогорске?
Повторюсь, будь у нас больше времени, догадался бы и попытался завести отношения с Кохал, вместо того я много жаловался ей на «Вику с развязного Лесбоса» (ясно, чей афоризм) и даже подумывал вытолкнуть из чистых объятий человека, чья кровать – прокрустово ложе, того, кто сам как Прокруст. Оправдывает ли ее травма в блудном опыте матери, часто сменяющихся отцов и детей в семье – продуктов своего положения? Для меня – нет. Как бы то ни было, идея перемен вияла на задворках сознания (если таковое существует), сродясь не дойдя до подробного рассмотрения.
Мне не пришлось ударить пальца о коленку. Лиля первая предложила романтику по прошествии месяца от знакомства, облегчив принятие решения о расставании (ныне меня останавливали лишь вздорные, как я себя убеждал, резоны, будь то хоть ее огромная эстетичная грудь или ревность, которая, может, облечет на занятиях в будущем).
Лилит начитана и по верхам эрудированна, но не исследует весь простор занимающей ее дисциплины, довольствуясь популярными в интеллектуальных кругах образами. Невзирая на это, она остается наиболее интересной для меня девушкой из всех известных. Общих тем хватает, чтобы, не замолкая, общаться в продолжение протяжных встреч.
«Я рассказывала про сво (его) / (ю) / (их) (по) др (га) / (гу) / (зей) / (г), у котор (ого) / (ой) / (ых) шикарная белая шевелюра, высок (ий) / (ая) / (ие) так (ой) / (ая) / (ие), истинн (ый) / (ая) / (ие) гиперборе (ец) / (йка) / (йцы). Когда мы были маленькие, в Москве имелись еще гаражные сверх-кооперативы. Мы гуляли по одному из таких, как по городу в городе, где обитал своим миром тайный изгнанный недополучивший привилегий народец, вылезавший в чуждую среду на пропитание, но скрывавший быт в Шанхае. Мы сдружились с эльфами-обитателями, они оказались милыми и совсем не страшными, что неожиданно, ведь предрассудки говорили обратное. Нас любили и принимали. Как-то он (а) / (и) предложил (а) / (и) покушать в нашей любимой „рестарации“, хи-х (выражением Лиля дала понять, какие же провинциалы бывают чудные, забавные). Присели на стульчики, хихикали, болтали, премило поговорили с хозяйкой заведения. Время уже близилось одиннадцати, пора было по домам. Выходим, и вдруг мимо проскакивает на мотоцикле мужик в рабочей жилетке и хватает его/ее/их. Я не знаю, что он хотел сделать, мысли самые страшные. Чувак проехал метра два, и тут из окон жилых гаражей потянулись десятки рук, пытались его/ее/их спасти. И он (а) / (и) потянул (ся) / (ась) / (ись) в ответ и ухватил (ся) / (ась) / (ись) за руку какого-то молодого раскосоглазого парня. Тот дернул, и он (а) / (и) спал (а) / (и) с еле пердящего мопеда, а водитель уехал куда-то за гаражный горизонт. Я подбежала и обняла его/ее/их, так страшно осознавать, что тебя или тво (его) / (ю) / (их) (по) др (га) / (гу) / (зей) / (г) могут в случайный момент изнасиловать из воздуха взявшиеся уроды. Мы об (а) / (е) стояли и плакали у этой кафешки с затухшей от дождя вывеской, а потом разомкнулись и встретились с хозяйкой взглядом. Это была довольно взрослая постаревшая от жизненных условий, неухоженная, короче, женщина, она настояла на том, чтобы нас проводил до метро ее муж. Он плохо знал русский, но все равно умудрился разговорить нас в пути. Во, смотри. Он слева в углу на фото. Нет, не тот. Он немного спереди.»
23
Укроешься в уютном мирке Врубеля, Висконти и Витгенштейна, там всегда музицируют, там танец, коловращающийся фонарь красит реющими кисточками нестареющие рериховские горы Краснознаменогорского района и окрестностей кроваво-красными оттенками. Прежде чем, упав с табуретки, проститься с жизнью, пиренейцы видят быдло. Даже дивишься, как люди порой рождаются уродливыми, глупыми, бесталанными, а вырастают в придачу толстыми, невежливыми и несведущими. Неотличимыми от животных
Приличные люди склонны к пустым рефлексиям. Лилит – нет. У нее, как и у Виталика, блестящий котелок (но если в его чане варится сугубо дерьмо, то в ее – ароматный жидкий суп-пюре). Этим своим свойством она, разумеется, удивляет. Жизнерадостна всегда, даже когда упоминает о меланхолии.
Коль речь зашла о Хара́ктерном: он не нашел Бога и, пускай повторно покрестился, продолжает, сам того не замечая, стабильно богохульствовать, параллельно наполняя комнату все новыми иконами. Где оказываются старые – одному Б-гу известно. Надеюсь, не на помойке.
А Вика дала о себе знать почти сразу, в переписке: плачет, просит вернуться, «Кто тут не прав?», давит на жалость лже-, подозреваю, порезами. Одним словом, стерва и социопатка. Манипулятивная. Сколь часто ж она мне врала, я осознал, поговорив с Кохал, Ахенбахом и Перцем. И мамой. Женщина женщину чует. Не подамся в кусачки на уловки.
Наверное, опрометчиво было бросать ее до возвращения в город. Может, стоило обождать, вдруг, мало ли что с Лилит. Но мне совесть не позволяла поступить иначе, такой я человек. Становилось бы тревожно и стыдно даже за руки держаться с последней. Зато время показало, что выбор я сделал верный, ничуть не жалею. Врожденно обостренная совесть, к расстройству.
Что об Илье, общение с ним меня интеллектуализировало и семитизировало. В то же время, в городе зародилась широкая тенденция менять немецкое (другое) имя на русское.
Мы вовлечено дискутировали о словах коридорного быдла, сына советника мэра. Пришли к выводу, что тот, романтизируя, привирает, в противном случае вырисовывается (а я нарисовал) парадоксально слаженная, при внешней безумности, конструктивная система, царит в которой невозможно завуалированная Rationalität. Будь школьник с подоконника в суждениях безошибочен, выяснилось бы, что Краснознаменогорск – государство в государстве, с искусственно созданными политическими обычаями, позволяющими элитам балансировать меж стабильной реализацией собственных интересов и мнимым ощущением свободы (пускай в беззаконьи анархии) у населения. Будь оно так, стало бы ясно, почему в городе нет ни одного полицейского, лишь заезжающие сюда извне. Насилу можно поверить, что выгнаны они специально, по указке Чингиза Ауфроймана, не желающего над собой центрального управления. С трудом поддается воображению то, как власть подчинила и поставила себе на службу контркультуры, представители каждой из которых, высказывая резко противные вроде как ценности, помогают оппонентам с каждыми выборами – «Город по-глупому за». Рифмуется и не только рифмуется (онтологическая связь, братья да сестры во хтони; (цензура) супротив русских), но тогда главгорполиттехнолог оказывается мудрецом при мягком тиране, он на метафизическом уровне отдает такой концентрированной платоновщиной, что в его реализуемость не веришь. Смотрится стройно, ведь куда-то делись непокорные сион-либералы, но пораскинув мозгами, мы отвергли концепцию (зато ужас в глазах остался).
В остальном же я безмятежно небрежен, не считая мятеж в сердцах наперекор ханжеству, пошлости и посредственности, что есть, суть, одно (формулировка пошлая, пускай). Нечего горевать окруженному любовью. Вчера вот гостил у Лилит, кушал булку с вареньем, запивал чаем с огненным цветком и, приобнимая ее за талию, глядя в окно на радугу в Уе, словно причастился счастья (прелесть мгновения, застынь!). L’Amour et l’Occident! Ну, когда прочтет русский?
24
Нотный лист – бумажный лист. Проклят был прескриптивист, евонный мир, когда пел Перетц под клавишный аккомпанемент (подарите мне абонемент). О таланте прослышали скины: Матвей Скандинав блуждал под окнами в ночи.
– Кто поет? – заорал.
– Илья Перетц. – я в ответ.
– Жид?
– Белорус.
– Красиво поет. А че поет?
– «Denn wovon lebt der Mensch».
– Идейно! Красиво поет. Я завалюсь?
Пока я отказываюсь, Илья, превозмогая вкус, приостанавливает – В падик!
– Totaler Балдеж!
Вот мы и сидим в пролете лестниц, скрываем кошерность распиваемого вина, довольные договором на совместное исполнение. Я Лилю вытащил и подключил – знает флейту. У нас ночь на текст. Дело, стингеры владеют тяжелым инструментом, да затея иная. Подключим старых, Матвей настоял. Пошли разыскивать по лужам.
«Водяных» не было. Зато Дядька Володя, как и предполагалось, на скамейке отдыхал с мужиками, он по скрипке.
(– И близ колон он пьет тройной о-де-колон.)
Уютные, атмосферные. Друзья: Максимыч – гениальный рояль, Генрихович – талантливый ложечник, Денис Дмитрич – не при делах.
Diese Nacht ist vorüber. Словам волю. Больно, мужики оплошали. Обязаны были музыку навести, того вместо запили. Пьяный в лежании, как демон летящий. Уставший, есть что-то незаконченное. Двигается, но кажется абсолютно статичным.
Нам то, пусть, куда спешить, скины расстроились. Кольчуга, истинный лидер, поговорил. Ненасильственно изъял на хранение спиртосодержащее до дня довершения должного.
Die Zeit vergeht. Готово, prima. Скрипучее вышло, печально-веселое – в самый раз. Бедную Лилю не отпускал с алкашами одну, с ней ходил репетировать. А теперь все ходим, смысл и значение женим.
– Замечали, что ряд рифов в тяжелых жанрах на электрогитаре по звуку крученные? Напоминает вращение свастики – заметил Тихон.
– Что это у тебя на груди, сынок?
– Нашивка РКК: мультицветный бретонский не вписавшийся в круг крест. (Она вызвала столкновение носителей двух абсолютных моралей).
Скрипка резко режет воздух, заряжая атмосферу. Сколько-то секунд спустя закололи клавиши. Встали. Тревожная гитара: «р-р-р-р-р-р, р-р-р-р-р-р», вторит струнам. Рояль вернулся. Скрипка: «резь-резь», как крик девочки. Бегут маленькие ножки. Клавиши. Смычок. Гитара: «р-р-р-р-р-р, р-р-р-р-р-р». Скрипка. Рояль умиротворился. Завыл пропитый голос:
Не мешали бы жить…….
Умереть молодым
В танце
Danzig
Перебил скрипучий Белого в полуслове:
«Братья,
Славьте…
Кохал *горлово-тянуще, картаво рыча, с придыханием дамы*:
Не Обир’айте!
В голом кр’есте
Стой и смотр’и!
Когда мы умр’ем,
Завер’тится в вальсе
Высокий истеричный Кольчуги *в надрыве*:
(Цензура), убивая наших детей.
Лилит:
Пока мы живем,
Ослепленные сказкой,
Тр’ение жр’ет р» (цензура) людей.
Скрипка, траурно смирившись. Поднялось постукивание, чтобы затихнуть на третьем ударе. Белый:
Что ты посадишь,
Будет пожато,
Конечно, в обход
Истерика:
Р (цензура) детей.
*Пьяное ой-ай-ай*
Когда поберешься,
Совесть кольнется,
На что не пойдешь
Для потомства на хлеб.
Пьянь хором:
И будь у нас силы:
Была бы и просьба:
Оставьте на воле
Лиля, набравшись всем телом сил, высоко, громко, что есть мочи, по-матерински взволнованно:
Моих детей……………..
*аааааа хлюп-хлюп носом аа-ааа*
Освоив посевы,
Оставшись в Dasein’е,
В страдании смерть
Предлагает ответ.
И что было ценно,
Безмерно надменно
Поето с просторов
Грезо-надежд……
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
Усталость. Пригласила домой Лилит. В гостиной тепло. В спальне уютно. На кухне трудится мать – несчастная не реализовавшая потенциал умная еврейская женщина с короткими черными волосами, кудрявыми на концах. Заперта в скромной квартире в маленьком страшном городке. Ей тесно в себе, полагаю. Так сказала Лиля. А я спросил. Марии тесно в себе. В молодости она акционировала. Сейчас варит суп, отворачиваясь от телевизора. На столе раскрыт в начале томик Кундеры в скромной обложке. Страничка подперта коробкой салфеток и не перелистывается от ветра. Бедная дягелевская женщина. Ждет мрачного мужа с завода. Он неплохой инженер. Она привыкла к нему. Он называет ее «Машэ». В молодости звал «Машкэ». Кто украл ее юность?
Лампочка сгорела у меня на глазах. Отец Лилит придет и заменит. Теплый тусклый свет. Почти перешептываемся.
«Согласна. Только с оружием русск (ий) / (ая) / (ие) смо (жет) / (гут) себя защитить. В круге первом, палка – первопричина свободы и угнетения. Дружина – отраслевая элита, ОПГ, рейдеры.»
25
Никто не строит дворцов весны. Горе. Нежная, с иронией жизнерадостная моя жидовочка пришла в школу за учебниками. Мерзкий Ерден прижал ее тело к стенке, ноги – к батарее в женском клозете. Убеждал молчать и всячески старался поцеловать, дерзнулся потрогать то, что запрещено и даже мне пока полузакрыто. Но она не стала молчать, и на крик кинулись девочки. Берды выкинули за пределы уборной – спасли, напуганная Лилит не рискнула жаловаться администрации.
Я слушал это, сидя на рвотном диване с завода Халтурина с ней, и в слезах обнимал. Водообмен. Она не пожаловалась, настучу я, очевидно же. Не стал говорить, чтобы не помешала волейвызванным планам, девичья мягкосердечность.
Помешает одно другому? – Поможет. Наутро с Виталей и Перцем мы сидели в директорском милитаризированном кабинете. Ердена Берды выгнали, официально – но все это потом. Сейчас – сообщение Владу. В отзвук:
«Да русскую девочку… Да как так… Дегенерат, мразь, веревочка пригодится вырожденцу… Разберемся с соратниками, но ты идешь с нами, Шварцвальд. Камера есть? Бери. И не робей, в иной раз бабу твою убьют, внатуре.»
«Я тебя люблю» – впервые озвучил. Сейчас уверен. Моя в обыденности ingénue-ma-coquette-ma-naïve-ma-Lilith (временами – coquette, а местами – naïve). И льются слезы-слезы, как по ночам из дозатора-рукомойника. И не порезалась, моя умничка. Викины руки давно уже были б в крови, не смог бы я ее осудить. Ложись и не волнуйся. Давай послушаем, как воют 50 псов разорившегося собачника. Зачем только держит? Были породистые овчарки, борзые, хаски. Без надзора смешались – черт-те что. Зимой он запрягает их в сани. Она плачет, боится. Сторонится мужчин. И меня сторонится. Час вел беседу – смягчилась. Видит, я не такой, не лезу, хотя еще вчера мог бы, позавчера мог. Но не стал. Мужчины – смерды и быдло. Исключения – вперед тянут мир. Без них бы все сгинуло.
Fin de siècle. Вот тебе роза – нехристианский, как ты и любишь, символ любви. Моя бывшая бутоньерка, была для проформы, теперь символ твоего дивного эйдоса. Не знак вовсе – это как сравнить интеллигента с интеллектуалом – категории двух плоскостей-ступеней.
– Я все ждала, ты назовешь меня *хлюп носом* Симонеттой Веспуччи. Тогда я бы *хлюп-хлюп* сказала, что ты не Медичи, но Микеланджело. А я *х-хлюп* – твой двенадцатилетний мальчик, *хлюп* хи-хи-хи-хи *хлюп-хлюп*.
Шутит! И плачет в смешках. А знаешь что, Блок написал свое «В ресторане» про Дыбенко и Коллонтай!
– Хи-хи-х-хи-хи-хи-х *хлюп*.
У Хара́ктерного случилось вечернее размышление о Б-жьем величии, с ним он мне пишет. Не до тебя чуть. Кольчуга добрался: «Бросай читать! Собираемся на улице. Мы под домом твоим в черной Волге.»
И иду я по хрущевским дворам, хлюпая сапогами в лужах. Сапоги старые, обнажилась железная чашка. А улица грязная, и люди орут, уставшие, бьют своих жен. Дети их смотрят и плачут. Вечером мама тиранит их, утром, по службе, – других детей. Бюррократическая стерва. Под единственным света окном стоит она, черная Волга. В капоте отражаются лампа и лик – человек курит. Внутри нахальные голые головы, я поздоровался и ушел за камерой, скрывшись в зеленых побеленных стенах. По возвращении сел, места не было, но нашлось. «В тесноте, да в России» – подбодрил меня Тихон. «Тепло жить единым русским общежитием» – кто-то с передних мест. «С тебя, Толя, съемка, с нас – концерт, сцена.»
Нас подрезали. «Коммунист и еврей, Несмотря-на-цкий» – убежденным криком сообщил Скандинав. Весь путь уши глушила расиситская гитара – орудие скинов других городов. А вот оно – «О», единственная подающая признаки жизни буква из всего слова «Продукты», кричала азбукой Морзе, обессиленная затихала и дальше помигивала, мерцала, спустя напряженные провода. Подавленный ток. На службе у затаенного зла голодает по невниманию.
Думали за забором приостановиться да дождаться рассвета, когда разбирают обычно фургон с товаром. Повезло крупно, в магазинчике жизнь: Берды-сын на полку продукт клал, мать тормошила кассу.
«Hier wir gehen. Это я для тебя, Толь. Поднимай оборудование.» Бойцы в военном повылазили прочь, отворяя черные двери. Поочередно они освобождали от автомобиля подтяжки. *Стук* сапогом по асфальту *стук*. «Высаживаемся». Только тут я заметил тени на их глазах и подводку. Холеные движутся, размеренным шагом, носками наружу, трется о штанину штанина.
«С нами Бог» – разбита витрина, осколки посыпались туда и сюда. Переступили порог. Я запустил съемку. Белый кряхтящим надтенором репертуар начал.
Нам завеща-а-а-ал Бурятский Ге (цензура) -а-ал
Врага брать приступы с подкоп-а (с полки падает пиво)
Не знаю, никогда не придава-а-а-ал (он взял почти оперную ноту, лопнув банку ногой)
Свято-го солдатского долга-а (голос понизился)
Тя-я!
(С прилавка полетели конфеты и жвачки, брошена в стену набитая касса. Молот придает ритм о стекло холодильника. Скандинав ждет в машине, а Тихон ушел в тепляк. Кольчуга включил неон, помещение залилось красным.)
Почем ты знал,
Под маршем гудит-т Солньцш (*неразборчиво*) ше
Над ветрами русского неба
Колос вольный кричит (тут они все синхронно, игриво
и махом закрутили плечами)
Тя-я!
(Разбивается дверца рефрижератора. Кольчуга берет Берды за шкирку и уводит от матери в угол. Раз удар – два. Руки его фиксирует к подвисшей горизонтали вплотную.)
Три – семя. *глухой бой в живот*
Два – пламя. (кричит разъяренная породительница. За нее взялся Серый)
Пять – племя!
Властное племя ханжей!
Снует
Да-а-а-а
(Молот выбрался из подсобного помещение с синим флагом. Он поднимается, и отмечается РКК. «Я нашел барабану» – придает ритму о фолиант.)
Топится водой с солью киоскерка. Ее держат и принуждают смотреть на сына, что с отнятыми руками распластался по острой поверхности выступа. Ее почти не бьют. Мне хочется убежать. Страшно. Не поймут ведь. Ради меня все. Держу с ужасом камеру трясущимися руками, по телу дрожь. До чего доведет! Это мы светы? Дьявол распространяется, проникая от зараженного в жертву сквозь свежую рану. Ария не скончается.
Потекла с носа кровь,
(Цензура) идут!
В жилах изживет боль,
(Цензура) вперед!
На-аа (больно Ерды)
Тя-яяя (тошно Ерды)
Они танцуют, по-солдатски сучат ногами, по-женски воротят бедрами, изгибают атлетические талии во все восемь сторон, воздымают к люстре руки и не могут нарадоваться худпредставлению. Лыбятся и визжат. Течет по лицу Берды, до конца не смерившаяся, не целиком высохшая на губах кровь. И разносится стук Праздничной об обложку. Дурной тупой сон. Как в нелепом боевике-комедии. Тихон громит стеллажи с печеньем, Серый стучит до сих пор, Влад наслаждается побоями и отражением в зеркале, поставленном для наблюдения за ворами (сегодня тушь легла лучше обычного), не забывает про театральную часть. Матвей зазвал в машину сигналом. Стингеры встали линией, как с плаката живые сошли, лоб ко лбу, челюсть к челюсти: одинаково грубые, худые и вытянутые у них челюсти, равно жидкие черные брови на одной высоте. В пол поклонились и убежали к нам с Матвеем в машину, забыв связанными избитых.
26
И все рассказал ей из лучших интенций, со стыдом, с честью. И ругала меня, разумеется, в душе довольная. Ругала красивая, вся в белом, весенняя еврейка моя Лилит, Лаура и дева света, для которой я командор как бы. Нет, неуместно, речь не До… фу. Ослабла под моим нравом ее, свойственная и иностранцам, и женщинам, архетипическая русская виктимность. И мы пошли с утра рано, сразу по пробуждении, к директору жаловаться и под его охи и ахи добились-таки без напора сдвига бюрократических плит: Ердена при нас, тут же, исключили с учения, в секунду набрали матери, а та в слезах прорычала картаво, невнятно бренча (брынчя), напугано она сообщила – уедут они из России со всей их большой семьей непременно, соберут как пожитки, может, уже на неделе. И закроется магазин, полагаю, невнятный ларек с капризным мигающим «О» на вывеске. И расчувствовавшийся Микола, то есть, Акакий Алексеевич, простите меня, вставая с грохотом с деревянного, из досок, стула с примятой кофтой на спинке, выпытывал с осторожностью о ее самочувствии. Он готов был из собственного кармана достать деньги на прием у психолога, настоящего, не школьного, опытного врача. И что к чему сразу понял, припомнив про погром в Продуктовом новость, и поддержал. Да! Поддержал: «Так им и надо, мерзавцам. А сколько музыки, сколько страсти! Я лично когда-то ребят на карете своей подвозил, они и матерятся красиво. Талантливые дети, воспитанники школы и города, порождения великой страны с прошлым и будущим». Но в полицию, говорит, не надо жаловаться, «вы же все понимаете, это столько проблем. Мы с мужиками, если увидим, сами им наваляем, я его отца в лицо знаю. Все у меня получат!»
Мы и не стали. Написали бы заявление обязательно и обивали бы долго пороги полицейского центра, был бы он в нашем городе. Последнее, чего хотелось Лилит – ехать в Орск.
Под настенным ковром лежали без мала невинные, она вся в белом и с рюшами на груди, а я в черном, оставивший оплатформленные туфли о долговязых шнурках, обвиваемых мной округ голени. Моим безразмерным морским пиджаком, доставшимся от набравшего с возрастом отца, из кармана которого, по обычаю торчал березовый крестик, укрытый при стержне выглаженным, также выглядывающим платком, она брезгливо скрыла фабричный стул, стоявший напротив ковра и кровати. Как завечерело, она была вынуждена обнажить пошлую мебель, чтобы согреться. От счастья румянился пестрый малыш-цветок, нависавший над крестом, для нее он был сорван пару часов назад на клумбе у Ахенбаха.
Квартирка типическая, не берем в счет иконы, коих я не заметил. В остальном, она – сота наподобие других и проявляет плохо укрываемую враждебность к нам с ней. Ей и ее составляющим: ковру, житомирскому шкафу, городницкому фарфору, хрустящим обоям, безыдейной люстре, второму ковру и третьему – всем противно наблюдать нас и наши манерные ужимки. А нам нет до них дела. Встанем на ноги и сметем силой сердец, обустроив что-нибудь посвежее. Линолеум и тот, покорившись, не оставил на пятках чулок, греющих Лилит ноги, пыльного следа. И Дзержинского бюст уставился в стену, подперев коробку салфеток.
Как вместо Моцарта заиграл Вагнер – вошел лилин отец. У нас со старшим Кохалом сложилась ситуация взаимного уважения. Он привык видеть меня у себя в гостиной или на кухне. Сняв галстук и кардиган, он, довольный, но смущенный, заявил:
– Есть новость. Все работы отменены, четвертого августа вернемся в Москву…
– Через три дня!
– Ну прости, доча. Я на что тут влияю?
– А п-почему отменены?
– Мы сказали, что завод аварийный, и его следует закрывать на ремонт и переоборудование. Намеревались писать в главный офис, управляющий запретил. Убеждал, что все, в целом исправно, ничего закрывать не надо, а для устранения мелких неполадок мы и были приглашены. Не справляемся – дармоеды и дилетанты. В общем, отозвал обратно с формулировкой: «Все необходимые работы проведены. Остались только незначительные для производства проблемы, которые данными специалистами устранены быть не могут». Дочь, не забудь, за следующие два дня нужно собрать наши вещи и вернуть на место хозяйские – сказал он, снимая постороннее со статуэтки и развернув ее к живому лицом.









































