Текст книги "Чужой жизни – нет"
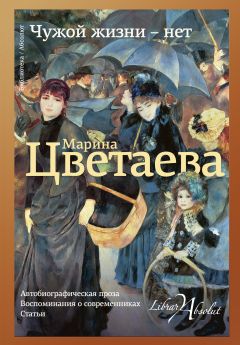
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая:
– Ма-ама!
Я, с самонасильственной простотой:
– Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно.
– Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно. Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее:
– Ей в одно местечко нужно.
– А-ах! Этого у нас нет. Местечка у нас нет, но место есть, сколько угодно – все место, которое вы видите из окна. На лоне природы, везде, везде, везде! Это называется – Запад (шипя, как змея:) цивилизация.
– Но кто же вас здесь… поселил? (Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении.)
– Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно – так нужно. Очевидно, это кому-то нужно. – И, уже как узаконенный припев: – Девочке нужно, нужно, нужно.
* * *
– Аля, как тебе не стыдно! Прямо перед окном!
– Во-первых, вы слишком долго с ним разговаривали, во-вторых, он все равно ничего не видит.
– Как не видит? Ты думаешь, он слепой?
– Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?
Чтобы кончить о «девочке, которой нужно» и Белом. Несколько дней спустя приехал из Праги ее отец и ужаснулся ее страсти к пиву.
– Бездонная бочка какая-то! В восемь лет! Нет, этому нужно положить конец. Сегодня я ей дам столько пива, сколько она захочет – чтобы навсегда отучить.
И вот, после которой-то кружки, Аля, внезапно:
– А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый.
* * *
– Конечно, Пушкин писал своего «Годунова» в бане, – говорит Белый, обозревая со мной из окна свои цоссенские просторы. Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал за баню! (Шепотом, стыдливо улыбаясь:) Я же ведь здесь совершенно перестал мыться. Воды нет, таза нет – разве это таз? Ведь сюда – только нос! Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин, оттого я так часто и езжу в Берлин и в конце концов ничего не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо, мне нужно ехать в Берлин!
А теперь… (дверь без стука, но с треском открывается, впуская сначала поднос, потом женский клетчатый живот) – чем богаты, тем и рады! Не осудите: я обречен на полное отсутствие кулинарной фантазии моей хозяйки.
Суп безмолвно и отрывисто ро́злит по тарелкам. После хозяйкиного ухода Белый, упавшим голосом:
– Haferbrühe[228]228
Овсяная похлебка (нем.).
[Закрыть]… Овсянка… Я так и знал… Сидим, браво хлебаем не то суп, не то кашу, для гущи – жидкое, для жидкости – густое…
– Haferbrühe, Haferbrühe, Naferbrühe, – бормочет Белый. – Brühe… brüten… точно она этот овес высиживает, в жару собственного тела его размаривает, собой его морит… Milchsuppe – Haferbrühe, Haferbrühe – Milchsuppe[229]229
Brühe – похлебка; brüten – высиживать (птенцов); Milchsuppe – молочный суп (нем.).
[Закрыть]…
И дохлебав последнюю ложку, просияв, как больной, у которого вырвали зуб:
– А теперь едемте обедать!
* * *
Берлин. Ресторан «Медведь»: «zum Baren».
– Никаких супов, да? Супы мы уже ели! Мы будем есть мясо, мясо, мясо! Два мясных блюда! Три? (С любопытством и даже любознательностью:) А дочь сможет съесть три мясных блюда?
– Пива, – флегматический ответ.
– Как она у вас хорошо говорит – лаконически. Конечно, пива. А мы – вина. А дочь не пьет вина?
Первое из трех мясных блюд. (Потом Аля, мне: «Мама, он ел совершенно как волк. С улыбкой и кося… Он точно нападал на мясо…»)
По окончании второго и в нетерпении третьего Белый, мне:
– Не примите меня за волка! Я три дня на овсе. Один – я не смею: некрасиво как-то и предательство по отношению к хозяйке. Она ведь то же ест и в Берлин не ездит… Но сегодня я себе разрешил, потому что вы-то с моей хозяйкой никакими узами совместной беды не связаны. За что же вы будете терпеть? Да еще с дочерью. А я уж к вам – присоседился.
И, по явной ассоциации с волком:
– А теперь – едем в Zoo[230]230
Зоопарк (нем.).
[Закрыть].
* * *
В Zoo, перед клеткой огромного льва, львам – льва, Аля:
– Мама, смотрите! Совершенный Лев Толстой! Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза – точно все врут.
– Не скажите! – учтиво и агрессивно сорокалетний – восьмилетней. – Лев Толстой, это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой вивисекцию.
Поглощенная спутником, кроме льва, из всего Zoo на этот раз помню только бегемота, и то из-за следующего беловского примечания:
– В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это иные любители деньги платят! Я не расслышал, что говорит смотритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой ужас! Я чуть в обморок не упал…
Помню еще, что с тигром он поздоровался по-тигрячьи: как-то «иау», между лаем и мяуканьем, сопровождаемым изворотом всего тела, с которого, как водопад, хлынул плащ. (Ходил он в пелерине, которая в просторечье зовется размахайкой, а на нем выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню его руки, совсем свободные и бедные, точно голые без верхних рукавов, вероломным покроем якобы освобожденные, на самом же деле – связанные. Оттого он так и метался, что пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором. Из Kaufhaus des Westens[231]231
Название торговой фирмы (нем.).
[Закрыть] или еще старинная московская – не знаю. Серая.)
Простоявши поклеточно весь сад:
– Я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь… слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня – нет? Отворачиваются!
Сидим на каком-то бревне, невозможном бы в Германской империи, – совсем пресненском! – друг с другом и без зверей, и вдруг, как в прорвавшуюся плотину – повесть о молодом Блоке, его молодой жене и о молодом нем-самом. Лихорадочная повесть, сложнейшая бесфабульная повесть сердца, восстановить которую совершенно не могу и оставшаяся в моих ушах и жилах каким-то малярийным хинным звоном, с обрывочными видениями какой-то ржи – каких-то кос – чьего-то шелкового пояса – ранний Блок у него вставал добрым молодцем из некрасовской «Коробушки», иконописным ямщиком с лукутинской табакерки, – чем-то сплошь-цветным, совсем без белого, и – сцена меняется – Петербург, метель, синий плащ… вступление в игру юного гения, демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществившийся союз новых двух – отъезды – приезды – точное чувство, что отъездов в этой встрече было больше, чем приездов, может быть, оттого, что приезды были короткие, а отъезды – такие длинные, начинавшиеся с самой секунды приезда и все оттягиваемые, откладываемые до мгновения внезапного бегства… Узел стягивается, все в петле, не развязать, не разрубить. И последнее, отчетливо мною помнимое слово:
– Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота.
Тут же я впервые узнала о сыне Любови Димитриевны, ее собственном, не блоковском, не беловском – Митьке, о котором так пекся Блок: «Как мы Митьку будем воспитывать?» – и которого так сердечно оплакивал в стихах, кончающихся обращением к Богу:
Нет, над младенцем, над блаженным
Стоять я буду без тебя!
Строки, которых я никогда не читаю без однозвучащих во мне строк пушкинской эпитафии первенцу Марии Раевской:
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
Помню еще одно: что слово «любовь» в этой сложнейшей любовной повести не было названо ни разу, – только подразумевалось, каждый раз благополучно миновалось, в последнюю секунду заменялось – ближайшим и отдаляющим, так что я несколько раз в течение рассказа ловила себя на мысли: «Что ж это было?» – именно на мысли, ибо чувством знала: то. Убеждена, что так же обходилось, миновалось, заменялось, не называлось оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы были тогда души. Лучшие из душ. Символизм меньше всего литературное течение.
И – еще одно. Если нынешние не говорят «люблю», то от страха, во-первых – себя связать, во-вторых – передать: снизить себе цену. Из чистейшего себялюбия. Те – мы – не говорили «люблю» из мистического страха, назвав, убить любовь, и еще от глубокой уверенности, что есть нечто высшее любви, от страха это высшее – снизить, сказав «люблю» – недодать. Оттого нас так мало и любили.
* * *
Тогда же, в Zoo, я узнала, что «Синий плащ», всей Россией до тоски любимый…
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла,
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла… –
синий плащ Любови Димитриевны. «О, он всю жизнь о ней заботился, как о больной, ее комната всегда была готова, она всегда могла вернуться… отдохнуть… но то было разбито, жизни шли врозь и никогда больше не сошлись».
* * *
Zoo закончилось очередным Алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никогда не забуду Белого, загоревшего за этот день до какого-то чайного, самоварного цвета, от которого еще синей синели его явно азиатские глаза, на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брызжущей лужайки. Откидывая серебро волос над медью лба:
– Хорошо ведь? Как я все это люблю. Трава, вдалеке большие звери, вы, такая простая… И дочь тихая, разумная, ничего не говорит… (И, уже как припев:) Приятно!
* * *
Оттого ли, что было лето, оттого ли, что он всегда был взволнован, оттого ли, что в нем уже сидела его смертная болезнь – сосудов, я никогда не видела его бледным, всегда – розовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой усугублялась и синева глаз, и серебро волос. От серебра же волос и серый костюм казался серебряным, мерцающим. Серебро, медь, лазурь – вот в каких цветах у меня остался Белый, летний Белый, берлинский Белый, Белый бедового своего тысяча девятьсот двадцать второго лета.
* * *
В первый раз войдя в мою комнату в Pragerpension’e, Белый на столе увидел – вернее, стола не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями царской семьи: наследника всех возрастов, четырех великих княжон, различно сгруппированных, как цветы в дворцовых вазах, матери, отца…
И он наклонясь:
– Вы это… любите?
Беря в руки великих княжон:
– Какие милые!.. Милые, милые, милые!
И с каким-то отчаянием:
– Люблю тот мир!
* * *
Стоим с ним на какой-то вышке, где – не помню, только очень-очень высоко. И он, с разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:
– Вас тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка)… кувырнуться!
Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.
– Ах! Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так (сгибается под прямым углом, распластывая руки)… Или еще лучше (обратный загиб, отлив волос) – вот так…
* * *
Через несколько дней после Zoo и Zossen’a приехал из Праги мой муж – после многих лет боев пражский студент-филолог.
Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову, внимание каждому слову, ту особую жадность поэта к миру действия, жадность, даже с искоркой зависти… (Не забудем, что все поэты мира любили военных.)
– Какой хороший ваш муж, – говорил он мне потом, – какой выдержанный, спокойный, безукоризненный. Таким и должен быть воин. Как я хотел бы быть офицером! (Быстро сбавляя:) Даже солдатом! Противник, свои, черное, белое – какой покой. Ведь я этого искал у Доктора, этого не нашел.
Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот как: Белый потерял рукопись. Рукопись своего «Золота в лазури», о которой его издатель мне с ужасом:
– Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николаевича. Убедите его, что раньше – тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста – камня на камне не оставил. Был разговор о переиздании, а это – новая книга, неузнаваемая! Да я против нового ничего не имею, но зачем тогда было набирать старую? Ведь каждая его корректура – целая новая книга! Книга неудержимо и неостановимо новеет, у наборщиков руки опускаются…
И вот, эту новизну, этот весь ворох новизн – огромную, уже не вмещающую папку – Белый вдруг потерял.
– Потерял рукопись! – с этим криком он ворвался ко мне в комнату. – Рукопись потерял! Золото потерял! В Лазури – потерял! Потерял, обронил, оставил, провалил! В каком-то из проклятых кафе, на которые я обречен, будь они трекляты! Я шел к вам, но потом решил – я хоть погибший человек, но я приличный человек – что сейчас вам не до меня, не хотел омрачать радости вашей встречи – вы же дети по сравнению со мной! вы еще в Парадизе! а я горю в аду! – не хотел вносить этого серного Ада с дирижирующим в нем Доктором – в ваш Парадиз, решил: сверну, один ввергнусь, словом – зашел в кафе: то, или другое, или третье (с язвительной усмешкой): сначала в то, потом в другое, потом в третье… И после – которого? – удар по ногам: нет рукописи! Слишком уж стало легко идти, левая рука слишком зажила своей жизнью – точно в этом суть: зажить своей жизнью! – в правой трость, а в левой – ничего… И это «ничего» – моя рукопись, труд трех месяцев, что – трех месяцев! Это – сплав тогда и теперь, я двадцать лет своей жизни оставил в кабаке… В каком из семи?
На пороге – недоуменное явление Сергея Яковлевича.
– Борис Николаевич рукопись потерял, – говорю я спешно, объясняя крик.
– Вы меня простите! – Белый к нему навстречу. – Я сам временами слышу, как я ужасно кричу. Но – перед вами погибший человек.
– Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь, найдем, отыщем, обойдем все места, где вы сидели, вы же, наверное, куда-нибудь заходили? Вы ее, наверное, где-нибудь оставили, не могли же вы потерять ее на улице.
Белый, упавшим голосом:
– Боюсь, что мог.
– Не могли. Это же вещь, у которой есть вес. Вы где-нибудь ее уже искали?
– Нет, я прямо кинулся сюда.
– Так идем.
И – пошли. И – пошло! Во-первых, не мог точно сказать, в которое кафе заходил, в которое – нет. То выходило, во все заходил, то – ни в одно. Подходим – то, войдем – не то. И, ничего не спросив, только обозрев, ни слова не сказав – вон. «Die Herrschaften wünschen? (Господа желают?)». Белый, агрессивно: «Nichts! Nichts! (Ничего, ничего!)». Легкое пожатие кельнерских плечей, – и мы опять на улице. Но, выйдя: «А вдруг – это? Там еще вторая зала, я туда не заглянул». Сережа, великодушно: «Зайдем опять?» Но и вторая зала – неузнаваема.
В другом кафе – обратное: убежден, что был, – и стол тот, и окно так, и у кассирши та же брошь, все совпадает, только рукописи нет. «Aber der Herr war ja gar nicht bei uns (Но господин к нам вовсе не заходил), – сдержанно-раздраженно – о́бер. – Полчаса назад? За этим столом? Я бы помнил». (В чем не сомневаемся, ибо Белый – красный, с взлетевшей шляпой, с взлетевшими волосами, с взлетевшей тростью – действительно незабываем.) «Ich habe hier meine Handschrift vergessen! Manuskript, versteheh Sie? Hier, auf diesem Stuhl! Eine schwarze Pappe: Mappe! (Я здесь забыл свою рукопись! Манускрипт, понимаете? Здесь на этом стуле! Черную папку![232]232
Папка, по-немецки – Mappe, а Pappe – бессмыслица. – Примеч. М. Цветаевой.
[Закрыть]) – кричит все более и более раскрасневающийся Белый, стуча палкой. – Ich bin Schriftsteller, russischer Schriftsteller! Meine Handschrift ist alles für mich! (Я – писатель, русский писатель, моя рукопись для меня – всё!)»
– Борис Николаевич, посмотрим в соседнем, – спокойно советует Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порог, – тут ведь рядом еще одно есть. Вы легко могли перепутать.
– Это? Чтобы я в этом сидел? (Ехидно:) Не-ет, я в этом не сидел! Это – явно нерасполагающее, я бы в такое и не зашел. (Упираясь палкой в асфальт.) И сейчас не зайду.
Сережа, облегченно:
– Ну, тогда зайду – я. А вы с Мариной здесь постойте. Стоим. Выходит с пустыми руками. Белый, торжествующе:
– Вот видите? Разве я мог в такое зайти? Да в таком кафе не то что рукопись, – руки-ноги оставишь. Разве вы не видите, что это – кокаин??
Очередное по маршруту – просто минуем. Несмотря на наши увещевания, даже не оборачивает головы и явно ускоряет шаг.
– Но почему же вы даже поглядеть не хотите?
– Вы не заметили, что там сидит брюнет? Я не говорю вам, что тот самый, но, во всяком случае, – из тех. Крашеных. Потому что таких черных волос нет. Есть только такая черная краска. Они все – крашеные. Это их тавро.
И, останавливаясь посреди тротуара, с страшной улыбкой:
– А не проделки ли это – Доктора? Не повелел ли он оттуда моей рукописи пропасть: упасть со стула и провалиться сквозь пол? Чтобы я больше никогда не писал стихов, потому что теперь – кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого человека. Это – Дьявол.
И, поднимая трость, в такт, ею – по чем попало: по торцам, прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг – со всего размаху ярости – по огромному желтому догу, за которым, во весь рост своего самодовольства, вырастает лейтенант.
«Verzeihen Sie, Herr Leutnant, ich habe meine Handschrift verloren. (Простите, господин лейтенант, я потерял свою рукопись)». – «Ja was? (Что такое?)» – «Der Herr ist Dichter, ein grosser russischer Dichter. (Этот господин – поэт, большой русский поэт)», – спешно и с мольбою оповещаю я. «Ja was? Dichter? (Что такое? Поэт?)» – и – не снизойдя до обиды, залив со всего высока своего прусского роста всем своим лейтенантским презрением этого штатского – да еще русского, да еще Dichter’a, оттянув собаку – минует.
– Дьявол! Дьявол! – вопит Белый, бия и биясь.
– Ради бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, что вы – о нем!
– О нем? Пусть успокоится. Есть только один дьявол – Доктор Штейнер.
И, выпустив этот последний заряд, совершенно спокойно:
– Больше не будем искать. Пропала. И, может быть, лучше, что пропала. Ведь я, по существу, не поэт, я годы могу не писать, а кто может не писать – писать не смеет.
* * *
Замечаю, что в моем повествовании нет никакого crescendo. Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши отношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем и простояли – весь наш недолгий срок.
Лично он меня никогда не разглядел, но, может быть, больше ощутил меня, мое целое, живое целое моей силы, чем самый внимательный ценитель и толкователь, и, может быть, никому я в жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько ему – простым присутствием дружбы. Присутствием в комнате. Сопутствием на улице. Возле.
Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохранности полного анонимата.
Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а отрожденной: бедой своего рождения в мир.
Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни – жизни, от которой вот только 8 января 1934 года излечился.
* * *
Чтобы не забыть. К моему имени-отчеству он прибегал только в крайних случаях, с третьими лицами, и всегда в третьем лице, говоря обо мне, не мне, со мной же – Вы, просто – Вы, только – Вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для посторонних, со мной не связанное, с той мной, с которой так сразу связал себя он, условное наименование, которое он сразу забывал наедине. Я у него звалась Вы. (Как у Каспара Гаузера сторож звался «der Du»[233]233
Ты (нем.).
[Закрыть].)
И, в нашем случае, он был прав. Имя ведь останавливает на человеке, другом, именно – этом. Вы – включает всех, включает всё. И еще: имя разграничивает, имя это явно – не-я. Вы (как и ты) это тот же я. («Вы не думаете, что?..» Читай: «Я думаю, что…») Вы – включительное и собирательное, имя-отчество – отграничительное и исключительное.
И еще: что ему было «Марина Ивановна» и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на я.
Так я и осталась для него «Вы», та Вы, которая в Берлине, Вы – неизбежно-второго лица. Вы – присутствия, наличности, очности, потому что он меня так скоро и забыл, ибо, рассказывая обо мне, он должен был неминуемо говорить «Марина Ивановна», а с Мариной Ивановной он никогда никакого дела не имел.
Единственный раз, когда он меня назвал по имени, было, когда он за мной в нашу первую «Pragerdiele» повторил слово «Таруса». Меня назвал и позвал.
Двойственность его не только сказалась на Борисе Николаевиче Бугаеве и Андрее Белом, она была вызвана ими, – С кем говорите? Со мной, Борисом Николаевичем, или со мной, Андреем Белым? Конечно, и каждый пишущий, и я, например, могу сказать: с кем говорите, со мной, «Мариной Цветаевой», или мной – мной (я, Марина Ивановна, для себя так же не существую, как для Андрея Белого); но и Марина – я, и Цветаева – я, значит, и «Марина Цветаева» – я. А Белый должен был разрываться между нареченным Борисом и самовольно-осозданным Андреем. Разорвался – навек.
Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим Горький, Андрей Белый – кто им отец?
Каждый псевдоним, подсознательно, – отказ от преемственности, потомственности, сыновнести. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного младенчества, и от матери, звавшей Боря и никакого «Андрея» не знавшей, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. Avant moi le dе́luge![234]234
После меня – потоп! (фр.)
[Закрыть] Я – сам!
Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность.
Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера, не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?
Безотчесть и беспочвенность, ибо, как почва, Россия слишком все без исключения, чтобы только собою, на себе, продержать человека.
«Родился в России», это почти что – родился везде, родился – нигде.
* * *
Ничего одиноче его вечной обступленности, обсмотренности, обслушанности я не знала. На него смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу, после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши.
А смотреть было на что. Всякая земля под его ногою становилась теннисной площадкой: ракеткой: ладонью. Земля его как будто отдавала – туда, откуда бросили, а то – опять возвращало. Просто, им небо и земля играли в мяч.
Мы – смотрели.
* * *
Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. Он доверял – вверялся! – первому встречному, но что-то в нем не доверяло – лучшему другу. Потому их и не было.
* * *
Как он всегда боялся: задеть, помешать, оказаться лишним! Как даже не вовремя, а раньше времени – исчезал, тут же, по мнительности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказывалось сидением в первом встречном осточертелом кафе. Какой – опережающий вход – опережающий взгляд, сами глаза опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и, в нетерпении придя, как метлой обмахивал пол и стены – всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты, страх – меня бы первую ввергший в столбняк, если бы я разом, вскочив на обе ноги, не дав себе понять и подпасть – на его страх, как Дуров на злого дога: «Борис Николаевич! Господи, как я вам рада!»
Страх, сменявшийся – каким сиянием!
Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами – не-свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не-свой рожден затравленным.
* * *
О Белом всегда говорили с интонацией «бедный». «Ну, как вчера Белый?» – «Ничего. Как будто немножко лучше». Или:
«А Белый нынче был совсем хорош». Как о трудно-больном. Безнадежно-больном. С тем пусть крохотным, пусть истовым, но непременным оттенком превосходства: здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы – хотя бы над самым прекрасным казусом.
* * *
Остается последнее: вечерне-ночная поездка с ним в Шарлоттенбург. И это последнее осталось во мне совершенным сновидением. Просто – как схватило дух, так до самого подъезда и не отпустило, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз – сама взяла.
Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади – серизну – розовизну – голубизну…
Слов не помню, кроме отрывистого: «Weiter! Weiter![235]235
Дальше! (нем.)
[Закрыть]» – звучащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли.
Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его основной стихии: полете, в родной и страшной его стихии– пустых пространств, потому и руку взяла, чтобы еще удержать на земле.
Рядом со мной сидел пленный дух.
* * *
Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. Было – исчезновение.
Думаю, его просто увезли – друзья, так же просто на неуютное немецкое море, как раньше в то самое Zossen, и он так же просто дал себя увезти. Белый всякого встречного принимал за судьбу и всякое случайное жилище за сужденное.
Одно знаю, – что я его не провожала, а не проводить я его не могла только потому, что не знала, что он едет. Думаю, он и сам до последней секунды не знал.
* * *
А дальше уже начинается – танцующий Белый, каким я его не видела ни разу и, наверное, не увидела бы, миф танцующего Белого, о котором так глубоко сказал Ходасевич, вообще о нем сказавший лучше нельзя, и к чьему толкованию танцующего Белого я прибавлю только одно: фокстрот Белого – чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) – христопляска, то есть опять-таки «Серебряный голубь», до которого он, к сорока годам, физически дотанцевался.
* * *
Со своего моря он мне не писал.
* * *
Но был еще один привет – последний. И прощание все-таки было – и какое беловское!
В ноябре 1923 года – вопль, письменный вопль в четыре страницы, из Берлина в Прагу: «Голубушка! Родная! Только Вы! Только к Вам! Найдите комнату рядом, где бы Вы ни были – рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно знать, что за стеной – живое – живое тепло! – Вы. Я измучен! Я истерзан! К Вам – под крыло!» (И так далее, и так далее, полные четыре страницы лирического вопля вперемежку с младенчески-беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожделенной комнаты: чтобы был стол, чтобы этот стол стоял, чтобы было окно, куда глядеть, и, если возможно, – не в стену квартирного дома, но если мое – в такую стену, то пусть и его, ничего, лишь бы рядом.) «Моя жизнь этот год – кошмар. Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо! Устройте! Укройте! Найдите, найдите комнату».
Тотчас же ответила ему, что комната имеется: рядом со мной, на высоком пражском холму – Смихове, что из окна деревья и просторы: косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, что и мы будем пускать… Что М.Л. Слоним почти наверное устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно, что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже, если захочет, не выходить, ибо он мне дороже дорогого и роднее родного, что в Праге археологическое светило – восьмидесятилетний Кондаков, что у меня, кроме Кондакова, есть друзья, которых я ему подарю и даже, если нужно, отдам в рабство…
Чего не написала! Всё написала!
Комната ждала, чешская стипендия ждала. И чехи ждали. И друзья, обреченные на рабство, ждали.
И я – ждала.
* * *
Через несколько дней, раскрывши «Руль», читаю в отделе хроники, что такого-то ноября 1923 года отбыл в Советскую Россию писатель Андрей Белый.
Такое-то ноября было таким-то ноября его вопля ко мне. То есть уехал он именно в тот день, когда писал ко мне то письмо в Прагу. Может быть, в вечер того же дня.
* * *
– А меня он все-таки когда-нибудь вспоминал? – спросила я в 1924 году одного из последних очевидцев Белого в Берлине, приехавшего в Прагу.
Тот, с заминкой…
– Да… но странно как-то.
– То есть как – странно?
– А – так: «Конечно, я люблю Цветаеву, как же мне не любить Цветаеву: когда она тоже дочь профессора…» Сами посудите, что…
Но я, молча, посудила – иначе.
* * *
Больше я о нем ничего не слыхала.
Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой, не то в Серебряном Бору, не то в Звенигороде (еще порадовалась чудному названию!), пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки – забыт.
* * *
10-го января 1934 года мой восьмилетний сын Мур, хватая запретные «Последние новости»:
– Мама! Умер Андрей Белый!
– Что???
– Нет, не там, где покойники. Вот здесь.
Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдашней молитвой моей трехлетней дочери – вся моя молодость, быть может, – вся моя жизнь.
* * *
Умер Андрей Белый «от солнечных стрел», согласно своему пророчеству 1907 года.
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел… –
то есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле, на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события: наше посмертное, этих его солнц, сопоставление: свое посмертье.
Господа, вглядитесь в два последних портрета Андрея Белого в «Последних новостях».
Вот на вас по каким-то мосткам, отделяясь от какого-то здания, с тростью в руке, в застывшей позе полета – идет человек. Человек? А не та последняя форма человека, которая остается после сожжения: дохнешь – рассыпется. Не чистый дух? Да, дух в пальто, и на пальто шесть пуговиц – считала, но какой счет, какой вес когда-либо кого-либо убедил? разубедил?
Случайная фотография? Прогулка? Не знаю, как другие, я, только взглянув на этот снимок, сразу назвала его: переход. Так, а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет.
Этот снимок – астральный снимок.
Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза – человеческие? Вы у человека видали такие глаза? Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги, и т. д. Все это, все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэту – послужило. На нас со страницы «Последних новостей» глядит лицо духа, с просквоженным тем светом глазами. На нас – сквозит.
* * *
На панихиде по нем в Сергиевском Подворье, – православных проводах сожженного, которыми мы обязаны заботе Ходасевича и христианской широте о. Сергия Булгакова, – на панихиде по Белом было всего семнадцать человек – считала по свечам – с десяток из пишущего мира, остальные завсегдатаи. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было. Зато с умилением обнаружила среди стоявших Соломона Гитмановича Каплуна, издателя, пришедшего в последний раз проводить своего трудного, неуловимого, подчас невыносимого опекаемого и писателя. Убеждена, что не меньше, чем я, и больше, чем всем нам, порадовался ему и сам Белый.
Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознала, что гроба – нет, что его – нет: казалось – о Сергий его только застит, отойдет о. Сергий – и я увижу – увидим – и настолько сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя на мысли: «Сначала все, потом – я. Прощусь последняя…»









































