Текст книги "Чужой жизни – нет"
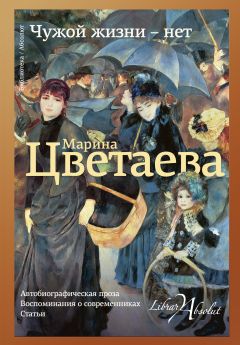
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
Искусство при свете совести[298]298
Выдержки из статьи того же наименования, которую мой редактор Руднев превратил в отрывки. На эти вещи я злопамятна. – Примеч. М. Цветаевой.
[Закрыть]
«Искусство свято», «святое искусство» – как ни обще это место, есть же у него какой-то смысл, и один на тысячу думает же о том, что говорит, и говорит же то, что думает.
К этому одному на тысячу, сознательно утверждающему святость искусства, и обращаюсь.
Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху, греха современность не знает, понятие грех современность замещает понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему, настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого – Бог – грех – святость – есть.
Если атеист заговорит о высоте искусства, речь моя, отчасти, будет относиться и к нему.
Что такое искусство?Искусство есть та же природа. Не ищите в нем других законов, кроме собственных (не самоволия художника, не существующего, а именно законов искусства). Может быть – искусство есть только ответвление природы (вид ее творчества). Достоверно: произведение искусства есть произведение природы, такое же рожденное, а не сотворенное. (А вся работа по осуществлению? Но земля тоже работает, французское «la terre en travail»[299]299
«Земля в работе» (фр.).
[Закрыть]. А само рождение – не работа? О женском вынашивании и вынашивании художником своей вещи слишком часто упоминалось, чтобы на нем настаивать: все знают – и все верно знают.)
В чем же отличие художественного произведения от произведения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Какими путями труда и чуда, но оно есть. Есмь!
Значит, художник – земля, рождающая, и рождающая все. Во славу Божью? А пауки? (есть и в произведениях искусства). Не знаю, во славу чью, и думаю, что здесь вопрос не славы, а силы.
Свята ли природа? Нет. Грешна ли? Нет. Но если произведение искусства тоже произведение природы, почему же мы с поэмы спрашиваем, а с дерева – нет, в крайнем случае пожалеем – растет криво.
Потому что земля, рождающая, безответственна, а человек, творящий – ответственен. Потому что у земли, произращающей, одна воля: к произращению, у человека же должна быть воля к произращению доброго, которое он знает. (Показательно, что порочно только пресловутое «индивидуальное»: единоличное, порочного эпоса, как порочной природы, нет.)
Земля в раю яблока не ела, ел Адам. Не ела – не знает, ел – знает, а знает – отвечает. И поскольку художник – человек, а не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст, – он за дело своих рук в ответе.
Итак, произведение искусства – то же произведение природы, но долженствующее быть просвещенным светом разума и совести. Тогда оно добру служит, как служит добру ручей, крутящий мельничное колесо. Но сказать о всяком произведении искусства – благо, то же, что сказать о всяком ручье – польза. Когда польза, а когда и вред, и насколько чаще – вред!
Благо, когда вы его (себя) возьмете в руки.
Нравственный закон в искусство привносится, но из ландскнехта, развращенного столькими господствами, выйдет ли когда-нибудь солдат правильной Армии?
Поэт и стихии«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.
Упоение, то есть опьянение – чувство само по себе не благое, вне-благое – да еще чем?
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного сулит
Неизъяснимы наслажденья.
Когда будете говорить о святости искусства, помяните это признание Пушкина.
– Да, но дальше…
– Да. Остановимся на этой единственной козырной для добра строке.
Бессмертья, может быть, залог!
Какого бессмертья? В Боге? В таком соседстве один звук этого слова дик. Залог бессмертья самой природы, самих стихий – и нас, поскольку мы они, она. Строка, если не кощунственная, то явно-языческая.
И дальше, черным по белому:
Итак – хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье –
Быть может – полное Чумы.
Не Пушкин, стихии. Нигде никогда стихии так не выговаривались. Наитие стихий – все равно на кого, сегодня – на Пушкина. Языками пламени, валами океана, песками пустыни – всем, чем угодно, только не словами – написано.
И эта заглавная буква Чумы, чума уж не как слепая стихия – как богиня, как собственное имя и лицо зла.
Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто – не судим. Скажи кто-нибудь из нас это – в жизни, или, лучше, сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и закричим: – преступление! Именно, очнемся – от чары, проснемся – от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными – нашими же – силами, в который нас повергли эти несколько размеренных строк.
ГенийНаитие стихий все равно на кого – сегодня на Пушкина. Пушкин в песенке Вильсоновой трагедии в первую голову гениален тем, что на него нашло.
Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности.
Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир.
Ибо в этом, этом атоме сопротивления (-вляемости) весь шанс человечества на гения. Без него гения нет – есть раздавленный человек, которым (он все тот же!) распираются стены не только Бедламов и Шарантонов, но и самых благополучных жилищ.
Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть – без наития. Воля – та единица к бессчетным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды (осуществляют свою миллиардность) и без которой они нули – то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития – в творчестве – просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты.
Пушкин и ВальсингамНе на одного Вальсингама нашла чума. Пушкину, чтобы написать «Пир во время Чумы», нужно было быть Вальсингамом – и перестать им быть. Раскаявшись? Нет.
Пушкину, чтобы написать песню Пира, нужно было побороть в себе и Вальсингама и священника, выйти, как в дверь, в третье. Растворись он в чуме – он бы этой песни написать не мог. Открестись он от чумы – он бы этой песни написать не мог (порвалась бы связь).
От чумы (стихии) Пушкин спасся не в пир (ее над ним! то есть Вальсингама) и не в молитву (священника), а в песню.
Пушкин, как Гёте в Вертере, спасся от чумы (Гёте – любви), убив своего героя той смертью, которой сам вожделел умереть. И вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не мог.
Смоги эту песню Вальсингам, он был бы спасен, если не для Вечной жизни – так для жизни. А Вальсингам – мы все это знаем – давно на черной телеге.
Вальсингам – Пушкин без выхода песни.
Пушкин – Вальсингам с даром песни и волей к ней.
* * *
Почему я самовольно отождествляю Пушкина с Вальсингамом и не отождествляю его с священником, которого он тоже творец?
А вот. Священник в Пире не поет. (– Священники вообще не поют. – Нет, поют – молитвы.) Будь Пушкин так же (сильно) священником, как Вальсингамом, он не мог бы не заставить его спеть, вложил бы ему в уста контр-гимн, Чуме – молитву, как вложил прелестную песенку (о любви) в уста Мэри, которая в Пире (Вальсингам – то, что Пушкин есть) – то, что Пушкин любит.
Лирический поэт себя песней выдает, выдаст всегда, не сможет не заставить сказать своего любимца (или двойника) на своем, поэта, языке. Песенка в драматическом произведении всегда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор устал говорить за других и вот проговаривается – песней.
Что у нас остается (в ушах и в душах) от Пира? Две песни. Песня Мэри – и песня Вальсингама. Любви – и Чумы.
Гений Пушкина в том, что он противовеса Вальсингамову гимну, противоядия Чуме – молитвы – не дал. Тогда бы вещь оказалась в состоянии равновесия, как мы – удовлетворенности, от чего добра бы не прибыло, ибо, утолив нашу тоску по противу-гимну, Пушкин бы ее угасил. Так, с только-гимном Чуме, Бог, Добро, молитва остаются – вне, как место не только нашей устремленности, но и отбрасываемости: то место, куда отбрасывает нас Чума. Не данная Пушкиным молитва здесь как неминуемость. (Священник в Пире говорит по долгу службы, и мы не только ничего не чувствуем, но и не слушаем, зная заранее, что он скажет.)
О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую. Продумать вещь.
Поэт – обратное шахматисту. Не только шахматов, не только доски – своей руки не видать, которой может быть и нет.
* * *
В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет, только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня?
Кощунство не в том, что мы, со страха и отчаяния, во время Чумы – пируем (так дети, со страха, смеются!), а в том, что мы в песне – апогее Пира – уже утратили страх, что мы из кары делаем – пир, из кары делаем дар, что не в страхе Божьем растворяемся, а в блаженстве уничтожения.
Если (как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина) Чума – воля Божия к нас покаранию и покорению, то есть именно бич Божий.
Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь. Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару как таковому.
Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума – или как их еще зовут.
Ведь после гимна Чуме никакого Бога не было. И что же остается другого священнику, как не: войдя («входит священник») – выйти.
Священник ушел молиться, Пушкин – петь. (Пушкин уходит после священника, уходит последним, с трудом (как: с мясом) отрываясь от своего двойника Вальсингама, вернее в эту секунду Пушкин распадается: на себя – Вальсингама – и себя поэта, себя – обреченного и себя – спасенного.)
А Вальсингам за столом сидит вечно. А Вальсингам на черной телеге едет вечно. А Вальсингама лопатой зарывают вечно.
За ту песню, которой спасся Пушкин.
* * *
Страшное имя – Вальсингам. Недаром Пушкин за всю вещь назвал его всего три раза (назвал – как вызывают, и так же трижды). Анонимное: Председатель, от которого вещь приобретает жуткую современность: еще родней.
* * *
Вальсингамы стихиям не нужны. Они берут их походя. Перебороть в Вальсингаме Бога, увы, полегче, чем в Пушкине – песню.
В «Пире во время Чумы» Чума не на Вальсингама льстилась, а на Пушкина.
И – дивные дела! – Вальсингам, который для Чумы только повод к заполучению Пушкина, Вальсингам, который для Пушкина только повод к стихийному (чумному) себе, именно Вальсингам Пушкина от Чумы спасает – в песню, без которой Пушкин не может быть стихийным собой. Дав ему песню и взяв на себя конец.
Последний атом сопротивления стихии во славу ей – и есть искусство. Природа, перебарывающая сама себя во славу свою.
* * *
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно.
Гибель поэта – отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жилы.
* * *
Весь Вальсингам – экстерриоризация (вынесение за пределы) стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь: либо преступление, либо поэма. Если бы Вальсингам был – Пушкин его все равно бы создал.
* * *
Слава богу, что есть у поэта выход героя, третьего лица, его. Иначе – какая бы постыдная (и непрерывная) исповедь. Так спасена хотя бы видимость.
* * *
«Аполлоническое начало», «золотое чувство меры» – разве вы не видите, что это только всего: в ушах лицеиста застрявшая латынь.
Пушкин, создавший Вальсингама, Пугачева, Мазепу, Петра – изнутри создавший, не создавший, а извергший…
Пушкин – мо́ря «свободной стихии»…
– Был и другой Пушкин.
– Да: Пушкин Вальсингамовой задумчивости. (Священник уходит. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.)
* * *
Ноябрь 1830 г. Болдино. Сто один год назад. Сто один год спустя.
Уроки искусстваЧему учит искусство? Добру? Нет. Уму-разуму? Нет. Оно даже себе самому научить не может, ибо оно – дано.
Нет вещи, которой бы оно не учило, как нет вещи, ей прямо обратной, которой бы оно не учило, как нет вещи, которой бы одной только и учило.
Все уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем.
Ряд ответов, к которым нет вопросов.
Все искусство – одна данность ответа.
Так, в «Пире во время Чумы» оно ответило раньше, чем я спросила, закидало меня ответами.
Все наше искусство в том, чтобы суметь (поспеть) противупоставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос. Это обскакиванье тебя ответами и есть вдохновенье. И как часто – пустой лист.
* * *
Один прочел Вертера и стреляется, другой прочел Вертера и, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил, как Вертер, другой, как Гёте. Урок самоистребления? Урок самообороны? И то и другое. Гёте, по какому-то закону данного часа его жизни, нужно было застрелить Вертера, самоубийственному демону поколения нужно было воплотиться рукой именно Гёте. Дважды роковая необходимость и как таковая – безответственная. И очень последственная.
Виновен ли Гёте во всех последовавших смертях?
Он, на глубокой и прекрасной старости своих лет, сам ответил: нет. Иначе бы мы и слова сказать не смели, ибо кто может учесть действие данного слова? (передача моя, смысл таков).
И я за Гёте отвечу: нет.
Злой воли у него не было, никакой воли, кроме творческой, не было. Он, пиша своего Вертера, не только о всех других (то есть их возможных бедах), но и о себе (своей беде!) забыл.
Всезабвенье, то есть забвенье всего, что не вещь, то есть самая основа творчества.
Написал ли бы Гёте после всего происшедшего второго Вертера – если, вопреки вероятию, ему бы еще раз так же до зарезу понадобилось – и был ли бы подсуден тогда? Написал ли бы Гёте – зная?
Тысячу раз бы написал, если бы понадобилось, как не написал бы и первой строки первого, будь давление чуть-чуть ниже. (Вертер, как Вальсингам, давит изнутри.)
– И был ли бы подсуден тогда?
Как человек – да, как художник – нет.
Больше скажу: подсуден и осужден Гёте, как художник, был бы именно в случае умерщвления в себе Вертера в целях сохранения человеческих жизней (исполнения заповеди: не убий). Здесь художественный закон нравственному прямо-обратен. Виновен художник только в двух случаях: уже упомянутого отказа от вещи (в чью бы то ни было пользу) и в создании вещи нехудожественной. Здесь его малая ответственность кончается и начинается безмерная человеческая.
Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо-хорошим – не быть. Оно кончится с жизнью планеты.
Поход Толстого«Исключение в пользу гения». Все наше отношение к искусству – исключение в пользу гения. Само искусство тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона.
Что же все наше отношение к искусству, как не: победителей не судят – и кто же оно – искусство, как не заведомый победитель (обольститель) прежде всего нашей совести.
Оттого-то мы, вопреки всей нашей любви к искусству, так горячо и отзываемся на неумелый, внехудожественный (против собственной шерсти шел и вел) вызов Толстого искусству, что этот вызов из уст художника, обольщенных и обольщающих.
В призыве Толстого к уничтожению искусства важны уста, призывающие, звучи он не с такой головокружительной художественной высоты, призывай нас любой из нас – мы бы и головы не обернули.
В походе Толстого на искусство важен Толстой: художник. Художнику мы прощаем сапожника. «Войны и Мира» из нашего отношения не вытравишь. Невытравимо. Непоправимо.
Художником мы освящаем сапожника.
В походе Толстого на искусство мы еще раз обольщены – искусством.
* * *
Все это не в укор Толстому, а в укор нам, рабам искусства. Толстой бы душу отдал, чтобы слушали не Толстого, а правду.
* * *
Возражение.
Чья проповедь нищеты убедительнее, то есть для богатства убийственнее – отродясь-нищего, или богача, отрекшегося?
Последнего, конечно.
Тот же пример с Толстым. Чье осуждение чистого искусства убедительнее (для искусства убийственнее) – толстовца, в искусстве ничем не бывшего, или самого Толстого – бывшего всем?
Так, начав с нашего навек-кредита Толстому-художнику, кончаем признанием полного дискредитирования – Толстым-художником – самого искусства.
* * *
Когда я думаю о нравственной сущности этой человеческой особи: поэта, я всегда вспоминаю определение толстовского отца в «Детстве и Отрочестве»: – Он принадлежал к той опасной породе людей, которые один и тот же поступок могут рассказать как величайшую низость и как самую невинную шутку.
СпящийВернемся к Гёте. Гёте в своем Вертере так же неповинен в зле (гибели жизней), как (пример со вторым читателем, из-за Вертера решающим жить) неповинен в добре. Оба – и смерть и желание жить – как последствие, а не как цель.
Когда у Гёте была цель, он осуществлял ее в жизни, то есть строил театр, предлагал Карлу-Августу ряд реформ, изучал быт и душу гетто, занимался минералогией, наконец, когда у Гёте была та или иная цель, он осуществлял ее прямо, без этого великого обхода искусства.
Единственная цель произведения искусства во время его совершения – это завершение его, и даже не его в целом, а каждой отдельной частицы, каждой молекулы. Даже оно само, как целое, отступает перед осуществлением этой молекулы, вернее: каждая молекула является этим целым, цель его всюду на протяжении всего его – всеместно, всеприсутственно, и оно как целое – самоцель.
По свершении же может оказаться, что художник сделал больше, чем задумал (смог больше, чем думал!), иное, чем задумал. Или другие скажут, – как говорили Блоку. И Блок всегда изумлялся и всегда соглашался, со всеми, чуть ли не с первым встречным соглашался, до того все это (то есть наличность какой бы то ни было цели) было ему ново.
«Двенадцать» Блока возникли под чарой. Демон данного часа революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заставил его.
А наивная моралистка З. Г. потом долго прикидывала, дать или нет Блоку руку, пока Блок терпеливо ждал.
Блок «Двенадцать» написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на котором катались.
Блок «Двенадцати» не знал, не читал с эстрады никогда. («Я не знаю "Двенадцати", я не помню "Двенадцати"». Действительно: не знал.)
И понятен его страх, когда он на Воздвиженке в 20 году, схватив за руку спутницу:
– Глядите!
И только пять шагов спустя:
– Катька!
В средние (о, какие крайние!) века целые деревни, одержимые демоном, внезапно начинали говорить по-латыни.
Поэт? Спящий.
Искусство при свете совестиОдин проснулся. Востроносый, восковолицый человек, жегший в камине шереметевского дома рукопись. Вторую часть «Мертвых душ».
Не ввести в соблазн. Пуще чем средневековое – собственноручное предание творения огню. Тот само-суд, о котором говорю, что он – единственный суд.
(Позор и провал Инквизиции в том, что она сама жгла, а не доводила до сожжения – жгла рукопись, когда нужно было прожечь душу.)
– Но Гоголь тогда уже был сумасшедшим.
Сумасшедший – тот, кто сжигает храм (которого не строил), чтобы прославиться. Гоголь, сжигая дело своих рук, и свою славу жег.
И вспоминается мне слово одного сапожника (1920 г. Москва) – тот случай сапожника, когда он поистине выше художника.
– Не мы с вами, М.И., сумасшедшие, а они недошедшие.
* * *
Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого.
Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого мы все жаждем и которого не перевесит ни одно «душевное движение».
* * *
Может быть, мы бы второй частью «Мертвых Душ» и не соблазнились. Достоверно – им бы радовались. Но наша та бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые – сжег. На огне собственной совести.
Те были написаны чернилами.
Эти – в нас – огнем.
Искусство без искусаНо есть в самом лоне искусства и одновременно на высотах его вещи, о которых хочется сказать: «Это уже не искусство. Это больше, чем искусство». Всякий такие знал.
Примета таких вещей – их действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую мы бы ни за что в мире не променяли бы ни на какие достатки и избытки и о которой вспоминаем только, когда пытаемся установить: как это сделано? (Подход сам по себе несостоятельный, ибо в каждой рожденной вещи концы скрыты.)
Еще не искусство, но уже больше, чем искусство.
Такие вещи часто принадлежат перу женщин, детей, самоучек – малых мира сего. Такие вещи часто вообще никакому перу не принадлежат, ибо не записываются и сохраняются (пропадают) устно. Часто – единственные за жизнь. Часто – совсем первые. Часто – совсем последние.
Искусство без искуса.
Вот стихи четырехлетнего мальчика, долго не жившего.
Там птица белая живет,
Там ходит мальчик бледный.
Ведно! Ведно! Ведно!
Есть – там-от.
(Ведно – детское и народное ведомо, здесь звучащее и как верно и как заведомо, заведомо-верно, там-от – нянькино обозначение дали.)
Вот последняя строчечка стихов семилетней девочки, никогда не ходившей и молящейся о том, чтобы ей встать. Стихи слышала раз, двадцать лет назад, и донесла только последнюю строку:
– Чтоб стоя я могла молиться!
А вот стихи монашенки Ново-Девичьего монастыря, – было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне живущее, только в моей памяти. Сообщаю его, как доброе дело.
Что бы в жизни ни ждало вас, дети,
В жизни много есть горя и зла,
Есть соблазна коварные сети,
И раскаянья жгучего мгла,
Есть тоска невозможных желаний,
Беспросветный нерадостный труд,
И расплата годами страданий
За десяток счастливых минут. –
Все же вы не слабейте душою,
Как придет испытаний пора –
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!
Где бы сердце вам жить ни велело,
В шумном свете иль сельской тиши,
Расточайте без счета и смело
Вы сокровища вашей души!
Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой,
Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой!
Возьмем рифмы – явно-обычные (тиши – души, дети – сети), явно-бедные (душою – одною). Возьмем размер, тоже ничем не настораживающий слуха. Какими средствами сделано это явно-большое дело?
– Никакими. Голой душою.
Этой безвестной монашенкой безвозвратного монастыря дано самое полное определение добра, которое когда-либо существовало: добра, как круговой поруки, и брошен самый беззлобный вызов злу, который когда-либо звучал на земле:
Где бы сердце вам жить не велело,
В шумном свете иль сельской тиши,
(Это монашенка говорит, заточенная!)
Расточайте без счета – и смело
Вы сокровища вашей души!
Сказать об этих строках «гениальные» было бы кощунством и судить их, как литературное произведение – просто малость – настолько это все за порогом этой великой (как земная любовь) малости искусства.
Привела, что припомнила. Убеждена, что есть еще. (Стихи своей, тогда шестилетней дочери, частью напечатанные в конце моей книги «Психея», обхожу намеренно, думая когда-нибудь сказать о них отдельно.) Да если бы и не было! Вот уже на одной моей памяти три стихотворения, больше, чем стихи.
А может быть, только такие стихи и есть стихи?
* * *
Примета таких вещей – их неровность. Возьмем стихи монашки.
Что бы в жизни ни ждало вас, дети – В жизни много есть горя и зла – Есть соблазна коварные сети – И раскаянья жгучего мгла – (пока что – общее место). Есть тоска невозможных желаний – Беспросветный нерадостный труд – (все то же). – И расплата годами страданий – За десяток счастливых минут (последнее почти романс!) – Все же вы не слабейте душою– Как придет испытаний пора –
И – вот, вот оно!
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!
И дальше уже по непрерывной линии восхождения, не снижая, одним великим и глубоким вздохом до самого конца.
Это, на первый взгляд (о котором уже сказано), обычное начало ей было нужно, как разбег, чтобы, наконец, до круговой поруки добра договориться. Неопытность непрофессионала. Настоящий бы поэт, какими кишат столицы, если бы, паче чаяния, до круговой поруки дописался (не дописался бы!), такого бы начала не оставил, попытался бы все пригнать под один общий уровень высоты.
А монашка несостоятельности начала и не заметила, ибо и круговой поруки не заметила, может быть смутно ей порадовалась, как чему-то очень похожему – но и только. Ибо моя монашка не поэт-профессионал, который душу черту продаст за удачный оборот (да только черт не берет, потому что ничего и нет) – а: – чистый сосуд Божий, то есть тот же четырехлетний с его «там-от» – и говорят они: и монашка, и безногая девочка, и мальчик, – все безымянные девочки, мальчики, монашки мира – одно, об одном, вернее одно через них говорит.
Эти стихи мои любимые из всех, которые когда-либо читала, когда-либо писала, мои любимые из всех на земле. Когда после них читаю (или пишу) свои, ничего не ощущаю, кроме стыда.
К таким стихам отнесу еще стихи «Мысль» (Ее побивали камнями во прах) безымянного автора, во всех сборниках, где перепечатывались, помеченные только буквою Д.
Так с буквой Д (добром с большой буквы) и пошли – дальше.









































