Текст книги "Чужой жизни – нет"
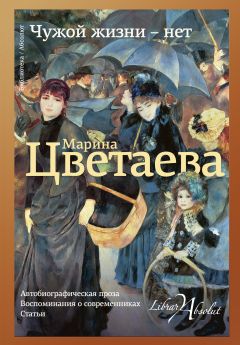
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт.
Большим поэтом может быть всякий – большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара – мало, нужен равноценный дар личности: ума, души, воли и устремление этого целого к определенной цели, то есть устроение этого целого. Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара – как тот же Альфред де Виньи – силой только внутренней ценности добивающийся у нас признания поэта. Здесь дара хватило как раз в край. Немножко меньше – получился бы просто герой (то есть безмерно больше).
Великий поэт включает – и уравновешивает. Высокий – великого – нет, иначе бы мы говорили: великий. Высота как единственный признак существования. Так, нет поэта больше Гёте, но есть поэты – выше, его младший современник Гёльдерлин, например, поэт несравненно-беднейший, но горец тех высот, где Гёте – только гость. И великий ведь меньше (ниже), чем высокий, будь они даже одного роста. Так: дуб – велик, кипарис – высок.
Слишком обширен и прочен земной фундамент гения, чтобы дать ему – так – уйти в высь. Шекспир, Гёте, Пушкин. Будь Шекспир, Гёте, Пушкин выше, они бы многого не услышали, на многое бы не ответили, ко многому бы просто не снизошли.
Гений: равнодействующая противодействий, то есть в конечном счете равновесие, то есть гармония, а жираф – урод, существо единственного измерения: собственной шеи, жираф есть шея. (Каждый урод есть часть самого себя.)
«Витание поэта в облаках» – правда, но правда только об одной породе поэтов: только-высоких, чисто-духовных. И даже не витанье, а обитанье. Горбач за свой горб платит, ангел за свои крылья на земле тоже платит. Бесплотность, так близкая бесплодности, разреженный воздух, вместо страсти – мысль, вместо слов – речения – вот земные приметы небесных гостей.
Единственное исключение – Рильке, поэт не только равно-высокий и великий (это можно сказать и о Гёте), но с тою же исключительностью высоты, здесь ничего не исключающей. Точно Бог, который у других поэтов духа, дав им одно, взял все, этому – это все – оставил. В придачу.
* * *
Высоты, как равенства, нет. Только как главенство.
* * *
Для только-большого искусство всегда самоцель, то есть чистая функция, без которой он не живет и за которую не отвечает. Для великого и высокого – всегда средство. Он сам – средство в чьих-то руках, как, впрочем, и только-большой – в руках иных. Вся разница, кроме основной разницы рук, в степени осознанности поэтом этой своей держимости. Чем поэт духовно больше, то есть, чем руки, его держащие, выше, тем сильнее он эту свою держимость (служебность) сознает. Не знай Гёте над собой и своим делом высшего, он никогда бы не написал последних строк последнего Фауста. Дается только невинному – или все знающему.
По существу, вся работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного (не собственного) задания. Равно как вся воля поэта – к рабочей воле к осуществлению. (Единоличной творческой воли – нет.)
К физическому воплощению духовно уже сущего (вечного) и к духовному воплощению (одухотворению) духовно еще не сущего и существовать желающего, без различия качеств этого желающего. К воплощению духа, желающего тела (идей), и к одухотворению тел, желающих души (стихий). Слово для идей есть тело, для стихий – душа.
Всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий. Бывает (о них уже сказано) – только идей. Бывает – и идей и стихий. Бывает – только стихий. Но и в этом последнем случае он все-таки чье-то первое низкое небо: тех же стихий, страстей. Через стихию слова, которая, единственная из всех стихий, отродясь осмысленна, то есть одухотворена. Низкое близкое небо земли.
* * *
В этом этическом подходе (требовании идейности, то есть высоты, с писателя) может быть вся разгадка непонятного на первый взгляд предпочтения девяностых годов Надсона – Пушкину, если не явно-безыдейному, то менее явно-идейному, чем Надсон, и предпочтения поколения предыдущего Некрасова-гражданина просто Некрасову. Весь тот лютый утилитаризм, вся базаровщина – только утверждение и требование высоты, как первоосновы жизни – только русское лицо высоты. Наш утилитаризм – то, что в пользу духу. Наша «польза» – только совесть. Россия, к ее чести, вернее к чести ее совести и не к чести ее художественности (вещи друг в друге не нуждающиеся), всегда подходила к писателям, вернее: всегда ходила к писателям – как мужик к царю – за правдой, и хорошо, когда этим царем оказывался Лев Толстой, а не Арцыбашев. Россия ведь и у арцыбашевского Санина училась жить!
МолитваЧто мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Все. Стихи к Богу есть молитва. И если сейчас нет молитв (кроме Рильке и тех малых сих молитв не знаю), то не потому, что нам Богу нечего сказать, и не потому, что нам этого чего некому сказать – есть что́ и есть кому – а потому, что совести не хватает хвалить и молить Бога на том же языке, на котором мы же, веками, хвалили и молили – решительно все. Чтобы сейчас на прямую речь к Богу (молитву) отважиться, нужно либо не знать, чту́ такое стихи, либо – забыть.
Потеря доверия.
* * *
Жестокое слово Блока о первой Ахматовой: «Ахматова пишет стихи так, как будто на нее глядит мужчина, а нужно их писать так, как будто на тебя смотрит Бог» – видоизменяя первую, обличительную, половину соответственно каждому из нас – в конце свято. Как перед Богом, то есть предстояние.
Но что в нас тогда устоит – и кто из нас?
Точка зренияПо отношению к миру духовному – искусство есть некий физический мир духовного.
По отношению к миру физическому – искусство есть некий духовный мир физического.
Ведя от земли – первый миллиметр над ней воздуха – неба, (ибо небо начинается сразу от земли, либо его нет совсем. Проверить по далям, явления уясняющим).
Ведя сверху неба – этот же первый над землей миллиметр, но последний – сверху, то есть уже почти земля, с самого верху – совсем земля.
Откуда смотреть.
* * *
(Так же и душа, которую бытовик полагает верхом духовности, для человека духа – почти плоть. Уподобление с искусством не случайное, ибо стихи – то, с чего глаз не свожу, говоря искусство – все событие стихов – от наития поэта до восприятия читателя – целиком происходит в душе, этом первом, самом низком небе Духа. Что́ отнюдь не в противоречии с искусством – природой. Неодушевленной природы – нет, есть только неодухотворенная.
Поэт! поэт! Самый одушевленный и как часто – может быть именно одушевленностью своей – самый неодухотворенный предмет!)
* * *
Fier quand je me compare[300]300
Гордый, когда я себя сравниваю (фр.).
[Закрыть] – нет! ибо ниже поэта и в счет не идет, все же достаточно гордости, чтобы по низшему не равняться. Ибо гляжу-то – снизу и упор не в моей низости, а в той высоте.
Humble quand je me compare, inconnu quand je me considе́re[301]301
Униженный, когда я себя сравниваю, неизвестный, когда я себя рассматриваю (фр.).
[Закрыть], ибо для того, чтобы что-либо созерцать, нужно над этим созерцаемым подняться, поставить между собою и вещью весь отвес – отказ – высоты. Ибо гляжу-то – сверху! Высшее во мне – на низшее во мне. И что же мне остается от этого лицезрения – как не изумиться… или не узнать.
Брала истлевшие листы
И странно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.
Так я когда-нибудь буду, нет, так я уже, порой, гляжу на свои стихи…
Небо поэта– Священник служит Богу по-своему, вы – по-своему.
– Кощунство. Когда я пишу своего Мо́лодца – любовь упыря к девушке и девушки к упырю – я никакому Богу не служу: знаю, какому Богу служу. Когда я пишу татар в просторах, я тоже никакому Богу не служу, кроме ветра (либо чура: пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны. Нужно различать, какие силы im Spiel[302]302
В игре (нем.).
[Закрыть]. Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду и чару за святость!
Искусство – искус, может быть самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли, та последняя тучка на последнем небе, на которую умирая глядел – ни на что уже тогда не глядевший и окраску которой словами пытался
– все слова тогда уже забывший брат брата – Жюль Гонкур.
Третье царство со своими законами, из которого мы так редко спасаемся в высшее (и как часто – в низшее!). Третье царство, первое от земли небо, вторая земля. Между небом духа и адом рода искусство чистилище, из которого никто не хочет в рай.
Когда я при виде священника, монаха, даже сестры милосердия – неизменно – неодолимо! – опускаю глаза, я знаю, почему я их опускаю. Мой стыд при виде священника, монаха, даже сестры милосердия, мой стыд – вещ.
– Вы делаете божеское дело.
– Если мои вещи отрешают, просвещают, очищают – да, если обольщают – нет, и лучше бы мне камень повесили на шею.
А как часто в одной и той же вещи, на одной и той же странице, в одной и той же строке и отрешают и обольщают. То же сомнительное пойло, что в котле колдуньи: чего только не навалено и не наварено!
* * *
Ско́льких сгубило, как малых – спасло!
* * *
И – мгновенный рипост обвиняемого:
Темная сила!
Мpa-ремесло!
Скольких сгубило,
Как малых – спасло.
Боюсь, что и умирая… Мра, кстати, беру как женское имя, женское окончание, звучание – смерти. Мор. Мра. Смерть могла бы называться, а может быть где-нибудь, когда-нибудь и называлась – Мра. Слово-творчество, как всякое, только хождение по следу слуха народного и природного. Хождение по слуху. Et tout le reste n’est que littе́rature[303]303
А все остальное – лишь литература (фр.).
[Закрыть].
* * *
Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его богов.
Никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего (что́ было и у язычников). Большинство же и этого не знают и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что одно уже сопоставление этих имен – кощунство и святотатство.
Искусство было бы свято, если бы мы жили тогда или те боги – теперь. Небо поэта как раз в уровень подножию Зевеса: вершине Олимпа.
Зерно зерна
…И шлешь ответ.
Тебе ж нет отзыва… Таков
И ты, поэт!
Не-поэт, над-поэт, больше чем поэт, не только поэт – но где же и что же поэт во всем этом? Der Kern des Kernes, зерно зерна.
Поэт есть ответ.
От низшей степени простого рефлекса до высшей – гётевского ответствования – поэт есть определенный и неизменный душевно-художественный рефлекс: на что́ – уже вопрос – может быть, просто объема мозга. Пушкин сказал: на все. Ответ гения.
Этот душевно-художественный рефлекс и есть зерно зерна, объединяющее и безымянного автора частушки и автора Второго Фауста. Без него поэта нет, вернее оно-то и есть поэт. Никакими извилинами мозга не объяснимое чудо поэта.
Рефлекс до всякой мысли, даже до всякого чувства, глубочайшая и быстрейшая, как электрическим током, пронзенность всего существа данным явлением и одновременный, почти что преждевременный на него ответ.
Ответ не на удар, а на колебание воздуха – вещи еще не двинувшейся. Ответ на до-удар. И не ответ, а до-ответ. Всегда на явление, никогда на вопрос. Само явление и есть вопрос. Вещь поэта самоударяет – собой, самовопрошает – собой. Приказ к ответу самого явления – еще не явленного и явленного только через ответ. Приказ? Да, если SOS – приказ (неотразимейший из всех).
Раньше, чем было (было-то всегда, только до времени еще не дошло, – так тот берег еще не дошел до парома). Оттого рука поэта так часто и повисает в воздухе, что упор – во времени – еще не существует (nicht vorhanden[304]304
Не имеется (нем.).
[Закрыть]). Рука поэта – пусть повисла в воздухе! – явление создает (досоздает). Эта рука, повисшая в воздухе, и есть поэтово – несовершенное, полное отчаяния, но все же творческое, все же: будь. (Кто меня звал? – Молчание. – Я должен того, кто меня звал, создать, то есть – назвать. Таково поэтово «отозваться».)
Еще одно. «Душевно-художественный рефлекс». Художественно-болевой, ибо душа наша способность к боли – и только. (К не-головной, не-зубной, не-горловой – не – не – не и т. д. боли – и только.)
Это зерно зерна поэта – непременное художество в сторону – сила тоски.
Правда поэтовТакова и правда поэтов, самая неодолимая, самая неуловимая, самая бездоказательная и убедительная, правда, живущая в нас только какую-то первую згу восприятия (что это было?) и остающаяся в нас только, как след света или утраты (да было ли?). Правда безответственная и беспоследственная, которой – ради Бога – и не пытаться следовать, ибо она и для поэта безвозвратна. (Правда поэта – тропа, зарастающая по следам. Бесследная бы и для него, если бы он мог идти позади себя.) Не знал, что произнесет, а часто и что́ произносит. Не знал, пока не произнес, и забыл, как только произнес. Не одна из бесчисленных правд, а один из ее бесчисленных обликов, друг друга уничтожающих только при сопоставлении. Разовые аспекты правды. Просто – укол в сердце Вечности. Средство: сопоставление двух самых простых слов, ставших рядом именно так. (Иногда – разъединение одного тире!)
Есть такой замо́к, открывающийся только при таком-то соединении цифр, зная которое открыть – ничто, не зная – чудо или случай. Чудо-случай, происшедшее кстати с моим шестилетним сыном, повернувшим и открывшим защелкнутую у себя на шее такую цепочку сразу и этим повергшим обладателя цепочки – в ужас. Знает или не знает поэт соединение цифр? (В поэтовом случае – ибо весь мир под замком и все надо открыть – каждый раз разное, что ни вещь, то замок, а под замком данная правда, каждый раз разная – единоразовая – как сам замок.) Знает ли поэт все соединения цифр?
* * *
У моей матери было свойство – переставлять среди ночи, когда остановились, часы. В ответ на их, вместо тикания, тишину, от которой, вероятно, и просыпалась, переводить в темноте, не глядя. Утром часы показывали то, полагаю – именно то абсолютное время, которого так и не добился тот несчастный коронованный созерцатель стольких противоречивых циферблатов и слушатель стольких несовпадающих звонов.
Часы показывали то.
* * *
Случайность? повторяющаяся каждый раз, есть в жизни человека – судьба, в мире явлений – закон. Это был закон ее руки. Закон знания ее руки.
Не: «у моей матери было свойство», у ее руки было свойство – правды.
Не играючи, как мой сын, не самоуверенно, как хозяин замка, и не веще, как тот предполагаемый математик – и слепо и веще – повинуясь только руке (которая – сама – чему?) – так поэт открывает замок.
Одного только жеста у него нет: самоуверенного – в себе как в замке уверенного – жеста собственника замка. Поэту в собственность не принадлежит ни один замок. Потому открывает все. И потому же, открывая каждый сразу, вторично не откроет ни одного. Ибо не собственник, а только прохожий секрета.
Состояние творчестваСостояние творчества есть состояние наваждения. Пока не начал – obsession[305]305
Одержимость (фр.).
[Закрыть], пока не кончил – possession[306]306
Обладание (фр.).
[Закрыть]. Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто – он? То, что через тебя хочет быть.
Меня вещи всегда выбирали по примете силы, и писала я их часто – почти против воли. Все мои русские вещи таковы. Каким-то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня. И убедили, обольстили – чем? моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись – когда зряче, когда слепо – повиновалась, выискивала ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов (не рифм! посреди строки) выбирала сто первое, а она (вещь), на все сто эпитетов упиравшаяся: меня не так зовут.
Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинуясь неизвестной необходимости, поджигаешь дом или сталкиваешь с горы приятеля. Твой ли это поступок? Явно – твой (спишь, снишь ведь ты!). Твой – на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы.
Ряд дверей, за одной кто-то – что-то – (чаще ужасное) ждет. Двери одинаковы. Не эта – не эта – не эта – та. Кто мне сказал? Никто. Узнаю нужную по всем неузнанным (ту – по всем не-тем). Так и со словами. Не это – не это – не это – то. По явности не-этого узнаю то. Всякому спящему и пишущему родной – удар узнавания. О, спящего не обманешь! Знает друга и врага, знает дверь и знает провал за дверью – и на все это: и друга, и врага, и дверь, и дыру – обречен. Не обманет спящего даже сам спящий. Тщетно говорю себе: не войду (в дверь), не загляну (в окно) – знаю, что войду, еще говоря: не загляну – заглядываю.
О, спящего не спасешь!
Есть, впрочем, и во сне лазейка: когда будет слишком ужасно – проснусь. Во сне – проснусь, в стихах – упрусь.
Кто-то мне о стихах Пастернака: – Прекрасные стихи, когда вы все так объясните, но к ним бы нужно приложить ключ.
Не к стихам (снам) приложить ключ, а сами стихи ключ к пониманию всего. Но от понимания до принимания не один шаг, а никакого: понять и есть принять, никакого другого понимания нет, всякое иное понимание – непонимание. Недаром французское comprendre одновременно и понимать, и обнимать, то есть уже принять: включить.
Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии – следовательно и бунта – нет. Пушкин Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева – любил. Недаром все ученики одной замечательной и зря-забытой поэтессы[307]307
Имеется в виду Елизавета Дмитриева.
[Закрыть], одновременно преподавательницы истории, на вопрос попечителя округа: «Ну, дети, кто же ваш любимый царь?» – всем классом: «Гришка Отрепьев!»
Найдите мне поэта без Пугачева! без Самозванца! без Корсиканца! – внутри. У поэта на Пугачева может только не хватить сил (средств). Mais 1'intention у est – toujours[308]308
Но намерение есть всегда (фр.).
[Закрыть].
Не принимает (отвергает и даже – извергает) человек: воля, разум, совесть.
В этой области у поэта может быть только одна молитва: о непонимании неприемлемого: не пойму, да не обольщусь, единственная молитва поэта – о неслышании голосов: не услышу – да не отвечу. Ибо услышать, для поэта – уже ответить, а ответить – уже утвердить – хотя бы страстностью своего отрицания. Единственная молитва поэта – молитва о глухости. Или уж – труднейший выбор по качеству слышимого, то есть насильственное затыкание себе ушей – на ряд зовов, неизменно-сильнейших. Выбор отродясь, то есть слышанье только важного – благодать, почти никому не данная.
(На Одиссеевом корабле ни героя, ни поэта не было. Герой тот, кто и несвязанный устоит, и без воску в ушах устоит, поэт тот, кто и связанный бросится, кто и с воском в ушах услышит, то есть опять-таки бросится.
Единственное отродясь не понимаемое поэтом – полумеры веревки и воска.)
Вот Маяковский поэта в себе не превозмог и получился революционнейшим из поэтов воздвигнутый памятник добровольческому вождю. (Поэма «Крым»[309]309
Поэмы с таким названием у В. Маяковского нет. Возможно, речь идет о фрагменте из поэмы «Хорошо!».
[Закрыть], двенадцать бессмертных строк.) Нельзя не отметить лукавства тех или иных сил, выбирающих себе глашатая именно из врагов. Нужно же, чтобы тот последний Крым был дан – именно Маяковским.
Когда я тринадцати лет спросила одного старого революционера: – Можно ли быть поэтом и быть в партии? – он не задумываясь ответил: – Нет.
Так и я отвечу: – Нет.
* * *
Какова же стихия, каков же демон, вселившийся в тот час в Маяковского и заставивший его написать Врангеля. Ведь Добровольчество, теперь уже всеми признано, стихийным не было. (Разве что – степи, которыми шли, песни, которые пели…)
Не Белое движение, а Черное море, в которое, трижды поцеловав русскую землю[310]310
Маяковский. – Примеч. М. Цветаевой.
[Закрыть], ступил Главнокомандующий.
Черное море того часа.
* * *
Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям.
Чужим? А есть ли для поэта – чужое? Пушкин в Скупом Рыцаре даже скупость присвоил, в Сальери – даже без-дарность. Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев.
Тогда скажу: не хочу не вполне моего, не заведомо моего, не са́мого моего.
А если самое-то мое (откровение сна) и есть – Пугачев?
– Ничего не хочу, за что в 7 ч. утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру.
За Пугачева – не умру – значит не мое.
* * *
Обратная крайность природы есть Христос.
Тот конец дороги есть Христос.
Всё, что между – на полдороге.
И не поэту же, отродясь раздорожному, отдавать свое раздорожье – родной крест своего перекрестка! – за полдороги общественности или другого чего-либо.
Душу отдать за други своя.
Только это в поэте и может осилить стихию.
Intoxiquе́s[311]311Одержимые (фр.).
[Закрыть]
«– Когда я нахожусь среди литераторов, художников, таких… у меня всегда чувство, что я среди… intoxiquе́s.
– Но когда вы с большим художником, большим поэтом, вы этого не скажете, наоборот: все остальные покажутся вам отравленными».
(Разговор после одного литературного собрания)
Когда я говорю об одержимости людей искусства, я вовсе не говорю об одержимости их искусством.
Искусство есть то, через что стихия держит – и одерживает: средство держания (нас – стихиями), а не самодержание, состояние одержимости. Не делом же своих двух рук одержим скульптор и не делом же своей одной поэт!
Одержимость работой своих рук есть держимость нас в чьих-то руках.
– Это – о больших художниках.
Но одержимость искусством есть, ибо есть – и в безмерно-большем количестве, чем поэт – лже-поэт, эстет, искусства, а не стихии, глотнувший, существо погибшее и для Бога и для людей – и зря погибшее.
Демон (стихия) жертве платит. Ты мне – кровь, жизнь, совесть, честь, я тебе – такое сознание силы (ибо сила – моя!), такую власть над всеми (кроме себя, ибо ты – мой!), такую в моих тисках – свободу, что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть – мала, всякая иная свобода – тесна
– и всякая иная тюрьма – просторна.
Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему платит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки. Сколько я их видала, безруких поэтов. С рукой, пропавшей для иного труда.
* * *
Робость художника перед вещью. Он забывает, что пишет не он. Слово мне Вячеслава Иванова (Москва, 1920 г., убеждал меня писать роман) – «Только начните! уже с третьей страницы вы убедитесь, что никакой свободы нет», – то есть: окажусь во власти вещей, то есть во власти демона, то есть только покорным слугой.
Забыть себя есть прежде всего забыть свою слабость.
Кто своими двумя руками когда-либо вообще что-нибудь мог?
Дать уху слышать, руке бежать (а когда не бежит – стоять).
Недаром каждый из нас по окончании: «Как это у меня чудно вышло!» – никогда: «Как это я чудно сделал!» Не «чудно вышло», а чудом – вышло, всегда чудом вышло, всегда благодать, даже если ее посылает не Бог.
– А доля воли во всем этом? О, огромная. Хотя бы не отчаяться, когда ждешь у моря погоды.
На сто строк десять – данных, девяносто – заданных: недававшихся, давшихся, как крепость – сдавшихся, которых я добилась, то есть дослушалась. Моя воля и есть слух, не устать слушать, пока не услышишь, и не заносить ничего, чего не услышал. Не черного (в тщетных поисках исчерканного) листа, не белого листа бояться, а своего листа: самовольного.
Творческая воля есть терпение.









































