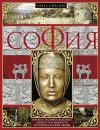Текст книги "Тарковские. Осколки зеркала"

Автор книги: Марина Тарковская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Елисаветградские кружки и их предатели
В «Очерке революционного движения восьмидесятых годов в городе Елисаветграде», написанном в двадцатые годы, участник украинского кружка «Громада», друг семей Тобилевичей и Тарковских доктор Афанасий Иванович Михалевич пишет, что свидетельств о деятельности кружков почти нет, потому что «архив жандармского управления был кем-то похищен из архива окружного суда и продан базарным торговкам на вес как оберточная бумага».
Но вопреки этому обескураживающему сообщению Афанасия Ивановича кое-что сохранилось. Есть приведенное выше «Заключение», есть протоколы показаний Михалевича и Тарковского, есть так называемый «Обзор, написанный рукою обвиняемого Дудина во время содержания его под стражей в Елисаветградском Тюремном замке и составленный по показаниям его, Евгения Хороманского и Виктора Верняковского во время совместного их содержания».
Выдавали товарищей трое из арестованных (Хороманский, Верняковский, Дудин), а Евгений Чикаленко в «Воспоминаниях» называет и четвертого – служащего земства Дьяченко.
Благодаря усердию художника Дудина, подробно написавшего о работе Елисаветградского кружка самообразования, в конце февраля 1883 года переименованного в Елисаветградский народовольческий кружок, я узнала подробности противоправительственной деятельности дедушки Александра Карловича. Как тут не возникнуть крамольной мысли о пользе предательства!
Если же говорить серьезно, то во всей драматической истории провала кружков мне интереснее всего понять мотивы предательства Хороманского и Дудина – «главных» предателей. При этом надо учесть, что в восьмидесятые годы в Елисаветграде физических воздействий на подследственных не допускалось.
История Евгения Хороманского, о котором сложилось мнение как о «легкомысленном, неустойчивом молодом человеке, которого рабочие иначе чем “Женька” не называли»[27]27
Красные вехи: сборник воспоминаний и материалов по истории революционного движения на Зиновьевщине / под ред. Магри. Первый выпуск. Зиновьевск, 1925.
[Закрыть], – это история слабого человека, не выдержавшего давления и угроз следователей и позже раскаявшегося в своей слабости.
Хороманский – дворянин, интеллигент, учился в реальном училище, но курса не окончил. Арестованный одним из первых по делу народовольческого кружка, он находился сначала в елисаветградской тюрьме. В городе скоро стало известно, что он выдает своих товарищей, и когда через пять месяцев он выходит на свободу, никто из знакомых не здоровается с ним. Говорят, что он и Дудин, тоже выпущенный из тюрьмы, находятся в постоянной связи с жандармерией. Хороманский уезжает в Харьков, где жандармы обещали ему работу, но обещанного места не получает.
И Хороманский и Дудин были уверены, что за свое сотрудничество с жандармами они получат свободу. Но через год с небольшим их вновь арестовали и отправили в Москву, в Бутырскую тюрьму, где содержались подследственные елисаветградцы.
В Бутырках Евгений Хороманский написал письмо своим бывшим друзьям – оно было передано тайком из Северной башни будущему автору книги «Ненастоящая тюрьма» Коцюбе[28]28
Возможно, фамилия Коцюба – псевдоним автора.
[Закрыть]. Вот отрывок из письма Хороманского: «Я был арестован. Описывать вам возмутительные сцены выпытывания, запугивания я не буду, так как они хорошо известны каждому из вас; но то, что на взрослого здорового человека не оказало бы влияния, на мне не могло не отразиться самым гибельным образом.
Вышедши на свободу после пятимесячного заключения, я был вполне уверен, что избавился от каторги и, к стыду своему, радовался. Но это было только на первых порах. Долго обманывать самого себя, успокаивать нелепыми афоризмами было невозможно. Начались мучения, вызываемые угрызениями совести, которые возрастали по мере возвращения сознания, овладевшего мною…
Как ни странно, но я был способен ходить к жандармам, с непонятным для меня цинизмом я смеялся над тем, чему недавно поклонялся… Мои действия не были у меня проявлением свободной воли. Это было одно из проявлений гипнотизма…»
В конце письма Хороманский просит у товарищей прощения за свой иудин грех.
Когда Евгений Хороманский вернулся из ссылки на родину – он отбывал ссылку в Енисейской губернии и был отпущен досрочно, – от него отвернулись решительно все. Он был вынужден уехать из Елисаветграда и умер вскоре от разрыва сердца в городе Каменец-Подольске.
Трагическая и старая как мир история. История предательства, раскаяния и гибели…
С Самуилом Дудиным дело обстояло иначе. Вот его характеристика из статьи «Народовольческие кружки (1879–1884)»: «Дудин стоит того, чтобы сказать о нем несколько слов. Крестьянин по происхождению, с несомненными организаторскими способностями, художник, человек, который исполняет хорошо и точно всякое дело, за которое возьмется, – это была натура с несколько скептическим настроением. Народовольчество его не удовлетворяло. В последнее время он весь входит в изучение Маркса, делает длиннейшие выписки и вырабатывает странную теорию. “Настоящий социализм будет, он придет мирным путем и последовательно. Революция вредит только социализму”».
Об этой теории Дудина рассказывает А.И.Михалевич в своем «Очерке революционного движения восьмидесятых годов в городе Елисаветграде»: «Настоящий социализм, по его (Дудина) мнению, должен распространиться последовательно и мирным путем. Все насильственные действия, все идеи переворота и революции крайне вредны для распространения социализма, и самые опасные враги – это революционеры. Поэтому для будущего торжества социализма их нужно уничтожать всеми способами. И он, Дудин, начинает эту борьбу и отдает в жертву своих товарищей, прочищая таким образом путь для социализма. Он в это время читает Маркса и делает из него длиннейшие выписки и в то же время, обладая колоссальной памятью, сообщает жандармерии всю фактическую сторону революционеров и соприкасавшихся с ними лиц, в общем до 120-ти фамилий, дает тонкие характеристики. Он не щадит и себя, отлично зная, что пострадать ему не придется. Не довольствуясь этим, он составляет очерк революционного движения в гор. Елисаветграде, очень ценный документ по своей обстоятельности и детальности. Мало того, он рисует на память портрет члена харьковской организации, жившего несколько месяцев в Елисаветграде и руководившего кружком. Этот портрет должен был служить для ареста последнего, так как его фамилия была неизвестна. Дудин выдал и рабочий кружок, т. к. он был связью между народовольческим и рабочим кружком…»
Итак, Дудин из идейных соображений выдает товарищей по кружку, в то время как сам в течение трех лет был его участником. Безо всякого принуждения, по своей воле, он работал для кружка – вырезал печати, принимал участие в гектографировании воззваний, встречался с рабочими.
Есть упоминание о том, что Тарковский не доверял Дудину. И Дудин как умный человек не мог этого не чувствовать. Из его «Обзора» очевидно, что фигура Тарковского его раздражала. Ведущая роль Тарковского подчеркивается Дудиным с нескрываемой иронией. Он не отказывает себе в удовольствии обрисовать его со смешной стороны. «1 марта 1883 года была попытка внести некоторое разнообразие в программу. В этот день сперва предполагалось поговорить по поводу события 1 марта 1881 года, выяснить его значение для русской жизни, для партии, а потом порешили и отпраздновать этот день, но в самый вечер его такая программа была забыта, и из вечера, который должен был иметь демократический характер, он обратился в пьяную вечеринку, о которой мы и говорить не станем.
Правда, со стороны Тарковского была попытка произнести речь, но эта попытка была пьяная и окончилась ничем, как и весь вечер».
Слова, которыми Дудин описывает деятельность Тарковского, подбираются с оттенком уничижения: «Тарковский вздумал было издавать сборник статей», «Началась индивидуальная работа, которой из Харькова лично дирижировал Тарковский».
Теория мирного перехода к социализму была, по словам самого Тарковского, придумана Дудиным для оправдания своего гнусного поступка. А ведь какая замечательная теория! И как бы мне хотелось оправдать умницу Дудина, пришедшего к этой теории задолго до революции и Гражданской войны!
Но почему же он не выступил с ней году в восьмидесятом, когда в Елисаветграде началось брожение среди молодежи? Почему он не пропагандировал ее и не отстаивал свои взгляды? Почему он заговорил о ней только тогда, когда начались аресты кружковцев? Почему он не раскаялся в своем предательстве, как Хороманский, а продолжал жить как ни в чем не бывало?
После ссылки в Забайкальскую область, которую он не отбыл целиком, Дудин переезжает в Петербург (ему было позволено жить в столице), поступает в Академию художеств и кончает ее. Его выпускной работой были иллюстрации к «Кобзарю» Тараса Шевченко. Дудин остается работать в Академии художеств, какое-то время он был там, кажется, библиотекарем. Но все же Дудин нашел применение своему художественному таланту – занялся фотографией. Коллекцией его снимков гордятся Этнографический музей и Кунсткамера в Санкт-Петербурге.
Прошло более ста лет со времени елисаветградского дела. Ошибки благородных бунтарей, желающих через кровь и насилие прийти ко всеобщему благоденствию, теперь очевидны. Солдатский сын Самуил Дудин был прав – к социализму надо идти мирным путем.
Но оправдать его предательство я не могу.
«День творенья» – 25 июня
Да не коснутся тьма и тлен
Июньской розы на окне…
А.Тарковский
Ощущение приближения праздника возникало задолго до двадцать пятого.
Волнение постепенно нарастало – надо было приготовиться к этому дню, подумать, что купить папе, что надеть. Денег обычно было немного, так что на роскошный подарок не хватало. Однако что-то покупалось – или одеколон (папа любил «Лаванду»), или крем для бритья. Как-то я подарила папе старинный флакон с серебряной пробкой, помню еще байковую клетчатую, красную с черным, рубашку. Зачем я перечисляю свои подарки, ей-богу, не знаю. Жалею, наверное, что все это были какие-то мелочи и что ни разу не подарила папе чего-то значительного, как, к примеру, Андрей, который для него привез из-за границы электрическую бритву.
Помню дни рождения, которые отмечались на Аэропортовской. Собиралась разная публика – список приглашаемых составляла Татьяна Алексеевна, поэтому, помимо папиных друзей или знакомых того или иного периода (менялось время, менялись друзья), были и так называемые «нужники». Эти, может быть, милые люди чувствовали себя не в своей тарелке и стесняли остальных. Мы, папины дети, расценивались Татьяной Алексеевной тоже как гости и наравне с другими заносились ею в список приглашенных.
Веселее проходили дни рождения в Голицыне. Если была хорошая погода, то все выходили в садик. Там папа делал шашлык, пек картошку. Вообще, праздничный стол обычно организовывал папа. Иногда он сам ходил на рынок, в магазин, покупал закуски, вино. Приезжающие из Москвы гости дополняли арсенал вин, привозили торты к чаю. Татьяна Алексеевна готовить не любила, она могла купить что-нибудь из полуфабрикатов, разложить по тарелкам нарезанные ветчину и сыр. Но все эти ненужные, может быть, подробности вспоминаются сейчас. А тогда было очень радостно прийти к папе, поздравить его, поцеловать свежевыбритую щеку, увидеть, как он разворачивает сверток с подарком, услышать его радостные восклицания, почувствовать его ответный благодарный поцелуй.
На более поздние дни рождения, когда к папе пришла слава, когда у него появились ученики и поклонники, съезжалось очень много народа, причем это происходило стихийно и невозможно было ограничить число гостей – каждый хотел поздравить папу с его днем. Хорошо, если заказывался стол в Доме творчества или в Доме литераторов, тогда можно было усадить и угостить всех, выслушать поздравления, тосты и пожелания. Сказать по правде, мне больше нравились те, давние дни рождения, когда папу не окружала толпа поклонников, среди которых было много случайных людей…
День рождения 1985 года, такой счастливый для меня! Я предложила папе и Татьяне Алексеевне отметить день рождения у нас (они тогда уже жили в Доме ветеранов кино), и – о радость! – Татьяна Алексеевна согласилась. Конечно, тесновато, но об этом не думаю, как-нибудь усядемся все. Приглашено человек двадцать, да еще пришла съемочная группа – два человека, поставили осветительные приборы, камеру. Кинорежиссер Вячеслав Амирханян будет снимать здесь эпизод для будущего документального фильма об Арсении Тарковском «Малютка-жизнь».
А я рада, что приготовила замечательный стол, что гости будут есть не засушенные казенные пирожки, а домашние пироги – с капустой и сладкие, к чаю. Все мои задействованы – Саша раздвигает стол, перемывает бокалы, Катя ставит приборы. Я ношусь из кухни в комнату, забыв, что на волосах бигуди, а оператор снимает и снимает.
Позже, когда Слава Амирханян показывал отснятый материал, Татьяна Алексеевна заметила: «Марина сияет!» (Помню ироническую интонацию ее голоса.) Я действительно «сияла», мне так всегда хотелось, чтобы мы с папой были одной семьей и чтобы я не была гостьей за его столом, как бывало все прежние годы…
И был последний папин день рождения, 25 июня 1988 года. И вспоминать об этом дне мне мучительно больно, но я все-таки расскажу о нем, потому что мне надо расстаться наконец с этой болью и простить тех (не знаю, смогу ли?), кто причинил боль не только мне, но и папе, старому, больному и беспомощному человеку.
В июне 88-го года стояла страшная жара. Двадцать пятого часов в двенадцать – телефонный звонок, голос Татьяны Алексеевны: «Марина, сейчас друзья нас увозят в Протвино». – «Как, Татьяна Алексеевна, туда ехать сто километров, такая жара, папа очень слаб, он просто не доедет». – «Ничего, мы откроем окно». Разговор окончен.
Приехали с дачи Катя и невестка Наташа (она ждала тогда второго ребенка), но поздравить папу им не довелось. У нас дома мы грустно отметили дедушкино рождение.
Папа часто в шутку называл меня «моя Корделия». Где им было знать, этим дамам (а в заговоре, помимо папиной жены, принимала участие и бывшая жена Андрея Ирма, которую тогда я считала своим верным другом), увозившим от меня папу (как выяснилось позже, на дачу в Голицыно), что этот день был дорог нам не только светлой радостью, но и всеми прожитыми годами, всеми пережитыми невзгодами и потерями, памятью о маме и об Андрее. У нас с папой отняли этот последний день его рождения, но не смогли отнять нашу память и нашу любовь…
Папиных дней рождения довоенных мы не знали, были малы. К тому же каждое лето мама нас вывозила из Москвы, поэтому в лучшем случае мы с Андреем под «идейным руководством» взрослых осчастливливали папу нашими поздравительными каракулями. Мама пишет папе с хутора Горчакова:
25 июня 36.
Дорогой папочка! Сегодня день твоего рождения, Андрюшка рисует тебе картинку. Мы сидим под соснами за столом, а Мышка бегает в полосатом платьице и норовит уйти рвать зеленую смородину…
Во время войны и мама, и мы, конечно же, помнили про папин день рождения. Мама считала этот день знаменательным и относилась к нему почти мистически.
15 июня 42.
Милый Ася! Поздравляю тебя с рожденьишком и желаю скорей-скорей кончить эту войну, прогнать немцев и здоровым вернуться домой. Думаю, что к 25 письмо дойдет. Твои письма шли одно 7 дней, второе – 9. Вспоминай 25 про нас, мы будем в этот день говорить и думать про тебя… Напиши, что будешь делать на рождение… Мариночка поздравляет тебя со днем рождения и посылает (оба посылают) тебе лепестков от розы.
Маруся.
25 июня 42.
Милый Асик! Еще раз поздравляем тебя со днем рождения, будь здоров и поправляйся скорей! Сегодня мы праздновали твое рождение: у нас был пирог с саго и 3 литра пива. Даже Мышу дали немного. И случайно пришла та тетя (Екатерина Александровна Дружинина. – М.Т.), где мы с Андреем играем на пианино, и пили за твое здоровье. Вот уж, теперь-то все у тебя будет хорошо!
Маруся.
25 июня 42.
Милый папа! Поздравляю тебя с днем рождения! На твое рождение мы пекли пироги. У нас вернулся Груздев без ноги с войны, они живут на той стороне коридора. Они все рады… Целую крепко-крепко.
Андрей Тарковский.
8 июля 42.
Милый Асик!.. Раз день рождения у тебя прошел благополучно, теперь я совсем на твой счет спокойна – я совершенно непоколебимо уверена, что ты вернешься благополучно.
Маруся.
А если говорить о мистике, то возвращение с фронта соседа Груздева, потерявшего ногу, о котором писали папе и Андрей и мама, возможно, предвещало папину судьбу.
26 июня 42.
…На днях вернулся совсем наш сосед. У него нет ноги, но сколько было радости! У него трое детей, и ему, и жене по 26 лет. Визг радостный стоял на весь дом. Даже наши ребята сидели на окне и ждали, когда он придет (вещи принесли раньше). Когда все успокоилось, и я их, наконец, разложила по постелям, Марина подняла вой: когда же приедет наш папа. Кое-как ее уговорили…
Маруся.
Прошел еще один долгий-долгий военный год.
29 июня 43.
Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения и орденом Красной Звезды! Папа, напиши, за что ты получил орден. Кто рисовал картинки на открытке?… Целую крепко-крепко.
Твой А.Т.
Все проходит, кончилась и война. Папа вернулся…
Он прожил долгую жизнь. И было в его жизни много-много дней рождения, «малиновых» и «серых» – военных и мирных, грустных и веселых, которые он отмечал в «эпохи» трех очень разных жен в очень разных домах. И в этот значительнейший из его дней иногда рождалось стихотворение. Я насчитала восемь стихотворений, под которыми стоит дата 25 июня. Они написаны в 1928, 1931, 1934, 1936 (два стихотворения), 1938, 1940, 1945 годах. В публикациях папа иногда менял год написания стихотворения; понять причину таких изменений теперь, увы, невозможно. Стихи также писались в июне и до и после дня рождения. Стихотворение «Кто может умереть – умрет», написанное 11 июня 1940 года, в рукописных тетрадях имеет заголовки – в одной «25 июня 1939 года», в другой – «25 июня 1940 года». Такая работа над июньскими стихами – свидетельство особого внимания поэта к этому дню.
Шли годы, папа уже не писал стихотворений в свой день рождения. Он мучительно переживал начало старения, а каждый прожитый год приближал его к старости.
Пора бы мне собственный возраст понять,
Пора костылями поменьше стучать,
Забыть о горячке певучей,
Пора наполнять не стихами тетрадь,
А прозой без всяких созвучий…
«Детей надо баловать, – скажет Арсений Тарковский в конце жизни. – Меня очень любили. Мне на день рождения пекли воздушный пирог».
После 1917 года воздушный пирог никогда больше не пекли. Но день рождения остался самым важным днем в жизни папы, днем радостным, полным приятных волнений, праздничных приготовлений, ожиданием гостей, встречами с друзьями… Однако этот день ощущался папой не только как праздник. День рождения был для него важным духовным рубежом, днем подведения итогов еще одного прожитого года, днем внутреннего очищения, днем надежды на счастье и на возрождение.
Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
Но все мне кажется, что розы на окне,
И не признательность, а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне…
В 1976 году папа написал стихотворение о своем рождении. Свое появление на свет он ощущал как событие грандиозное, которое можно сравнить лишь с днем сотворения первого человека:
Душу, вспыхнувшую на лету,
Не увидели в комнате белой,
Где в перстах милосердных колдуний
Нежно теплилось детское тело.
Дождь по саду прошел накануне,
И просохнуть земля не успела;
Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело.
И в июле, и в августе было
Столько света в трех окнах, и цвета
Столько в небо фонтанами било
До конца первозданного лета,
Что судьба моя и за могилой
Днем творенья, как почва, прогрета.
В 1907 году 12 июня старого стиля появилось на свет маленькое существо, и Господь вложил в него душу, и чудо это никем не было замечено в беленой комнате одноэтажного дома № 49, что против мельницы Озерянского на Александровской улице в Елисаветграде.
Просто у Марии Даниловны и Александра Карловича Тарковских родился еще один мальчик – Арсений, Асик, домашнее прозвище – Муц.
Вокзал, сирень и белая акация
Дмитрию Баку
«Есть блаженное слово – провинция, есть чудесное слово – уезд.
Столицами восторгаются, восхищаются, гордятся. Умиляет душу только провинция.
Небольшой городок, забытый на географической карте, где-то в степях Новороссии, на берегу Ингула, преисполняет сердце волнующей нежностью, сладкой болью».
Есть город, на реке стоит,
Но рыбы нет в реке,
И нищий дремлет на мосту
С тарелочкой в руке.
…………………………………………
Но вспомнить я хочу себя
И город над рекой.
Я вспомнить нищего хочу
С протянутой рукой, –
Когда хоть ветер говорил
С тарелочкой живой…
И этот город наяву
Остался бы со мной.
«Город держался на трех китах: Вокзал. Тюрьма. Женская гимназия.
Шестое чувство, которым обладал только уезд, было чувство железной дороги. В названиях станций и полустанков была своя неизъяснимая поэзия, какой-то особенный ритм, тайна первого колдовства и великого очарования…
А за зеркальными стеклами первого класса мелькали генеральские околыши, внушительные кокарды; и женская рука в лайковой перчатке еще долго размахивала батистовым платком, и запах французских духов, которые назывались “Cœur de Jeannette”[29]29
«Сердце Жаннетты» (фр.).
[Закрыть], смешивался с паровозным дымом, и в сердце было какое-то замирание и трепет.
Раздавался пронзительный свисток машиниста, и начальник станции, в красной фуражке, высоко и многозначительно подымал свой фонарик, и длинный поезд, огибая водокачку, тюрьму и женскую гимназию, исчезал за шлагбаумом, в сумерках короткого осеннего дня».
Как сорок лет тому назад
Я вымок под дождем, я что-то
Забыл, мне что-то говорят,
Я виноват, тебя простят,
И поезд в десять пятьдесят
Выходит из-за поворота.
В одиннадцать конец всему,
Что будет сорок лет в грядущем
Тянуться поездом идущим
И окнами мелькать в дыму…
Прозаический текст написан поэтом Дон-Аминадо, Аминадом Петровичем Шполянским (1888–1957). (Не его ли родные – братья Шполянские – держали в Елисаветграде типографию?) В воспоминаниях «Поезд на третьем пути» город своей юности Елисаветград он назвал Новоградом. В стихах Тарковского, родившегося почти на двадцать лет позже, название отсутствует, есть просто Город.
И Дон-Аминадо, покинувший «Новоград» задолго до революции, а после нее уехавший в эмиграцию, и Тарковский, проживший в России свою «горчайшую жизнь», вспоминают этот город с особой ностальгической любовью.
Но какое разное мироощущение у двух поэтов-земляков: «Потерянный, невозвращенный рай!» – восклицает Дон-Аминадо, и «Бедный город мой», – пишет Тарковский. Всего несколько десятков лет, а какие они разные, эти два города, отделенные один от другого революцией и двумя войнами. Давным-давно нет «генеральских околышей», «внушительных кокард» и дам в лайковых перчатках. Прошло детство, ушла юность. Остался разбитый войною вокзал…
А какие разные характеры у авторов – один бойкий, восторженный гимназист, изгнанный из «новоградской» гимназии «за бросание фуражек на сцену» городского театра «в момент предельного пароксизма» – восторга от «Принцессы Грёзы» Ростана. В эмиграции Дон-Аминадо – популярный газетный фельетонист, уверенный в себе, остроумный, дерзкий, победительный. И другой – трагически задумчивый, «похожий на Раскольникова с виду», переживший в детстве Гражданскую войну, гибель любимого брата, смерть отца, несчастливую любовь, затем еще одну войну и тяжелое ранение в 1943 году. И самое трудное – многолетнее отлучение от читателя.
И все-таки так много общего в воспоминаниях и того и другого!
«Но в Царствие небесное будут допущены только те, кто не стыдился невольно набежавших слез, когда под окном играла шарманка, в лиловом бреду изнемогала сирень…»
…Дождь по саду прошел накануне,
И просохнуть земля не успела;
Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело…
И появится в стихах Тарковского то же, что и у поэта-эмигранта, – сравнение детства в Елисаветграде с навсегда покинутым раем:
Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю,
И я этот рай навсегда потеряю…
В Новограде – Елисаветграде «под густолиственным шатром уездной акации» признавался легкомысленно-искренний гимназист Шполянский в любви прелестным гимназисткам. И так же, через двадцать лет, когда гимназистки стали называться ученицами единых трудовых школ, поздним вечером, скрываясь от вечно ищущей его беспокойной матери под цветущей акацией, впервые сказал заветные слова любви юный Асик Тарковский. Звали его богиню Ольга Рапорт. Это она, красавица-блондинка, нанесет ему первую сердечную рану. Это о ней много-много лет спустя скажет поэт с горькой иронией:
…А все-таки меня любили –
Одна: – Прощай! – и под венец…
А дальше: «Другая крепко спит в могиле». Это уже о Марии Густавовне Фальц.
«А третья», которая «у чужих сердец
По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо…» –
это самая великая, самая чистая и бескорыстная любовь поэта – его Муза.
Пройдет еще несколько лет, и Арсений Тарковский уедет из родного-неродного города (уже Зиновьевска) в Москву искать свою судьбу, как уезжали до него тысячи провинциальных юношей.
В 1928 году, приехав на две недели навестить мать, забрать то, что осталось от его библиотеки (в суровые годы родные продали большую часть книг), и проститься навсегда со всем, что его связывало с этим городом, Асик пришлет в письме своей юной жене Марусе веточку белой акации.
31.05. Муариск ты мой! Собирается дождь, ветер ужасный. Тоска невообразимая. Я сплю все время: должно быть у меня страшная сонная болезнь. И за что это? Два письмочка ‹…› я получил и радовался, как (Прутков говорил) – скрипач канифоли… Сейчас я пойду за акацинной веткой, и самую маленькую плеточку положу, чтобы ты увидела, что это за дикая штука.
Акации буйствуют, на улице сплошной белый удушающий сладкий дым этих подлых акаций… Я страшно скучаю. Только твои письма и спасают меня от тоски и беспокойства… Я живу от письма до письма. Золотусь мой! Не забывай своего мужа, он же медведь, он же собака, он же тебя очень, очень любит…
Арсений тоскует, ждет почту, считает дни, оставшиеся до отъезда в Москву, и пишет, пишет, пишет Марусе сумасшедшие письма. Здесь его раздражает все: материнская опека, визиты к родственникам, жара, ветер, пыль и даже запах воспетой романтиками белой акации. Он рвется в Москву, ему скучно в Елисаветграде, ставшем Зиновьевском, – друзья разлетелись, Марию Густавовну проводили в Одессу.
В середине июня Арсений уезжает, чтобы на следующее лето еще раз заехать ненадолго к матери, которая года через два тоже переберется в Москву. Кажется, что уже ничего не связывает его с родным городом.
Но в военные и в послевоенные годы Тарковский вспоминает об оставленной, казалось бы, без сожалений родине и о матери, заботы которой некогда так докучали ему.
А все-таки жалко, что юность моя
Меня заманила в чужие края,
Что мать на перроне глаза вытирала,
Что этого я не увижу вокзала,
Что ветер зеленым флажком поиграл,
Что города нет, и разрушен вокзал…
В последний раз Тарковский приедет в Елисаветград – Кировоград спустя много-много лет, в 1955-м. Все уже стало иным – и время, и город, и настроение поэта.
Позднее наследство,
Призрак, звук пустой,
Ложный слепок детства,
Бедный город мой.
Тяготит мне плечи
Бремя стольких лет.
Смысла в этой встрече
На поверку нет…
Но вслед за этими стихами в письме к другу юности Николаю Станиславскому он напишет совсем другие слова: «…Я понял, что на родине надо бывать почаще, иначе высыхаешь сердцем, а родина, наш город – хорошая причина для слез».
Уезжаем, уезжаем, укладывай чемоданы,
На тысячу рублей билетов я выстоял у судьбы,
Мы посетим наконец мои отдаленные страны,
Город Блаженное Детство и город Родные Гробы…
А в далеком Париже эмигрант Дон-Аминадо, про которого М.И.Цветаева сказала, что этот совершенно замечательный поэт никогда не будет писать всерьез, бесконечно тоскует о навсегда потерянной родине:
О, помню, помню!.. Рявкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,
Той свежестью набухшего зерна
И пыльною уездною сиренью,
Которой пахнет русская весна,
Приученная к позднему цветенью.
Два поэта, родившиеся в одном городе и так одинаково любившие его, не знали друг друга. Только, наверное, в детстве слышали семейные фамилии – Шполянские, Тарковские. Городок ведь был небольшой…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?