Текст книги "Удачливый крестьянин"
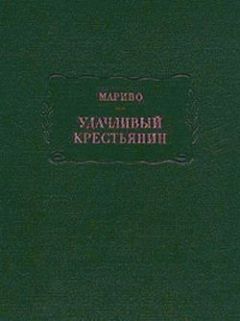
Автор книги: Мариво
Жанр: Литература 18 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Полно, мадемуазель, успокойтесь, – сказал председатель, – ваша сестра с ним не обвенчается: он не посмеет зайти так далеко; но если бы он и вздумал продолжать свое, мы ему не позволим; да он и сам откажется, сам избавит нас от лишних хлопот, а я возмещу ему утрату и позабочусь о его дальнейшей судьбе.
Я слушал все это и молчал: лучше было подождать и высказать им все сразу; но я не терял времени даром и беспрестанно посматривал на даму-святошу; она это заметила и даже незаметно отвечала мне тем же. С чего я вздумал на нее смотреть? – спросите вы. Да просто потому, что приметил, как она то и дело поглядывает на меня; я приписывал сию честь своей красивой наружности. Эти две мысли как-то переплелись в моем сознании. Мы часто действуем под влиянием безотчетных ощущений, которые появляются неведомо откуда, руководят нами, а мы о них и не задумываемся.
Я не забывал глядеть и на супругу председателя, но эти взгляды были полны кротости и мольбы. Одной мои глаза говорили: «На вас приятно смотреть», и она мне верила; другую они умоляли: «Защитите меня», и она мне обещала защиту. Я уверен, что обе поняли меня и ответили так, как я рассказываю.
Господина аббата я тоже не обошел своим вниманием: к нему я обратил несколько весьма учтивых взглядов, чтобы расположить его в мою пользу; так что я еще и говорить не начал, а две трети судей были уже за меня.
Сначала я попросил тишины, дав им понять всем своим видом: «Слушайте теперь меня».
– Господин председатель, – начал я, – я дал возможность этой барышне высказаться до конца, я позволил ей оскорблять меня, сколько ей было угодно; говори она еще целый час, она не могла бы очернить меня больше, чем успела за несколько минут. Теперь выскажусь я; каждому свой черед, так будет справедливо. Вы сказали, господин председатель, что мне не позволят жениться на мадемуазель Абер-младшей. На это я скажу одно: если мне не позволят жениться, то я буду вынужден отказаться от брака: уши выше лба не растут. Но если мне не помешают, я непременно на ней женюсь, можете в этом не сомневаться, и всякий поступил бы так на моем месте. Начнем с оскорблений, которые я здесь услышал. Не знаю, совместима ли брань с благочестием? Во всяком случае, я оставляю бранные слова на совести мадемуазель. Она говорит: «Господь слышит нас», – что же, тем хуже для нее: ему пришлось услышать не очень-то красивые слова! По ее мнению, я проходимец, негодяй, а ее сестра – старая дура, потерявшая голову. Кругом досталось ближним, пусть сами разбираются. Но поговорим обо мне. Вот перед вами, господин председатель, мадемуазель Абер; если бы вы сказали ей, как мне: ты то, да ты это, кто ты такая и прочее, она бы очень удивилась и сказала бы: «Милостивый государь, как вы со мной обращаетесь?» А вы бы подумали про себя: «Она права, надо было сказать ей: „Сударыня“. Вы так с ней и разговариваете: сударыня то, сударыня это, вы всегда обращаетесь к ней вежливо: „Сударыня“, а я слышу только „ты“ и „тебя“. Не подумайте, будто я жалуюсь, господин председатель; что делать, так уж повелось у вас, важных господ; „ты“ – такова моя доля, таков удел всего бедного люда. Почему с нами так обращаются? А зачем мы бедны? Это не наша вина. Я говорю для примера. Сказать этой барышне: „Чего тебе надо?“ было бы неучтиво; а ведь она дама ненамного важнее такого господина, как я!
– Как так, «ненамного важнее», дерзкий мальчишка? – вскричала она.
– Да очень просто, так оно и есть, – сказал я. – Но я не кончил, не мешайте мне говорить. Разве господин Абер, ваш батюшка, мир праху его, был проходимец? Нет! Он был сын почтенного фермера из провинции Бос; а я сын почтенного фермера из Шампани; значит, ферма против фермы. Вот мы с вашим уважаемым батюшкой уже одного поля ягода, одинаковые проходимцы; он стал купцом, не так ли? И я могу стать купцом. Что же получается? Опять же по лавке с обеих сторон. Значит вы обе, барышни, его дочки, лучше меня всего на одну лавку. Но если я куплю такую же лавку, то мой сын скажет: «У моего батюшки была лавка», и тем самым мой сын сравняется с вами. Вы делаете шаг от лавки к ферме, а я от фермы к лавке. Большой разницы тут нет; вы всего на один этаж выше меня. Так неужели из-за одного этажа человек уж и проходимец? Неужели людям благочестивым, как вы, проповедующим смирение, как вы, пристало считать этажи, особенно когда и попрекнуть-то ближнего можно всего одним этажиком? Что касается улицы, где ваша сестра меня встретила, то это улица как улица: всякий ходит по улице; я шел по улице, ваша сестра шла по улице. На улице можно встретиться, как и во всяком другом месте. Если бы не ваша сестра, я пошел бы побираться, говорите вы. Верно; пусть не в тот самый день, так несколько позже я был бы вынужден просить милостыню, если бы решил не возвращаться к себе на ферму. Открыто в этом признаюсь, потому что не вижу тут ничего особенного. Богатство вещь приятная, но это не добродетель, и только дурак им гордится. И ничего странного в моем положении нет. Я молод, воспитывался у отца с матерью, только что покинул родительский дом, чтобы заняться каким-нибудь делом; откуда быть у меня богатству? Я еще только выхожу на дорогу, еще только ищу, куда приложить свои силы. В эту минуту появляется ваша сестра: «Кто вы?» – говорит она. Я рассказываю. «Хотите поступить к нам? Мы две набожные барышни», – говорит она. – «Отлично», – говорю я и за неимением лучшего следую за ней. По дороге мы беседуем, я называю свое имя, фамилию, рассказываю про нашу семью. Она говорит: «Мы вышли из того же сословия», я радуюсь, она тоже; то да сё, я говорю ей приятные слова, она не остается в долгу. – «Вы, я вижу, славный юноша», – говорит она мне. А я ей: «А вы, мадемуазель, самая милая барышня в Париже»; «Как я рад», – говорю я. – «И я рада». Потом мы приходим к вам, вы ее браните из-за меня, вы грозитесь уехать из дому, она уезжает первая и берет меня с собой; она чувствует себя одинокой; ей тоскливо, она задумывается о замужестве, мы об этом беседуем, я готов хоть сейчас, она меня ценит, я ее боготворю; я сын фермеров, она фермерская внучка; она не намерена высчитывать, чей этаж выше, а чей ниже, у кого есть лавка, а у кого лавки нет. У нее добра хватает на двоих, у меня преданности – на четверых. Мы зовем нотариуса, я пишу в Шампань, мне отписывают, – и все в порядке. Теперь я спрашиваю вас, господин председатель: ведь вы знаете законы вдоль и поперек; я спрашиваю супругу председателя, здесь присутствующую, и вас, сударыня, – у вас такой ясный ум, – и вас, господин аббат, – вы такой тонкий человек, – я готов спросить весь Париж, если бы он здесь собрался: чем я так оскорбил мадемуазель Абер-старшую?
Я закончил свою речь; все молчали. Старшая сестрица, ожидавшая, что господин председатель что-нибудь возразит, посмотрела на него с глубоким удивлением.
– Как, сударь, – сказала она ему, – неужели вы меня предадите?
– Рад бы служить вам, мадемуазель, – сказал он, – но что можно возразить на такие доводы? Дело это рисовалось мне совсем в ином свете; но если то, что он рассказал, правда, то было бы несправедливо препятствовать браку, в котором нет ничего предосудительного, кроме разницы в возрасте, невольно вызывающей улыбку.
– Тем более, – вмешалась родственница председателя, – что мы каждый день видим такое же и даже более значительное несоответствие в возрасте супругов; у этой же четы оно даст о себе знать не скоро; ваша сестра очень моложава.
– Как бы то ни было, – заметила примирительным тоном жена председателя, – барышня имеет право распоряжаться собой; что до молодого человека, то, в сущности говоря, его единственный недостаток – молодость.
– Никому не запрещается иметь молодого мужа, – вставил аббат, посмеиваясь.
– Но разве ее затея – не безумие? – вскричала мадемуазель Абер, сбитая с толку всей этой философией. – Разве вы не обязаны помешать ей, хотя бы из сострадания?! А вы, сударыня, ведь вы обещали мне повлиять на господина председателя, чтобы он вступился за меня, – обратилась она к даме-святоше, – неужели вы отказались от этого намерения? Я так надеялась на вас!
– Но, милая мадемуазель Абер, – возразила та, – надо же совесть иметь. Вы мне говорили, что этот молодой человек отъявленный негодяй, без роду без племени, и я взволновалась. Оказывается, ничего подобного: он сын почтенных родителей, фермеров из Шампани; это разумный, серьезный юноша. Признаюсь, мне было бы совестно помешать его скромной удаче.
При этих словах разумный и серьезный юноша отвесил совестливой даме почтительный поклон.
– Боже мой, вот каковы люди! – воскликнула моя будущая свояченица. – Стоило мне сказать этой даме, что она ровесница моей сестре, но хорошо сохранилась для своего возраста, и я уже лишилась ее расположения: пойди угадай, что можно оставаться нимфой в пятьдесят лет! Прощайте, сударыня, прощайте, господин председатель, я ваша покорная слуга.
Сказав это, она поклонилась и всем остальным, причем дама-святоша только искоса окинула ее презрительным взглядом, не удостоив ответом.
– Вот что, дитя мое, – сказала она мне, когда та удалилась, – вы можете жениться. Никто вам слова не скажет.
– Я бы даже советовала ему поторопиться, – заметила хозяйка дома, – старшая сестрица готова на все.
– Пусть она готова на что угодно, – холодно возразил господин председатель, – все это бесполезно. Она ничего не может сделать.
В это время доложили о каком-то посетителе.
– Я вас немного задержу, – сказала мне, поднимаясь с кресла, пятидесятилетняя нимфа. – Хочу передать записку для мадемуазель Абер; она мне очень симпатична; я всегда предпочитала ее старшей сестре и рада сообщить ей, как было дело. Господин председатель, разрешите пройти в ваш кабинет написать несколько строк.
С этими словами она вышла, а я последовал за ней, очень довольный поручением, которое мне собирались дать.
Когда мы оказались в кабинете, она взяла лист бумаги и, пробуя на нем перо, сказала мне:
– Честно говоря, друг мой, я была вначале настроена против вас; эта сумасбродка наговорила такого, что брак ваш представлялся мне чем-то недопустимым. Но появились вы, и я сразу переменила мнение; один вид ваш опровергает все ее клеветы. Вы действительно красивы, мало того, вы завоевали все сердца. Мадемуазель Абер-младшая сделала хороший выбор.
– Благодарю вас, сударыня, за доброе мнение, – ответил я, – постараюсь оправдать его.
– Да, да, – сказала она, – вы расположили меня к себе, и даже очень, я в восторге от вашей трогательной истории. А если эта злая особа снова попытается вредить вам, можете рассчитывать на мою помощь.
Между тем она пробовала одно перо за другим и не находила ни одного подходящего.
– Какие скверные перья! – сказала она, пытаясь очинить или хотя бы немного подправить перо. – Сколько вам лет?
– Скоро двадцать, сударыня, – сказал я, округляя цифру.
– Самое время пробивать себе путь в жизни, – заметила она. – Теперь вам нужны друзья, которые помогли бы в этом. У вас будут друзья, я об этом позабочусь. Я люблю вашу мадемуазель Абер, я уважаю ее за то добро, что она делает для вас; она разбирается в людях. Скажите, правда ли, что вы только четыре или пять месяцев как из Деревни? Этого не скажешь, на вас глядя; лицо у вас совсем не загорелое, и вообще вы не похожи на деревенского парня. А какой чудный цвет лица!
При этих похвалах цвет моего лица стал еще ярче; я покраснел от скромности, но еще больше от удивительно приятного сознания, что меня хвалит светская дама, занимающая высокое положение в обществе.
Как легко и уверенно чувствуешь себя, когда людям нравится твое лицо! Приятная наружность – одно из тех преимуществ, которые совсем нетрудно сохранять и поддерживать. Она не меняется, она всегда при вас, и ваши чары тоже. А поскольку вас ценят именно за красивое лицо, вы не боитесь, что люди разочаруются, и это вас еще больше ободряет.
«По-видимому, я нравлюсь, потому что хорош собой», – размышлял я. – «Как это приятно и в то же время удобно!» Благодаря всему этом) я мог держаться спокойно и непринужденно.
Между тем с перьями дело никак не ладилось; ей ни одного не удавалось очинить, и наша беседа продолжалась под досадливые возгласы дамы.
– Так я ничего не напишу! – сказала она, наконец; – не сможете ли вы очинить мне перышко?
– Почему же не смогу, сударыня, – ответил я, – сейчас попытаюсь.
Итак, я беру перо и принимаюсь его очинять.
– Вы намерены венчаться сегодня ночью? – спросила она, пока я возился с пером.
– Думаю, да, сударыня.
– А скажите, друг мой, – продолжала она с улыбкой. – Что мадемуазель Абер любит вас, в этом я не сомневаюсь и не вижу тут ничего удивительного. Но признайтесь честно, сами-то вы чувствуете ли к ней хоть немножко любви, настоящей любви? Я имею в виду не дружбу: дружбу она безусловно заслужила, и великую; но нравится ли она вам как женщина? Ведь она далеко не молода.
Последние слова звучали игриво и подсказывали ответ: я должен был сказать, что вовсе не влюблен в свою невесту, и посмеяться над ее прелестями. Собеседнице моей приятно было бы услышать, что я не тороплюсь стать счастливым обладателем этих прелестей, и, ей-богу, у меня не хватило духу отказать ей в удовольствии.
Такова любовь: пусть нас связывают какие угодно узы, но внимание другой женщины так лестно для нашего тщеславия, что мы в душе тотчас предаем любимую и охотно идем на малодушную измену!
Я по трусости погрешил против чести, а также против истины; ведь я любил мадемуазель Абер, или, во всяком случае, был уверен, что люблю, а это почти одно и то же; я покривил душой. Да если бы я не любил ее ни капельки, все равно: наши с ней отношения зашли слишком далеко, слишком многим я был ей обязан, слишком многого ожидал от нее в дальнейшем; так разве долг не повелевал мне ответить без колебаний: «Да, я люблю ее, и от всего сердца»?
Но я поступил иначе, в угоду этой благочестивой даме, которой не хотелось, чтобы я любил мою невесту; и я был польщен тем, что ей этого не хотелось.
Однако в отпетые негодяи я еще не записался и вообще не мог бы поступиться совестью в более серьезном деле, и потому выбрал нечто среднее: молча улыбался, дав ответ этой улыбкой вместо слова, которого от меня ждали.
– Я поняла вас, – заметила дама, – вы скорее благодарны, чем влюблены; так я и думала; но надо вам сказать, ваше невеста была в свое время недурна.
Она говорила, а я пробовал на бумаге очинённое мною перо; оно все еще писало плохо, и я снова принялся за него, чтобы продлить беседу: разговор казался мне занятным, и мне было любопытно узнать, чем он кончится.
– Да, теперь она увяла; но в молодости, верно, была довольно миловидна, – продолжала моя собеседница, – и ее сестрица права: ей за пятьдесят; из моих слов выходило, будто гораздо меньше; я нарочно сказала, что она мне ровесница: мне хотелось как-нибудь оправдать ее. Встань я на сторону старшей, я бы могла вам повредить во мнении господина председателя; но я этого не хотела.
– Я очень чувствовал вашу поддержку, сударыня.
– Да, это так; я держала вашу сторону и вовсе этого не стыжусь; бедная Абер-младшая! Я поставила себя на ее место: ей было бы слишком горько потерять вас, пусть она и старуха; к тому же я расположена к вам всей душой.
– Ах, сударыня, – подхватил я со всем возможным простодушием, – я сказал бы то же, если бы мое звание позволяло такую вольность.
– О, почему же? – отвечала дама. – Я ничьим расположением не гнушаюсь, дитя мое, и особенно дружбой тех, кто мне по душе, а вы мне очень по душе! Не знаю, но вы чем-то подкупаете с первого взгляда; звание ваше мне безразлично; не этим я руководствуюсь в выборе знакомых.
И хотя последние слова моя собеседница протянула небрежно и как бы не придавая им значения, но выразилась, пожалуй, уж слишком сильно; ей пришлось даже опустить глаза: ведь с совестью не шутят.
Между тем, мне уже нечего было делать с пером; пришел последний срок: либо отдать, как очинённое на славу, либо бросить в корзину, сказав, что оно испорчено.
– Умоляю вас, сударыня, – сказал я, – не лишайте меня вашего расположения; ни от кого я не принял бы помощи так охотно, как от вас.
При этом я вручил ей перо; дама взяла его, попробовала и сказала:
– Теперь оно не царапает. А что, вы разборчиво пишете?
– Довольно разборчиво, – ответил я.
– Больше ничего и не требуется, – продолжала она, – мне хотелось бы поручить вам переписать набело кое-какие бумаги.
– Всегда готов служить вам, сударыня, – сказал я.
Тут она начала письмо к мадемуазель Абер и время от времени поднимала на меня глаза.
– А что, ваш батюшка тоже красивый мужчина? Вы пошли в отца или в мать? – спросила она, написав несколько строчек.
– Я похож на свою мать, сударыня, – ответил я.
– Ваш роман с этой старой девой, на которой вы хотите жениться, все-таки очень странен, – продолжала она, написав еще две строки, как бы в раздумье и в то же время посмеиваясь. – А у нее, видно, глаз зоркий; нет, ее жалеть не приходится, хоть она и просидела весь век в четырех стенах. Смотрите же, будьте ей примерным мужем, таков мой совет, – а затем… делайте со своим сердцем все, что заблагорассудится; в ваши годы его на привязи не держат.
– Увы! сударыня, – вздохнул я, – кому его отдать? Кто польстится на неотесанного крестьянина?
– Ну, – возразила она, встряхнув головой, – этого можно не опасаться.
– Простите меня, сударыня, но я не мог бы полюбить свою ровню; я метил бы выше; только настоящие дамы прельщают меня.
– Отлично сказано! – отвечала она. – Вы рассуждаете правильно, и за это я ценю вас еще больше; честолюбие вам к лицу, не меняйте же своих мыслей; они делают вам честь, и вы, ручаюсь, добьетесь успеха. Поверьте мне, юноша, будьте смелее. (Говоря это, она смотрела на меня весьма выразительно.) Кстати, о сердце: оно у вас нежное? Влюбчивое? Ведь кто легко влюбляется, тот добр душой.[37]37
Это замечание характерно для эпохи. Мысль о том, что чувствительностью обладают люди по натуре добрые, станет ведущей в так называемой «слезной» комедии (Детуш. Нивель де Ла Шоссе и др.).
[Закрыть]
– О, в таком случае я самый добрый в мире человек! – подхватил я.
– Вот как… ха, ха, ха! Он отвечает на все вопросы не задумываясь! Как он мил и забавен, этот взрослый ребенок! Скажите-ка честно, вы уже выбрали себе даму сердца? Влюблены в кого-нибудь?
– Конечно! Я люблю всех женщин, перед которыми в долгу; вам же я особенно обязан и потому люблю вас больше всех.
– Не о том речь, – возразила она, – я говорю о любви, а к этим дамам вы не питаете любви, так же как и ко мне; вы любите нас из благодарности, а не потому что мы вам нравимся.
– Когда женщина похожа на вас, ее любишь за все сразу, – отвечал я; – но смею ли я так говорить?
– О, говорите, мой мальчик, говорите; я не кривляка и не дурочка, и если вы искренни, то я охотно извиню вашу смелость.
– Клянусь богом, сударыня, надо быть уж очень привередливым, чтобы говорить вам комплименты неискренне.
– Но будьте осторожны, – сказала она тогда, приложив палец к губам, – не признавайтесь в своих чувствах никому, кроме меня: над вами будут смеяться; кроме того, вы рассорите меня с мадемуазель Абер, если она узнает.
– При ней я этого не скажу, – ответил я.
– И правильно сделаете; старые женщины ревнивы, а свет зол, – заключила она, ставя подпись, – обо всем надо молчать.
В соседней комнате послышался какой-то шорох.
– Не подслушивает ли нас кто-нибудь из прислуги? – проговорила она, складывая письмо. – Как это неприятно. Уйдемте отсюда. Передайте это мадемуазель Абер, скажите ей, что я ее искренний друг, слышите? И как только вы обвенчаетесь, приходите сюда и расскажите, как прошло бракосочетание; мое имя вы увидите в низу письма; но я жду вас попозже, вечерком; вы получите для переписки бумаги, о которых я говорила, и мы потолкуем о ваших делах; я смогу оказать вам кое-какую протекцию. А теперь ступайте, мой милый, и ведите себя умненько, я о вас позабочусь, – ласково прибавила она, понизив голос и протягивая мне записку жестом, который говорил: «Возьмите и руку». Во всяком случае, так я понял ее и, принимая записку, поцеловал протянутую мне ручку, которую у меня и не отнимали, несмотря на излишне пылкую признательность, вложенную мною в этот поцелуй. Рука была красивая.
Я еще не выпустил ее руку, когда она шепнула:
– И об этом тоже не следует рассказывать! – и повернулась уходить.
– О, сударыня, я не компрометирую женщин! – выпалил я, как истый мужлан, как самодовольный фат, считающий внимание женщин вполне естественным и не видящий необходимости щадить их целомудрие.
Выходка была грубоватая; дама покраснела, – слегка, ибо краснеть до корней волос из-за меня не стоило: я сам не сознавал, как неприличны мои речи; поэтому она быстро оправилась от смущения, и я заметил, что в сущности она была довольна моей грубой прямотой: ведь это означало, что я понимаю ее намерения и избавляю ее от околичностей, к каковым ей пришлось бы прибегнуть в другом случае.
Итак, мы расстались; она вошла в покои госпожи председательши, а я в приятном волнении отправился восвояси.
«Разве ты вознамерился завести с ней интрижку?» – спросите вы. Нет, никаких определенных намерений у меня не было; просто я витал в эмпиреях оттого, что понравился важной даме; я заранее торжествовал, хотя сам еще не знал, к чему все это приведет, и вовсе не думал о том, что мне следует и чего не следует делать.
Был ли я вполне равнодушен к этой даме? Пожалуй, нет. Был ли я в нее влюблен? Не думаю. Чувство мое к ней едва ли можно назвать любовью: я обратил на нее внимание лишь потому, что она сама заметила меня; да и все ее авансы остались бы без последствий, не будь она дамой из общества.
Мне нравилась вовсе не она, а ее положение, чрезвычайно высокое по сравнению с моим собственным ничтожеством.
Ведь это была дама светская, богатая, имевшая лакеев, собственный выезд, – и эта-то особа нашла меня достойным любви! Она позволила поцеловать ее руку и желала, чтобы это осталось тайной; словом, эта женщина извлекала меня и мое самолюбие из небытия и безвестности; чем я был до этого? Успел ли вкусить радости удовлетворенного самолюбия?
Правда, я уже стал женихом мадемуазель Абер; но ведь мадемуазель Абер была всего лишь скромной буржуазкой, которая сама сказала, что ничем не выше меня; она сдалась так быстро, что я не успел погордиться своей победой; если не считать богатства, она была мне почти ровней.
Она сама назвала меня своим кузеном! Как же прикажете чувствовать разницу между нею и мной?
Здесь же расстояние казалось огромным, измерить его было не в моих силах, у меня начинала кружиться голова при одной мысли об этом; и с такой-то высоты спускались ко мне – или, пожалуй, я возносился вверх, к женщине, которой не подобало даже и знать, существую ли я на свете. Было от чего закружиться голове, было от чего зародиться во мне чувствам, похожим даже и на любовь.
Итак, я влюбился из почтения и от неожиданности, ради тщеславия, ради чего угодно, а пуще всего из-за непомерной цены, какую придавал благоволению этой дамы: мне казалось, я в жизни не видел столь красивой женщины; между тем ей было пятьдесят лет, я верно определил ее возраст, войдя в гостиную председательши; но об этом я как-то забыл; я ничего от нее не ждал; будь ей на двадцать лет меньше, она бы вовсе не казалась мне более привлекательной. Передо мной была богиня, а богини не имеют возраста.
Итак, я шел домой вне себя от восторга, меня распирало от гордости, достоинства дамы рисовались моему воображению в причудливо преувеличенном виде.
Мне ни на минуту не приходило в голову, что чувства эти несовместимы с моим званием жениха; я ни в чем не переменился к мадемуазель Абер и с привычной нежностью думал о встрече с нею; я был счастлив, что женюсь на одной и что нравлюсь другой: два подобных удовольствия совмещаются без труда.
Однако, прежде чем вернуться к моей невесте, я должен набросать для вас портрет богини, с которой только что расстался; поместим его здесь; он займет не много места.
Возраст ее вам известен; я уже говорил, что она была стройна и изящна, и это еще слабо сказано; не много я видел женщин со столь царственной осанкой.
Дама эта одевалась скромно, но так, что скромность не скрадывала ничего от ее еще не поблекшей красоты.
Так одеваются женщины, которые желают нравиться, но не желают, чтобы их могли в этом обвинить, – то есть скрытые кокетки; надо быть большой кокеткой, чтобы извлечь весь возможный эффект из скромного наряда: в ее туалете были заключены какие-то маленькие тайны, которые в совокупности делали его столь же очаровательным, сколь скромным, и уж во всяком случае более игривым, чем откровенное щегольство.
Красивые руки в гладких белых рукавчиках: так они виднее, их лучше замечаешь.
Лицо чуть-чуть поблекшее, но еще красивое: в дорогом пышном чепце оно казалось бы старым, но под простенькой наколкой ласкало взор. «Такое лицо заслуживает более нарядного обрамления» – невольно думали вы.
В меру полная грудь (не следует забывать, что красивая грудь для женщины не менее важна, чем красивое лицо), очень белая грудь, тщательно прикрытая косынкой; но при ином движении косынка невзначай сбивалась на сторону, и под ней мелькала белоснежная кожа: вы мало что видели, но у вас создавалось самое лестное мнение об остальном.
Большие черные глаза, которым дама усиленно придавала серьезное и скромное выражение, хотя от природы они были полны живости и неги.
Не берусь их описывать; об этих глазах можно было бы говорить долго: искусный расчет сообщал им столь многое и так много всего в них было вложено природой, что толковать об этом – задача мудреная, которая вряд ли мне по силам. Возможно ли выразить словами все, что чувствуешь? Те, кто считает это делом нетрудным, мало что чувствуют и, без сомнения, видят лишь половину того, что приметил бы иной.
Однако попытаемся обрисовать ее облик в общих чертах.
При первом взгляде на эту даму, вы бы сказали: «Какая серьезная и рассудительная женщина».
Взглянув на нее второй раз, вы бы прибавили: «Эта женщина выработала в себе серьезность и рассудительность, каковыми от природы не обладает. Добродетельна ли она? Судя по выражению лица – да, но видно, что это дается ей не легко; она ведет себя лучше, чем ей бы хотелось: отвергая удовольствия, она их любит, хотя и не уступает соблазну». Вот что можно было бы заключить о ее нраве и поведении.
Что до ума, вы с первого же взгляда предполагали, что она очень умна; и вы не ошибались; больше сказать не могу, ибо недостаточно ее знал, чтобы судить об этом.
Характер ее тоже нелегко определить: то немногое, что я выскажу, даст вам довольно полное представление об этой незаурядной натуре.
Эта женщина никого не любила, но желала ближнему куда больше зла, чем причиняла на деле.
Она претендовала на доброту, и это мешало ей быть злой; но она обладала уменьем возбуждать в других недобрые чувства и этим подменяла собственную тягу к злым делам.
Где бы она ни появлялась, вокруг нее разговор превращался в злословие; она и только она настраивала собеседников на подобный лад – и именно тем, что некстати хвалила или защищала кого-либо, не скупясь на самые лестные, казалось бы, отзывы о тех, кого отдавала на растерзание; а когда злые языки разбирали по косточкам свои жертвы, она вскрикивала жалостливо и вместе с тем ободряюще: «Ах, что вы говорите?», «Нет, нет, вы ошибаетесь!», «Я не могу этому поверить!». Благодаря таким уловкам она всегда оказывалась неповинной в преступлениях, к которым подстрекала других (я называю преступлением всякий пасквиль), и продолжала слыть благожелательницей тех, чье доброе имя чернила чужими устами.
Забавнее всего то, что эта женщина, при всем том, даже не подозревала, что у нее злое сердце: она сама не знала себя и первая была жертвой придуманного ею обмана, она попадалась на собственную удочку и, прикидываясь доброй, воображала, что и на самом деле добра.
Такова была особа, от которой я вышел; описание ее характера сделано мною на основании того, что я слышал о ней впоследствии, а также почерпнуто из впечатлений, полученных мною во время наших дальнейших встреч, хотя их было не так уж много; но я немало о ней размышлял.
Она вдовела уже лет девять или десять; муж ее, по слухам, умер весьма ею недовольный; он даже обвинил ее в не совсем безупречном поведении; стремясь доказать ложность этих обвинений, она после его смерти ударилась в благочестие и удалилась от света; она и в дальнейшем не изменила этому образу жизни, частью из гордости, частью по привычке, а также сознавая, сколь неприлично было бы вновь явиться в большом свете теперь, когда от былой красоты уже мало что осталось, когда женские прелести поблекли от прожитых годов и от долгого вдовства: возврат из длительного уединения нельзя совершить безнаказанно. Кто удаляется от света, особенно из религиозных побуждений, должен удалиться навсегда: из таковых отлучек трудно вернуться во всеоружии моды; ваша физиономия либо кажется смешной, либо не внушает былого почтения.
Итак, я спешил к мадемуазель Абер, моей невесте, и весело шагал, торопясь поскорей ее увидеть, как вдруг, на углу одной из улиц, меня задержало скопление экипажей и телег; мне не хотелось быть раздавленным и, решив выждать, когда перекресток освободится, я вошел в боковую аллею и, чтобы убить время, стал читать письмо госпожи де Ферваль (этим именем мы назовем даму, о которой я только что говорил) к мадемуазель Абер; оно не было запечатано.
Не успел я прочесть и первую строку, как неизвестный мне человек сбежал по лестнице, видневшейся в конце аллеи, и промчался мимо меня, как бы спасаясь бегством; он чуть не сбил меня с ног и при этом уронил обнаженную шпагу, которую держал в руке; затем он выбежал на улицу, захлопнув калитку.
Происшествие это немного встревожило меня, тем более, что я оказался запертым в садовой аллее.
Я сразу же поспешил к калитке, чтобы снова ее открыть, но мне это не удалось.
В тот же миг я услышал шум шагов на лестнице в конце аллеи; под деревьями было уже довольно темно, и я смутно забеспокоился.
В подобных положениях мы безотчетно стремимся к самозащите; при мне не было ни дубинки, ни даже трости и, не успев ни о чем подумать, я наклонился и поднял оброненную беглецом шпагу.
Шум на лестнице все нарастал; мне послышались даже крики, раздававшиеся как будто из окна дома, который выходил на улицу. Так оно и было, чей-то голос кричал: «Лови! Лови!» Я по-прежнему держал в правой руке шпагу, а левой пытался отпереть эту проклятую калитку; наконец она поддалась, как оказалось, на мою же беду.
На улице меня караулила целая толпа; увидя мое растерянное лицо и обнаженную шпагу, они решили, что я либо убил, либо ограбил кого-нибудь.
Я пытался вырваться от них, но напрасно: чем больше я отбивался, тем больше крепли их подозрения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































