Текст книги "Удачливый крестьянин"
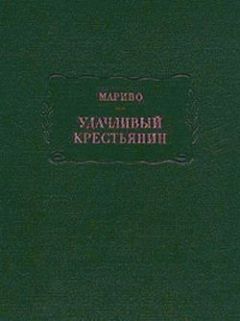
Автор книги: Мариво
Жанр: Литература 18 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Что же это? Все меня бросают!
В ответ я только вздохнул, больше мне нечего было сказать, и вышел, взвалив на спину нажитое добро и ни с кем больше не попрощавшись. Я было подумал, не зайти ли проститься с Женевьевой, но я ее больше не любил, а только жалел, так что при подобных обстоятельствах великодушнее было, пожалуй, не являться ей на глаза.
Дом барыни я покидал с решением уехать обратно в деревню, так как не знал, ни куда было мне деваться, ни как иначе устроиться.
Никого знакомых у меня не было; никакой работы, кроме крестьянской, я не знал: умел сеять, пахать землю, подстригать виноградники – вот и вся моя наука.
Правда, Париж за короткое время успел соскрести с меня деревенскую кору, в которой я туда явился; я уже умел и войти и выйти, научился прямо держать голову и носить шляпу так, что всякий видел: этот парень далеко не глуп.
Словом, я приобрел толику столичного лоска, потерся в обществе, – пусть не в самом лучшем, но все же в каком ни на есть обществе. Однако на этом и кончались мои таланты. Правда, в придачу к ним надо еще прибавить смазливое лицо, дарованное мне природой, – вот и все козыри, какими я располагал.
Я пока не назначил себе дня отъезда, а тем временем поселился в одном из тех скромных трактиров, которые из презрения к бедности именуют харчевнями.[12]12
Именуют харчевнями. – Харчевни были чем-то вроде общественных столовых и одновременно гостиниц низшего класса. В первом этаже обычно располагалась общая комната с очагом, служившая и столовой и кухней. В верхнем этаже (а иногда это были мансарда или просто чердак) помещались комнаты для постояльцев. В романе «Жизнь Марианны» (ч. II) Мариво описал одну из таких харчевен с их теснотой, убогой обстановкой и сомнительными постояльцами.
[Закрыть]
Здесь я прожил два дня в компании возчиков, которые показались мне несносными грубиянами; значит, сам я уже пообтесался и стал другим.
Глядя на них, я понял, что вовсе не хочу возвращаться в деревню. Зачем? – спрашивал я себя. Кругом сколько угодно людей с достатком, не имевших поначалу, вроде меня, ничего за душой. Куда ни шло, почему бы не остаться еще на несколько деньков? Мало ли что бывает? Жизнь полна счастливых случайностей; может, и на мою долю выпадет одна из них; издержки мои невелики – на две, а то и на три недели денег хватит, харчи недорогие, ем я мало и не теряю из-за этого хорошего настроения. Вкусный обед могу съесть с удовольствием, но и плохой проглочу без тоски – я непривередлив.
Все это невредно для молодого человека, который ищет своего счастья. При таком характере поиски не остаются напрасными – случай благоприятствует воздержанному, он достигает успеха. Я заметил, что лакомки теряют половину времени, чтобы вкусно поесть. Эта забота поглощает у них так много сил, что на прочее уже ничего не остается.
Итак, я решил задержаться в Париже дольше, чем сначала предполагал.
На другой же день я собрался навестить мою бывшую барыню и попросить у нее рекомендации. Но мне сообщили, что она удалилась в монастырь вместе с той преданной камеристкой, о которой я говорил; дела ее обернулись плачевно, и всех средств едва доставало, чтобы дожить в безвестности остаток дней.
Узнав об этом, я только тяжело вздохнул. Память об этой даме была мне дорога, но я ничем не мог ей помочь. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться на розыски некоего дядюшки Жака, бывшего нашего деревенского соседа, к которому отец перед отъездом велел мне зайти и передать поклон. Я сохранил его адрес, но до сих пор так и не удосужился туда сходить.
Он служил поваром в каком-то богатом доме, и я отправился разыскивать его.
Часов в семь или восемь утра я уже шагал по Новому мосту;[13]13
Новый Мост соединяет оба берега Сены, проходя через западную оконечность острова Сите. Это один из самых прославленных мостов Парижа. Заложен в 1578 г. при Генрихе III, открыт в 1603 г. Генрихом IV. В XVII и XVIII вв. это было излюбленное место прогулок парижан, вообще один из центров городской жизни. Сохранилось немало его описаний, в том числе в «Картинах Парижа» Мерсье. Фонвизин, посетивший столицу Франции во второй половине XVIII в., сообщал родным: «Есть здесь мост, так называемый Pont-Neuf. Кто недавно в Париже, с тем бьются здешние жители об заклад, что когда по нем ни пойти, всякий раз встретится на нем белая лошадь, поп и непотребная женщина. Я нарочно хожу на этот мост и всякий раз их встречаю» (Д. И. Фонвизин. Собр. соч. в 2-х томах, т. 2. М. – Л., 1959, стр. 439).
[Закрыть] шел я быстро, ибо погода стояла холодная, и ни о чем не помышлял, кроме встречи с земляком.
Поравнявшись с бронзовым конем,[14]14
Бронзовый конь – статуя Генриха IV, изготовленная в 1614 г. в Ливорно по заказу Людовика XIII. С большими трудностями статуя была доставлена в Париж водным путем. В XVIII в. около нее помещались лавочки и лотки мелких торговцев (как и на проходящем рядом Новом мосту), что привлекало сюда публику. В 1792 г. статуя была снята и переплавлена на пушки.
[Закрыть] я заметил женщину, закутанную в темную шелковую шаль; прислонясь к перилам моста, она бормотала: «Ох, умираю!».
Услышав эти слова, я подошел узнать, не надо ли ей помочь.
– Вам дурно, сударыня? – обратился я к ней.
– Да, дитя мое, мне очень, очень худо, – ответила она. – Вдруг голова закружилась; вот стою тут и держусь за перила.
Я разглядывал ее; мое внимание привлекла ее круглая свежая физиономия; на пухлых щеках, немного побледневших от недомогания, в обычное время, наверное, играл приятный румянец.
Что касается возраста, то по гладкому белому лицу и полной фигуре трудно было точно его определить.
Я дал ей лет сорок, и ошибся; как оказалось впоследствии, ей было полных пятьдесят.
Шаль из толстой тафты, скрывавшая фигуру, гладкий чепец, платье темной расцветки и какой-то неопределенный налет ханжества, а также безукоризненная опрятность одежды наводили на мысль, что передо мной благочестивая женщина, имеющая духовного наставника.[15]15
Благочестивая женщина, имеющая духовного наставника. – С обычаем иметь духовного наставника боролись еще писатели и мыслители XVII в.; Мольер изобразил пронырливого святошу в «Тартюфе», а Буало – в Десятой сатире. О них писал и Лабрюйер в «Характерах» (III, 36–39). В конце XVIII в. эта тема продолжала занимать писателей; Мерсье в «Картинах Парижа» писал, что духовные наставники заботятся о своем материальном благополучии: «Эти украшенные брыжжами личности умеют быть более или менее полезными и в течение нескольких лет всячески ухаживают за своими покровителями, чтобы попасть в конце концов в их духовное завещание. Со временем они этого достигают, а покамест пользуются прекрасным столом и всеми мелкими благами, которые можно всегда найти в богатых домах» (Л.-С. Мерсье. Картины Парижа, т. I. М. – Л., 1935, стр. 221). В гравюрах и сатирических листках духовные наставники, их щегольство и гурманство также изображались довольно часто. Однако духовные наставники преследовали не только личные цели. Многие из них принадлежали к ордену иезуитов и, проникая в дома и семьи, осуществляли контроль над совестью верующих и полностью подчиняли их своему влиянию. Для Мариво тема духовного наставника была очень важна, он связывал ее с мнимым благочестием и ханжеством, с которыми он, как писатель-моралист, не уставал бороться в своих книгах. Действительно, образ духовного наставника появляется в журнале Мариво «Французский зритель» (л. 19); в романе «Жизнь Марианны» (ч. 3 и 6) героиня встречает эту разновидность духовных особ; наконец, в «Удачливом крестьянине» духовный наставник становится основным противником героя. Возвращается к этой теме и автор последних трех частей книги.
[Закрыть] Ведь у таких дам существует особая манера одеваться, повсюду одинаковая; это своего рода мундир, и мне этот мундир никогда не нравился.
Не знаю, нрав ли у них такой или виновата их одежда, но мне всегда казалось, что эти святоши всех беспощадно осуждают и злы на целый свет.
Однако незнакомка была миловидна и свежа, лицо у нее было круглое, как раз в моем вкусе, и я принял в ней участие; поддерживая ее под локоть, я сказал:
– Сударыня, я не могу так вас оставить. Если разрешите, я предложу вам руку и провожу домой; головокружение может повториться, вам нельзя остаться одной. Где вы живете?
– На Монетной улице,[16]16
Монетная улица – небольшая улочка на правом берегу Сены, недалеко от Нового Моста
[Закрыть] дитя мое, – ответила она, – и я не откажусь принять помощь, так чистосердечно предложенную; вы кажетесь мне честным юношей.
– Вы не ошиблись, – сказал я, и мы двинулись в путь, – я всего месяца три как приехал из деревни и еще не успел испортиться и стать злым.
– Боже вас от этого упаси, – сказала она, окинув меня благожелательным и просветленным взглядом, – глядя на вас, не верится, что вы можете впасть в такой великий грех.
– Вы угадали, сударыня, – подхватил я, – господь по своей милости даровал мне чистосердечие, прямоту и уважение к честным людям.
– Это написано на вашем лице. Но вы еще очень молоды. Сколько вам лет? – спросила она.
– Неполных двадцать, – ответил я.
Заметьте, что беседуя так, мы еле-еле переставляли ноги; я чуть ли не нес ее по воздуху, чтобы уберечь от лишних усилий.
– Боже, как я вас утруждаю, – сказала она.
– Полноте, сударыня, – отвечал я, – не тревожьтесь, я рад, что могу оказать вам эту маленькую услугу.
– Я очень это чувствую, – заметила она, – но скажите, милое дитя, зачем вы приехали в Париж? Что вы тут делаете?
Услышав сей вопрос, я сразу оживился; неожиданное знакомство могло Принести мне удачу. Когда женщина эта воззвала к богу при мысли, что я могу испортиться и озлобиться, взгляд ее, обращенный на меня, был Так ласков, так полон доброты, что встреча с ней показалась мне хорошим предзнаменованием. Я не предвидел для себя никаких определенных выгод, но на что-то надеялся, хотя и сам еще не знал, на что именно.
Мне пришло на ум, что история с Женевьевой очень подойдет, чтобы совсем расположить в мою пользу эту добрую женщину.
Ведь я отказался от женитьбы на красивой девушке, которую любил, которая меня любила и предлагала мне свое состояние, и сделал я это исключительно из гордого и справедливого отвращения к бесчестию, несовместимому с чистотой души. Такую историю не стыдно было рассказать моей спутнице, что я и исполнил, выразив свои чувства со всем простодушием, на какое был способен, и стараясь, чтобы каждое мое слово дышало правдой.
Рассказ мне удался, он произвел самое выгодное впечатление.
– Небо вознаградит вас, мой мальчик, – сказала она, – за благие помыслы, не сомневайтесь в этом. Вижу, что лицо ваше не обманывает.
– Ах, сударыня, – возразил я, – насчет лица – это уж кто каким уродился, а вот сердце велит мне поступать так, и иначе я не могу.
– О, как вы это наивно высказали! – воскликнула она с благостной улыбкой, – вознесите хвалу всевышнему, сын мой, за то, что он дал вам столь чистое сердце. Этот дар драгоценнее, чем все золото мира, он стоит вечности; смотрите же, храните его. В Париже столько соблазнов для неопытной души, а вы так молоды. Послушайте меня. Наша встреча – по небесному произволению. Я живу с сестрой, которую горячо люблю, и она отвечает мне тем же; мы живем уединенно, но нужды не терпим, нам прислуживает кухарка, пожилая девица честнейшей души. Позавчера мы уволили нашего лакея, он совсем нам не подходил: никакого благочестия и притом распутник. Я как раз ходила утром к нашему доброму другу, священнику, он обещал найти для нас человека. Но тот, которого он имел в виду, уже устроился на место и не хочет уходить: в том же доме служит его родной брат. Если хотите, поступайте к нам; конечно, нужна чья-нибудь рекомендация.
– Увы, сударыня, – сказал я, – как видно, я не смогу воспользоваться вашей добротой; у меня здесь совсем нет знакомых. Я ни у кого не служил, кроме господ, о которых вам рассказывал, да и у них ничем не успел себя проявить. Правда, барыня оказывала мне расположение, но теперь она удалилась в монастырь, и я даже не знаю, в какой. За меня могла бы поручиться только эта дама, да еще один мой земляк, который служит в поварах; но он едва ли годится, чтобы рекомендовать меня в ваш почтенный дом. Если вы дадите мне время, чтобы разыскать мою прежнюю хозяйку, вас, я думаю, удовлетворит ее отзыв, а мнение дядюшки Жака, повара, пойдет впридачу.
– Дитя мое, – сказала она, – во всем, что вы говорите, чувствуется искренность, которая вполне заменяет рекомендацию.
Тут мы подошли к дверям ее дома.
– Войдите, войдите же, – сказала она, – я поговорю с сестрой.
Я последовал за ней, и мы вошли в довольно богато обставленный дом,[17]17
Ряд деталей в описании дома девиц Абер и первого визита к ним Жакоба, как показал Ф. Делоффр в комментариях к своему изданию романа Мариво, напоминают сцены из «Похождений Жиль Бласа» Лесажа – посещение героем лиценциата Седильо и его ключницы сеньоры Хасинты (кн. II, гл. 1). Однако это совпадение может быть случайным: «Похождения Жиль Бласа» вряд ли стоит рассматривать как один из литературных источников «Удачливого крестьянина».
[Закрыть] в котором мебель и все убранство были под стать наряду его благочестивых обитательниц. Порядок, простота и опрятность во всем.
Каждую комнату можно было принять за молельню; стоило туда войти, как тебя уже подмывало произнести проповедь. Все дышало скромностью и чистотой, все призывало душу насладиться молитвенным самоуглублением.
Вторая сестра была в своей комнате; положив руки на подлокотники кресла, она отдыхала после завтрака, предаваясь на покое пищеварению.
На маленьком столике подле нее видны были остатки завтрака, состоявшего, как можно было судить, из полбутылки бургундского, двух яиц и сдобной булочки.
Надеюсь, эти подробности не утомят читателя; они дополняют портрет особы, о которой я рассказываю.
– Ах, боже мой, сестрица, как долго вас не было, я даже начала беспокоиться, – сказала та, что сидела в кресле, той, что вошла. – Это и есть слуга, которого нам рекомендовали?
– Нет, сестрица, – ответила вошедшая, – это славный молодой человек, которого я встретила на Новом мосту; если бы не он, я едва ли дошла бы до дому: мне стало дурно, он заметил это и вызвался меня проводить.
– Право, сестрица, вы совсем себя не бережете, – возразила та, – я не могу одобрить ваше поведение. Зачем было идти спозаранку так далеко, да еще не позавтракав, и только затем, чтобы не опоздать к обедне? Разве господу угодно, чтобы мы болели? Неужели нельзя служить ему, не убивая себя? Неужели служение всевышнему требует, чтобы мы подрывали свое здоровье и не в состоянии были бы потом пойти в церковь? Право же, благочестие должно быть осмотрительнее. Мы обязаны беречь себя, чтобы как можно дольше возносить хвалу тому, кто Даровал нам жизнь. Вы хватили через край, сестрица; хорошо бы вам посоветоваться об этом с нашим духовным наставником.
Что ж теперь говорить, милая сестрица, сделанного не воротишь, – возразила младшая, – я думала, что выдержу это испытание; правда, мне хотелось перед уходом закусить, но было еще так рано, и я побоялась, не баловство ли это? Если не подвергать себя испытаниям, то и заслуга невелика. Но больше это не повторится, иначе мне опять станет нехорошо. Все же господу, как видно, была угодна эта ранняя прогулка, ибо по его святой воле я встретилась вот с этим юношей; слуга, которого нам хотели рекомендовать, уже устроился на место, а этот молодой человек только три месяца как приехал в Париж; он рассказал мне всю свою историю, и я вижу, что он человек порядочный; конечно, само провидение ниспослало нам его. Он честен, скромен, наши условия ему подходят; что вы об этом думаете?
– Наружность у него располагающая, – сказала ей сестра, – но мы поговорим об этом позже, когда вы подкрепитесь. Позовите Катрин, сестрица, пусть подаст вам завтрак. А вы, друг мой, идите на кухню, там вас тоже накормят.
Я отвесил поклон. Вошла Катрин и получила распоряжение дать мне поесть.
Катрин была девица тощая, рослая, накрахмаленная; весь ее облик дышал строптивым, гневливым, сжигающим благочестием. Надо полагать, такое состояние духа происходило от кухонного жара и соседства с раскаленной плитой. Впрочем, мозги святоши, а тем более святоши-кухарки от природы сухи и легко воспламеняются.
Конечно, к истинно набожным женщинам мои слова не относятся. Существует большая разница между любовью к богу и тем, что обычно именуется благочестием, а лучше сказать ханжеством.
Ханжи раздражают, тогда как люди истинно благочестивые служат добрым примером. У первых святость только на устах, у вторых – в сердце; первые идут в церковь, чтобы там побывать и покрасоваться, вторые – чтобы помолиться богу; вторые смиренны, первые требуют смирения от других. Одни служат богу, другие только делают вид, что служат ему. Прочесть молитву для того лишь, чтобы сказать: «Вот я молюсь»; прийти в церковь с молитвенником ради удовольствия вертеть его в руках, перелистывать и читать; устроиться в дальнем уголке и, втайне любуясь собой, застыть там в позе глубокого раздумья; довести себя до восторженного исступления и гордиться возвышенностью своей души; иной раз и взаправду испытать религиозный восторг, вызванный раздраженным тщеславием и кознями дьявола, который ничем не брезгует, чтобы ввести таких людей в искушение; вернуться из церкви, не чуя под собой ног от самодовольства и питая презрительную жалость к обыкновенным людишкам, и, наконец, упиваясь сознанием своих заслуг перед небом, вознаградить себя за труды кой-какими невинными поблажками, чтобы поддержать слабеющие силы, – таковы люди, которых я именую святошами; их благочестие на пользу одному лишь лукавому, как вы сами понимаете.
Что касается истинно набожных людей, то они приятны всем людям, в том числе и злым: ведь злые почитают добрых куда больше, нежели подобных себе, ибо самый ненавистный враг злого человека – тот, в ком он узнает себя.
Надеюсь, эти мысли об истинном и ложном благочестии оградят меня от всякого порицания.
Но вернемся к Катрин, из-за которой я пустился в эти рассуждения. В подражание монастырским привратницам, она носила на поясе тяжелую связку ключей.
– Принесите свежих яиц для сестрицы, она еще ничего не ела, – обратилась к ней мадемуазель Абер-старшая, – и проводите этого молодого человека на кухню, пусть пропустит стаканчик.
– Стаканчик! – проворчала Катрин, впрочем, добродушно. – Он пропустит и два, если судить по его комплекции.
– И оба за ваше здоровье, мадам Катрин! – ввернул я.
– Ладно уж, ладно! – отвечала она. – Пока здоровье мое не пошатнулось, вреда мне от этого не будет. Что ж, пойдем, поможешь сварить яйца.
– Да нет, Катрин, не стоит, – запротестовала мадемуазель Абер-младшая, – принесите горшочек варенья, и хватит с меня.
– Нет, сестрица, это мало питательно, – возразила старшая.
– От яиц у меня будет несварение, – упорствовала младшая. Сестры заспорили, в ушах так и затрещало: «Сестрица, то» да «Сестрица, это». Катрин одним взмахом руки положила конец пререканиям, решив спор в пользу яиц, и отрезала, выходя из комнаты:
– Одно дело завтрак, а другое десерт.
Я последовал за ней на кухню, где она угостила меня остатками вчерашнего рагу и холодной дичью, а также поставила на стол едва початую бутылку вина и полную тарелку хлеба.
Ах, что это был за хлеб! Лучшего я не едал: белый, пышный, душистый! Немало требуется любви и внимания, чтобы испечь подобный хлеб; только благочестивая рука могла вымесить его, – то была рука самой Катрин.
Ну и завтрак мне подали! Один вид этой кухни возбуждал аппетит – все тут располагало к еде.
– Ешь, ешь, – приговаривала Катрин, отбирая самые свежие яйца, – господь велел каждой твари питать себя.
– Тут найдется чем исполнить сию заповедь, – подхватил я, – к тому же я голоден, как волк.
– Тем лучше! – заметила она. – Но скажи, ты взаправду нанялся к барышням? Останешься тут жить?
Надеюсь, что да, – ответил я, – и был бы весьма опечален, если бы Дело сорвалось; служить у вас под началом, мадам Катрин, одно удовольствие. Вы такая обходительная, такая разумная!
– Стараемся, как умеем, – сказала она, – на все воля божия. За каждым водятся грешки, и я от своих не отрекаюсь. Худо то, что жизнь идет себе да идет, и чем дольше живешь на свете, тем больше творишь пакостей, а дьявол-то не дремлет – так учит церковь – вот и воюй с ним, с нечистым. Я очень довольна, что барышни берут тебя на службу; с тобой, кажется, можно поладить. А знаешь, ты как две капли воды похож на моего покойного Батиста, за которого я чуть не вышла замуж. Славный был парень и красивый, вроде тебя. Но не за это я его любила, хотя приятная наружность никогда не помешает. Господь его прибрал; что ж, на то его святая воля, ему не укажешь. А ты вылитый Батист и говоришь – ну точно, как он. Как он любил меня, боже, как любил! Конечно, я уже теперь не та, что была, а какой с годами стану – и думать не хочется. Как звали, так и зовут – Катрин, а только ничего от прежней Катрин не осталось.
– Помилуйте! – сказал я ей. – Если бы Батист не умер, он бы любил вас по-прежнему. Я его двойник и поступил бы не иначе.
– Ишь, ишь, – возразила она, смеясь, – значит, я еще могу нравиться? Кушай, кушай, не стесняйся; а когда разглядишь меня поближе, заговоришь по-другому. Куда я теперь гожусь? Только душу свою спасать, но и это не так просто, как кажется: пошли, господи, терпения!
С этими словами она вынула из кастрюльки яйца, а я собрался нести их наверх.
– Нет, нет, – возразила она, – завтракай спокойно, чтобы на пользу пошло, а я сама схожу, да кстати послушаю, что там о тебе говорят. По-моему, ты для нас самый подходящий человек, я так им и скажу: нашим барышням десять лет надо, чтобы решить, чего им хочется; так уж я беру на себя труд хотеть за них. Ты не беспокойся, все устроится. Я рада помочь ближнему, тем более, оно и богу угодно.
– Премного благодарен, мадам Катрин, – сказал я, – главное, не забывайте, что этот ближний – вылитый Батист.
– Ты кушай, – сказала она, – тогда дольше будешь на него похож; я люблю, когда ближний живет долго.
– А я смею вас уверить, что ближний вовсе не прочь пожить на свете подольше, – подхватил я, подняв и осушив полный стакан красного вина за ее здоровье.
Такова была моя первая беседа с мадам Катрин. Я привел ее разговор в точности, только выпустил около сотни присказок вроде «хвала господу» и «да поможет нам создатель», которые служили ей то припевом, то главным мотивом всех речей.
Видно, эти словечки были неотъемлемой частью ее говорливого благочестия; но что за беда! Ясно одно: я был не противен почтенной домоправительнице, так же как ее хозяйкам, особенно мадемуазель Абер-младшей, в чем вы убедитесь из дальнейшего.
Я кончил завтрак и ждал решения; наконец, Катрин спустилась и сказала мне:
– Ну, друг сердечный, доставай ночной колпак: с сегодняшнего дня ты ночуешь здесь.
– Ночной колпак достать недолго, – сказал я, – а шлепанцы уже на ногах.
– Вот и ладно, красавец, – сказала она, – отправляйся за своими пожитками, да не опаздывай к обеду. Пока ты завтракал, тебе уже и кое-что из жалованья набежало – это я поставила в условие.
– А много ли его будет набегать? – спросил я.
– Ах, плутишка! – сказала она, смеясь. – Но я тебя понимаю. Не беспокойся, в накладе не останешься.
– Полагаюсь на вас, – ответил я, – поверьте, я не из тех, кто гонится за деньгами; я и сам знаю, что устроился лучше, чем заслужил, спасибо вам за заботу.
– А ты краснобай! – заключила она, растаяв от искреннего чувства, которое я сумел вложить в свои похвалы ей. – Ну, прямой Батист, будто я с ним самим поговорила. А теперь убирайся, да повеселей, мне надо обед приготовить, болтать с тобой некогда, так что не мешай дело делать, беги за своим барахлишком. Одна нога здесь, другая там.
– Считайте, что все уже исполнено, – сказал я, выходя, – я мигом. За моей поклажей обоз посылать не придется.
С этими словами я побежал в свою харчевню.
По дороге я однако призадумался – стоит ли поступать в этот дом? Впрочем, я ничем не рискую: не понравится – можно уйти; а завтрак был недурен; судя по всему, благочестие у барышень не считает кусков и не требует умерщвления плоти. Весь уклад в их доме пришелся мне по душе; парней моего возраста не чураются, кухарка ко мне благоволит; четыре трапезы в день обеспечены, все сулит удачу; только бы самому не оплошать!
Занятый этими мыслями, я не заметил, как очутился у дверей харчевни. Хозяйке я ничего не был должен, если не считать прощального поклона, и я тотчас же ушел, захватив свой узел с вещами.
Когда я вернулся, дамы как раз собирались садиться за стол. Провалиться мне на этом месте, – лучшего обеда я не едал! Суп был то, что называется «суп», а уж о жарком нечего и говорить: как зажарено, что за аромат!.. Только человек железной закалки, вовсе нечувствительный к радостям, что дарует нам лакомый кусочек, мог бы не впасть в грех чревоугодия, вкушая подобное жаркое, а после него рагу (ибо на стол подали и рагу, сдобренное тончайшего вкуса приправой, какой я более нигде и никогда не пробовал). Если бы на небе принято было есть, я не пожелал бы себе там лучше приготовленного обеда. Такой обед мог бы составить одну из приманок Магометова рая.[18]18
По представлениям магометан, в загробной жизни верующего ждало существование, полное забав, увеселений и чувственных наслаждений.
[Закрыть]
Дамы наши не ели отварного мяса, это блюдо только на минуту ставили на стол, после чего убирали нетронутым и отдавали беднякам.[19]19
Блюдо… убирали нетронутым и отдавали беднякам. – Благотворительность, вызванная крайним обнищанием народных масс в последние годы царствования Людовика XIV, была характерной чертой общественной жизни XVIII в., выдвинув своих теоретиков и активистов, например, Клода Пиарона де Шамуссе (1717–1773). Однако, часто она носила показной характер, не столько действительно помогая нуждающемуся, сколько оскорбляя его самолюбие. Против такой благотворительности, неотделимой от религиозного ханжества, и выступал Мариво в своих книгах. В «Жизни Марианны» он вкладывает в уста героини следующее рассуждение о благотворительности: «Люди совершают свои благодеяния весьма неуклюже и унизительно для тех, кому они оказывают их! Вообразите себе, как целый час толковали о моей нищете, о сострадании, которое я внушала, да о том, что было бы великой заслугой перед небом сделать доброе дело и помочь мне; говорилось, как христианская вера требует, чтобы обо мне позаботились, а потом шли высокопарные рассуждения о милосердии, напыщенно выражались ханжеские чувства. Никогда сострадание так хвастливо не выставляло напоказ свои печальные обязанности; сердце у меня разрывалось на части от стыда; и раз уж я заговорила об этом, то замечу, что зависеть от помощи иных людей весьма мучительная пытка, – как назвать иначе милосердие, которое не соблюдает душевной деликатности с неимущим и, прежде чем облегчить его нужду, уязвляет его самолюбие? Хороша добродетель, которая доводит до отчаяния своего подопечного! Можно ли считать милосердными всех, кто занимается благотворительностью? Никак нельзя (Mapиво. Жизнь Марианны, стр. 50).
[Закрыть]
Катрин тоже отказалась от вареного мяса в пользу бедных, как она мне объяснила, и я, вслед за остальными, немедля изъявил готовность творить добро. Благой пример заразителен.
Впоследствии я узнал, что мой предшественник не вносил своей лепты в эту милостыню, потому что, по беспутству своему, не был достоин столь завидной чести и не желал довольствоваться жарким и рагу.
Мне до сих пор непонятно, что происходило у обеих сестер за обедом, но несомненно тут крылась какая-то загадка.
У них совсем не было аппетита, а если и был, то невидимый; куски исчезали с тарелок незаметно, раньше чем к ним кто-либо прикасался.
Обе дамы лениво ковыряли мясо вилками и чуть-чуть приоткрывали рты, равнодушно скользя глазами по заманчивым кушаньям.
– Мне сегодня совсем не хочется есть.
– И мне тоже.
– Все такое пресное.
– А по-моему, все пересолено.
Поначалу я клюнул на эту удочку и воображал, что мои хозяйки совсем ничего не могут проглотить, а между тем, убирая со стола, замечал, что блюда более чем наполовину опустели; в первые дни я никак не мог все это уразуметь и согласовать.
Но постепенно я понял, в чем тут хитрость: мое внимание отвлекалось их брезгливой, недовольной миной, и я не замечал под этой маской скрытой работы челюстей.
Забавнее всего было то, что они и в самом деле считали себя очень скромными и воздержанными в пище. Известно, что набожной даме не пристало быть лакомкой, что «надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»; но вопреки этому разумному и благочестивому наставлению, их прожорливый аппетит не желал ничего упустить, и они нашли способ дать ему полный простор и в то же время не погрязнуть в чревоугодии: для этого достаточно, кисло скривившись на лакомое блюдо, разочарованно тыкать в него вилкой – и вы можете считать себя никудышным едоком, не отказываясь в то же время от удовольствия вкусно покушать. Прикрываясь подобными уловками, их благочестие умудрялось ладить с обжорством.
Что делать? Лукавый хитер, а мы глуповаты.
Десерт был под стать обеду: цукаты и варенье чередовались с рюмочками ароматнейшего ликера, который способствует пищеварению и возбуждает притупившийся аппетит.
После обеда мадемуазель Абер-старшая говорила младшей:
– А теперь, сестрица, возблагодарим всевышнего.
– Это справедливо, сестра, – отвечала младшая, вздыхая от полноты благодарности, которую господь и впрямь заслужил от них обеих. – Это справедливо!
Обе сестры поднимались со стульев и с благоговейным смирением, которое было вполне оправдано в такую минуту и заслуживало дальнейших наград, степенно складывали ладони, чтобы сообща вознести молитву, по очереди повторяя ее слова с чувством, которому сознание собственного благополучия придавало особенную выразительность.
После того как Катрин убирала со стола, сестры усаживались в кресла, мягкость и глубина которых призывали к покою, – и начиналась беседа о прочитанной страничке из Священного писания или о проповеди, услышанной в этот день, либо накануне, которая клеймила – не в бровь, а прямо в глаз – прегрешения господина такого-то или госпожи такой-то.
– Проповедь указывала прямо на них: скупость, суетность, гордыня и другие пороки были в ней разобраны так глубоко!
– Но как можно, выслушав слово божие, упорствовать в своих грехах? Ах, сестрица, как нам это понять?
– Возьмите хоть госпожу такую-то: уж до чего усердно посещала в пост все проповеди, а что она вынесла из них? По-прежнему кокетничает. Боже мой, а как была одета мадемуазель Н? Ужас, сплошное неприличие. Можно ли в таком виде являться в церковь! Признаюсь, из-за нее я отвлеклась от молитвы и не знаю, как теперь вымолить прощение у господа бога. Ужасно!
– Вы правы, сестрица, но я, видя такое, опускаю глаза. Гнев заставляет меня отвращать взгляд от подобного зрелища и благодарить господа бога за то, что он уберег меня от греха; и я от всего сердца молю его просветить людей, предавшихся заблуждению.
Вы спросите, читатель, каким образом я узнал о содержании этих бесед, целью коих было облегчать пищеварение за счет ближнего?
Очень просто: убирая посуду и приводя в порядок комнату, в которой сидели сестры.
Когда, смахнув со стола крошки, я уже собирался пойти обедать, мадемуазель Абер-младшая подозвала меня к себе и тихонько, чтобы не потревожить сестру, которую сморила послеобеденная дремота, сказала мне то, что вы узнаете, если прочтете следующую часть.
Конец первой части
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































