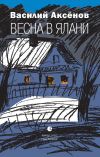Текст книги "Золотой век (сборник)"

Автор книги: Мария Боталова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Парни, айда-те на Бобровку. Тагунков половим – поедим, то чё-то в брюхе заурчало, – опять на нём веснушки проявились – просветлился.
Ну и пошли мы на Бобровку. И Андрюха Есаулов с нами, и Маузер, и Сашка Пуса, и Шурка Сапожников, и Вовка Устюжанин, и Володька Прутовых, и так за нами – мелкота разная последовала – пока не гоним.
Пришли мы на Бобровку, где она не тихая и не глубокая, а мелкая и перекатистая. В ней, в Бобровке, только пьяные, когда куражатся, да сумасшедшие, которым всё равно, купаются – вода в ней и в июле ледяная – кони не пьют её – холодная такая. Но тоже вкусная. «В Кеми вода, конешно, добрая, ничё не скажешь, – говорит Иван Захарович. – А уж в Бобровке – как царко-овная; в ей, зуболомной, с головою окунёшься – все грехи с себя разом смоешь… В яё поссал Егорий Храбрый, когда с Анчутой Лапчатым разделался… Яй-Богу, так в Писаные и прописано».
Снял Рыжий с себя майку, завязал её со стороны лямок узлом – тебе и вентель.
Шаровары, чтобы их не намочить, мы подвернули и рыбачить взялись: двое ведут, а остальные загоняют. Почти полную банку литровую наловили цветных тагунков и гольянов. А есть их не с чем.
– Вы тут пока костёрчик разводите, – говорит ребятам Рыжий. – А мы до Машеньки спалкам, на Половинку.
Ребята разжигать костёр остались. А мы с ним, с Рыжим, к Машеньке отправились.
Как подошли, остановились перед окнами, позвали.
Высунулась из окна Машенька, на свет уличный зажмурилась и говорит:
– А это вы опять – немец и мурин. Давно, однако, не видались.
– Пойдём отсюдова, – говорит Рыжий. – Она ещё и обзыватса вздумала.
Пошли мы было.
– Да ладно, ладно, неча обижаться, – говорит Машенька. И улыбается. И говорит: – Воду черти возят на обиженных-то. Сказывайте, – говорит, – зачем пожаловали, облазы.
– Хлеба нам, Христа ради, не дашь немного? – спрашиваю я. Рыжий молчит – обиделся по-настоящему, похоже.
– Да дам, конечно, как не дам-то. А радив Христа – дак и особенно.
Дала нам Машенька по целому ломтю, каждый намазав прежде толсто маргарином; дала и соли. Это нам на двоих. Дала ещё и полковриги – на остальных. Протянула она нам всё это в окно и говорит:
– Хлеб да вода – мудрых еда. В рот ломоть – давай молоть. Ешьте, ешьте, не стесняйтесь. Кто мало ест, тот не растёт.
– Спасибо, – говорим мы. И Рыжий отошёл уже – отходчивый.
– На здоровье, милые, – говорит Машенька. Сказала так и скрылась там – в потёмках горенки.
Пошли мы обратно. Идём. За обе щеки уплетаем хлеб, намазанный маргарином и посыпанный солью.
– Вкусно, – говорит Рыжий.
– Вкусно, – соглашаюсь. И говорю: – А мужика-то того жалко.
– Какого? – спрашивает Рыжий.
– А рот которому перекосило, – говорю.
– А-а, – говорит Рыжий.
Я говорю:
– Тому и не попробовать.
Вернулись мы к ребятам.
Поели тагунков – сырком – макая в соль, закусывая хлебом. У костра сидим – костёр-то так, от комаров только. Подбрасываем в него старые еловые шишки. И без огня, конечно, жарко. Рыжий и говорит:
– Баста, орлы! Пора к Пшеничкину Игнату.
Мы: мол, а чё, просил опять он?
– Да-а, я ему, дурак, пообешшался, – говорит Рыжий, отвалясь на взлокоточки и глядя куда-то поверх ёлок. – Заплатит – курева накупим – посмолим маленько, может, – сказал так и циркнул слюной себе через плечо.
Затушили мы костёрчик, дружно пописав на него. Тушить начал Рыжий – он и говорит:
– Одна кобыла всех заманила.
Шкетам идти за нами строго запретив, к деду Игнату мы направились.
* * *
Есть у нас такой в Ялани – Игнат Иванович Пшеничкин. Есть и ещё один такой же – полный тёзка этого, но тот не этот, тот другой, тот родной дедушка Андрюхи Есаулова, и тот двухногий, с тем мы в пристенок часто зудимся на деньги. И с тем сейчас нам лучше не встречаться – задолжал кое-кто из нас ему, да и не мало, а прилично, – ещё поймает и отлупит.
Домишко у Пшеничкина Игната стоит на одали, старенький, пихтового лесу, с маленькими оконцами мутного, зелёного стекла, врос наполовину в землю. Крыша желобниковая. Наличники простые, не окрашены.
Сидит уже Игнат у себя на завалинке, что в деревянной, бревенчатой, опалубке, под левым окном. Ждёт.
Под правым – на соломенной постели лежит кобель старый, с бельмом на одном глазу. Плачет. Шарик.
– Чё ты всё скулишь там. А, гамнюк? Уж надоело, – говорит ему дед Игнат.
Одна нога в сером, латаном валенке с завёрнутым голенищем, другая – на деревяшке с круглой резиновой подмёткой – пристроена на чурке – выставил её дед Игнат – торчит та, как пушка. Из прорехи штанов глядят исподние – зелёные, фланелевые. На голове шапка-ушанка – сидит задом наперёд. Тесёмочки болтаются.
– Здорово, дед Игнат, – приветствуем мы старика.
– Вам наше, варнаки, коли не дразните нарошно, – говорит дед Игнат. – На заработок припёрлись? Или так, куда проскоком?
– На заработок, – говорим мы.
Опять заплакал Шарик.
– Володька, – говорит дед Игнат Рыжему, – пойди-ка, почеши ему за ухом, тока не шибко – болячка у него там – развередишь.
– Чё, так, ли чё ли? – говорит Рыжий. – Даром, дед Игнат, и чиряк даже не вскакиват.
– Вот выродок, язви тебя… рыжий мерин, – говорит дед Игнат. – Один, наверное, такой на всём белом свете. Ладно уж, сверху полтинничек тебе накину.
– За полтинничек сам пусть чешется, не инвалид войны, – говорит Рыжий.
– Ну и не чеши, плакать будем будто. И, вправду што, сам прочешется, – говорит дед Игнат. – Вот уж пёстрый, дак уж пёстрый.
– Не обзывайся, дед Игнат, – обижается Рыжий. И говорит: – А то уйдём счас от тебя, и будешь…
– Дак доведёшь идь… и зловредный ж.
Подался Рыжий к Шарику.
– Начинайте! – командует старик.
Привалился спиной к оконному наличнику.
Зажмурился.
– Приступайте, мать вашу в болоте через кочку!
Подняли мы его целую ногу на чурку. Сняли с неё валенок. Носок с неё стянули.
– В пим яво, носок-то, пожалуй, не суйте. Пусь на ветру малёхонько обыгат… отопрел-то, – скрючил пальцы на ноге старик. Ногти жёлтые. Потрескавшиеся. Как глина в зной – так же. – Жарко-то так, и сам, как люша.
– Дед Игнат, тебе щепочкой? – спрашиваем мы.
– Пятку шшэпочкой – конешно, а подошву – когтями, дак чё, – отвечает дед Игнат.
– А проволокой?
– Проволокой нельзя!.. Как можно, – встрепенулся дед, открыл глаза. Ощупал ими наши руки. Закрыл глаза снова. – Я же идь плотяной, а не жалезный… Поехали. Володька! Остань от кобеля – полтинника не увидишь. А и её ещё не дам тебе, зарплату основную.
Скребём мы по очереди старику пятку щепками, щекочем пальцами пятку.
– О-о-ой, ой, ой! Мать вашу в болоте!.. О-о-о-оах, хорошо, дак как ещё хорошо-то, просто: ра-а-адась… А пошибче-ка пяточку, пошибче-ка её, древнюю. Так, так её. О-о-о-о. Занозу тока не вгоните… Вот так, вот так её, исхоженную. Ой-е-йёо-ох, деньги зарабатывают. Ой-е-ёах, конхет-пряников накупят. В кино военное сбегают, ох-ой, труженики, шпиёнское поглядят, махоркой вкусно обдымятся.
– Хватит, может, деда, а?
– Дак пошто это?! – приоткрыл – слезятся – глаза. – По рублю ещё не заработали. Чё мамки ваши скажут, грабит, дескать, Игнат наших рабятишек, подзаработать не даёт им, мол…
– Прошлый раз мы и то меньше тебе чесали.
– Прошлый раз я вам деньги раньше работы вашей выдал. И дурак был, говорил уже. Печалюсь – глупый. Не жалаете – дело, конешно, ваше. Других сышшу, ведь тока свистни… Мальцов безденежных в Ялани – как вон воробьёв… О-о-о-о-ой, ой, ой, мило-любо… другой пятки нет, дак жаль вот, то бы и вовсе оно благось… Ну, ту я мысленно… О-о-а-а. По два рубли уже – так считаю. Шибче, шибче. Ну и рабятишки, ну и старальшыки. Не здря сосали титьки мамкины – толк добрый вышел. Ещё копейки по две… Ох, и разорите вы старика – на поминки не оставите и грошика. Через три дни у меня – «За боевые заслуги». За день до Ильи потом – «Орден Красной Звезды». Дожжа не окажется, дак в это же время милости просим. Шашнадцатого, запомните, июля – «За отвагу» – тоже подходите. О-о-ой, хорошо как, замечательно. Денег на вас не напасёшься. Чё дальше – после, доживу ежлив, дак скажу… Там, глядишь, и Спас… Жаль, что царский-то когда, не помню… Знаю, что осенью, а вот когды?..
– Хватит, дед Игнат. Руки уж пристали.
– Ну а ещё-то на копеечку, то вдруг где не достанет… А там и с Богом. В магазин. Чё в магазине этом тока нету… Живой воды? И та, поди, найдётса. А из-за копеечки – нет её – и слатости иной раз какой не приобретёшь – досадно.
– Всё-о-о, не можем больше, руки вон уж занемели.
– Да всё ли? Это на полкопеечки. Ну да будет, уж и вправду, приневоливать не стану, не мучитель, не терзатель какой-нибудь злобный. И то потрудились. На славу. Обувайте. О-о-о-х, жизь – гамно, а деньги – семючки – карман худой, дак всё и высыпаются… С австрийцами, учил Суворов, не водитесь… дак я с ём, с полководцем-то, согласен полностью – дурной народишко, ох и дурной же… эти австрияки.
Обули мы деда. Достал дед из кармана монеты. Долго то с той, то с другой стороны каждую разглядывал – не передать бы лишнего. Расплатился. Рыжему на ладонь – отдельно положил бумажный рубль. Присвистнул Рыжий, сжал кулак свой конопатый.
– Хапуга, – говорит ему дед Игнат. – Козлишшэ алчный… Надо других уже подыскивать… таких – без наглостев.
– Хм, – говорит Рыжий.
– О-о-ой, – говорит дед Игнат. – Душа у меня, рабятишки, шибко пакостная – до того уж тело моё доброе и безответное измучила… Хошь заскулись, ага, как Шарик вон. Што он, што я – паршивцы оба. Вы попросите Бога, поумаливайте, чтобы прибрал меня скорее – то невтерпёж уж. Но. Чё-то всё дёржит, а пошто, не сообшат. Бог рабятишек слушат, как свирельки. Тока ты, Рыжий, не проси – попортишь дело. Прибери, мол, его, Осподи… Ага!.. Эх, жизь – лапша, а смерть – тарелка…
Пустились мы от деда взапуски. Пыль за нами по дороге – как за волокушей – не продохнуть тому, кто сзади нас останется.
* * *
Подошли мы к магазину. Мужики гурьбятся около – гоготливые. МТС нашаяланская так называется: «Полярная» – выходной сегодня в мэтээсе, перерыв коротенький в работе. После посевной в колхозишках раздолбанную технику на Станции подладили маленько, теперь к сенокосу и к уборочной её готовить будут. Но это завтра, с понедельника, хоть и день-то, мужики в шутку журятся, не начинный, а – чижолый.
И мы на корточки присели тут же – любопытно.
Дядя Ваня Патюков – тот, если выпивши чуток, то по деревне с табуреткой разгуливает – фокус всем желающим и нежелающим показывает: пристроит табуретку сиденьем на землю, сухими, жилистыми руками в её ножки упрётся и стойку на руках сделает – стоит с минуту, с две ли, вниз кудлатой головой, размахивая при этом ногами в начищенных до блеска полуботинках, как сигнальщик. В морской пехоте воевал он.
Сегодня дядя Ваня под хмельком – и с табуреткой. Нас увидел, во весь рот заулыбался – многозубый. Табуретку опрокинул, совершил фокус. Майка сползла ему под мышки – живот и спину оголила. Изранен весь он, дядя Ваня, – в синих и розовых рубцах у него и спина вся, и живот – шрапнелью. Парнишкой он ушёл на фронт, вернулся старцем седовласым. Три похоронки во время войны на него приносили родителям – оплакали они его три раза. Воскрес. Живой вот. И хороший – не шишига и не жмотик – конфетки нам обычно преподносит.
Угостил нас и теперь, с упражнением закончил только.
Вынул он, дядя Ваня, молча и улыбаясь, из огромного кармана – расстегнул его сначала, на застёжке у него тот, чтобы при фокусе-то из него не высыпались медяки да паперёсы, – вынул он из кармана своих широченных шкер пригоршню подушечек – обнесены конфетки, как сыпью, табачными крошками, – предложил нам слатось эту – мы не отказались – чем уж чем, но табаком-то мы не брандуем – нормально.
– Ребяти-и-ишки, – говорит нам дядя Ваня. И смотрит на нас на всех по очереди. – Родные вы мои.
И мы ему:
– Спасибо, дядя Ваня.
– Да на здоровье, милые вы мои, на здоровьице, – говорит дядя Ваня и от счастья чуть не плачет, кажется.
И Фанчик здесь же. Прозвище у него такое – Фанчик, а так-то, если по-настоящему: Иван Тимофеевич Верещагин. И он тоже ветеран. Половину нижней челюсти, а заодно и зубы передние, верхние, снесло ему из пулемёта белофинского на фронте, поэтому и говорит он так, что мало кто у него, увечного, что может разобрать. Но кто привык, тот понимает.
С мужиками, слышим, он, Фанчик, такой уговор сейчас держит – если они, мужики, пойдут и принесут ему белоголовку, выльет он водку в какую-нибудь посудину, накрошит туда хлеба и всё это выхлебает, а если выхлебает и не поперхнётся, то они, мужики, купят ему за это и другую поллитровку, а если не ссилит, не управится, тогда он выставляет им две сразу.
Уговорились. По рукам ударили. Сходил дядя Петя Есаулов, отец Андрюхи Есаулова, в магазин, принёс белоголовку и буханку чёрного ржаного хлеба. А Фанчик ждёт его уже, собрался с духом – стоит с деревянной самодельной ложкой – из-за голенища своего ялового сапога только что её вытянул и облизал – в одной руке, а в другой – с пустой консервной банкой из-под какого-то компота – под скамейкой тут же и валялась та, только травой протёр внутри её. Накрошил он, Фанчик, в банку хлеба, бутылку распечатал, в банку вылил содержимое, бутылку в сторону отбросил – в кювет дорожный укатилась та, – хлебать начал. Не давится. Глаза закрыл – сосредоточился – как перед боем. Бежит белое струйкой сверкающей по подбородку повреждённому – под ворот гимнастёрки утекает. Стошнило дядю Петю, отбежал тот к забору, согнулся – в траве как будто, под ногами у себя, выглядывает что-то. И одного из нас стошнило – Маузера – близко уж слишком к сердцу принял всё.
– Тогда пойдём пока отсюдова, – говорит нам Рыжий. – Курево и пряников потом, наверное, купим… А то слабак вон вислоухий…
Смолчал Маузер на этот раз, не огрызнулся – виноватый.
И пошли мы.
Возле клуба остановились. Речь со столба по площади разносится. О Кубе что-то и – о Кастро. Молодец этот Кастро – даёт прикурить американцам. Фидель, одним словом.
Стрельнул в громкоговоритель Рыжий из рогатки. Попал. Но ничего с ним, с громкоговорителем, не случилось – бумкнул только и болтает себе дальше.
– Айда на берег, парни, сходим, – предлагает Рыжий.
Но отказались все – вдруг по домам идти засобирались.
– А чё там делать? – спрашиваю я. – Мы же уж были…
– Надо, – отвечает мне Рыжий. И говорит всем остальным:
– Ну, тогда ладно. Сбор через час… примерно, так. На нашем месте – возле Дышшыхи. Я, может, курева где раздобуду – и покурим. Ну а на деньги пряников с крем-содой после купим… Счас, и не знаю, чё-то расхотелось.
– Не об мухлюешь? – спрашивает его Шурка Сапожников. – Честно слово?
– Вот вам крест… – начинает было, размашисто крестясь, Рыжий.
– Нет, нет, не так! – перебивает его Вовка Устюжанин. – Ты по-советски.
– Честное ленинское и сталинское, – торжественно произносит Рыжий, выкинув перед лицом по-пионерски руку. – И смертью баушки клянусь.
Деньги он там ещё, у магазина, забрал себе все, под рубаху их упрятав, – наш казнохран он полномочный, и дед Игнат его товариш и дальний-дальний его родственник, к тому же, так что понятно, мы не прекословим.
И разошлись мы кто куда.
* * *
Я стоял, не зная толком, что мне делать. А он, Рыжий, долго ходил по галечнику, разгребая его босыми ногами, не кудахтал только, как курица, при этом; присматривался. Бродил, бродил, остановился вдруг и говорит:
– Во-о, отыскал!.. Должны же, знаю, быть такие здесь… раньше-то часто попадались.
Что-то поднял и держит на ладони.
Подступил я к нему ближе, смотрю: обыкновенный камешек; белый, на пуговицу маленькую похожий.
Рыжий и говорит:
– Такие, парень, вот ищи.
– Зачем? – спрашиваю.
– Сказал же, надо, – говорит Рыжий.
Ещё штук пять нашли подобных – и по размеру, и по цвету.
– Теперь айда, – говорит Рыжий. – Хватит.
– Куда? – спрашиваю.
– К нам, – говорит Рыжий.
– Не-а! – говорю. – Мамка увидит, работать заставит.
– Не увидит – мы задами, – говорит Рыжий. И говорит: – Хочу маленько отомстить.
– Кому?
– Паулюсу.
– А ей-то чё?
– Она меня вчерась ремнём по жопе секанула… как чужого… ишшо и счас, зараза, зудится… И увернуться не успел… И ни за что – вот чё обидно!
По дороге, возле общежития, где живут курсанты-механизаторы, подобрали мы окурки, на старой, пустой и безоконной молоканке спрятались и ладно ими накурились: по три добрых бычка высмолили. Пошли – нас даже закачало.
– Ядрёные, – говорит Рыжий. – Крепости от матушки-земли в себя втянули – полежали-то.
– Но, – соглашаюсь.
– Ты аж зелёный вон… как плесень, – говорит Рыжий.
Я молчу.
Пробрались мы огородами. Вступили в ограду к ним, к Чеславлевым. Дедушка Иван Захарович сидит на крыльце, трубку громко, как младенец пустышку, посасывает. Увидел нас и говорит:
– Ну, чё, засранцы, накупались? – сказал так и говорит: – Вижу, вижу кунку рыжу.
Мы ему не отвечаем. И ему до нашего ответа дела нет, похоже, никакого: забыл про нас тут же, как про воздух, подпёр небо носом – старый.
Юркнули мы в дом. Родителей дома нет – пошли покосы смотреть и, где надо, так их, покосы-то, почистить. В избе одна Марфа Измайловна. Не на огороде сегодня – пока жарко. Сидит возле окна, носок – натянула его на электрическую лампочку – штопает. В очках, те – у неё на самом конце носа.
– Ба-а, – зовёт её Рыжий.
– Чаво тебе, – откликается та, не отрываясь от заделья.
– А ты лекарство сёдня принимала?
Молчит сразу бабушка, а после и отвечает:
– А чё тебе-то за забота?
– Да нет, я просто, – говорит Рыжий. – А то подал бы.
– Ну дак подай, – говорит бабушка Марфа. И говорит: – Пора уж, правда.
– Счас, – говорит Рыжий.
Подступил к шкафчику, открыл его, достал оттуда баночку коричневого тёмного стекла. Таблетки из неё в горшок цветочный тихо вытряхнул, вдавил их, словно семена, пальцем в землю, а вместо них, таблеток-то, в баночку камешки, что отыскали мы на берегу кемском, засунул.
Подошёл после к бабушке, подал ей баночку. И говорит:
– Ба-а, возьми.
Повернулась бабушка к внуку, потянула носом, как собака на гону, воздух и говорит:
– Ох, Асмадей-то энтот проклятушшый! – наскрозь всего уж прокурил, гад, парнишшонку – пропах, как потник, – это она, бабушка Марфа, про дедушку Ивана, про мужа своего. И бормочет тут же, следом: – Святый Архангеле Селафииле, молитвенниче, моли Бога о мне, о грешной… и так за мной плохого-то чё много и уж на язычишко шибко невоздержна… Уд мой – враг мой, энто – правда, – помолилась так она и говорит Рыжему: – Ты уж и кумку мне подай с водою – запить-то чтобы. Давай сюды тогда и ложки.
Принёс Рыжий бабушке кружку с водой и две ложки алюминиевые. Отложила Марфа Измайловна штопанье, вынула таблетку из баночки, положила её в ложку, принялась другой давить её, раскрошить чтобы. Давит, давит. Зубов-то нет, так десной об десну – от усердия – шамкает. Выскочил, выскользнув, камешек из ложки – улетел куда-то под кровать. Искал Рыжий, искал – не нашёл. Из-под кровати вылез и говорит:
– Ты бы, ба-а, осторожней, а то и лекарства так тебе не хватит.
– Учи, учи, меня, коло-о-одник.
Сказала так Марфа Измайловна, но таблетку давить теперь не стала. В рот взяла её и, проглотив, водой запила. Сидит, опять штопает.
Сидим и мы на скамейке, смотрим на Марфу Измайловну.
А после Рыжий, ткнув меня локтём в бочину, и спрашивает:
– Ну дак и чё, ба-а, полегчало?
– Полигча-ало, полигча-ало, – говорит Марфа Измайловна. – Как не полигчало – одно и спасенье, что – лекарсво. Как без него жила бы, и не знаю… А чё тебе-то? – спрашивает.
– Да так я, просто, – отвечает Рыжий, едва сдерживая смех и чуть не прыгая от счастья.
– А чё ты ёрзашь?.. не сидишь-то. Всё, как опарыш, батюшка, и шевелишься. Побыть спокойно – за беду… Колодник, каторжник, помилуй меня, Осподи, – говорит Марфа Измайловна. И говорит: – У людей вон ребятишки всё как ребятишки, а у нас… не знаю прямо… бытто в крапиве всех насобирали.
– Ну, ладно, ба-а, мы пошли, – говорит Рыжий.
– Тупайте с Богом, с Богом, милые, – говорит Марфа Измайловна. – А то, гляжу, и так уж шибко чё-то задержались.
– Я тока баночку назад поставлю, – говорит Рыжий.
– Поставь, поставь, еслив не лень… чтоб мне-то, старой, не вставать, не лазить, – говорит, не глядя на него, бабушка.
Взял Рыжий с подоконника баночку с таблетками, понёс её к шкафчику, а пока устраивал её на место, другой рукой успел – запихнул себе под рубаху три пачки папирос отцовских – «Северу».
* * *
Пошли мы на Дыщихин угор, где через час-другой с друзьями встретиться условились. Идём пока за огородами. За изгородь, словно канунной бражки тяпнули и захмелели, придерживаемся, то чуть не падаем – от смеха.
Буска – всё вроде не было его, а тут откуда-то примчался – нос у него в трухе какой-то – не то полёвок промышлял, не то где в мусоре копался, – уставился на нас бестолково, поводя ушами и наклоняя морду то влево, то вправо, будто шуруп ею, мордой, как отвёрткой, в воздух вкручивая, – что за беда такая с нами приключилась вдруг, не понимает.
– А она… – начнёт было Рыжий, но досказать никак не может, только пополам сгибается, как в корчах, отрываясь руками от изгороди и хватаясь ими за живот себе, хохочет. – А я… – и запинается на этом. – Ой, сил уж нет, аж брюхо разболелось… Ой!.. «Полигча-ало, полигча-ало»!.. – и глаза свои – то сузит, то расширит их – как будто точит.
– А я смотрю… – говорю я и в захохотки тут же, тоже хватаюсь за живот – смех заразительная штука.
– Ну и Маршал Рокоссовский, ну и Паулюс… «Коло-о-одник»!
И Буска лает, к земле припадая, – решил, что с ним мы забавляемся.
Идём. Маленько успокоились.
Уже и знойно. Темя напекает. Сетки-то, накомарники, мы дома, в сенцах, у него, у Рыжего, оставили, чтобы не потерять их ненароком где-нибудь, а то бывает, и получай потом за это – за потерю-то. «Всыпят как следует, по первое число». Так говорит об этом Рыжий. Головы голые у нас – не перегреться бы.
Курицы клювы поразинули, больные будто, занеможили, по изжелта-зелёной, выгорающей уже, муравке бродят, квёлые, только на небо изредка скосятся – коршуны там, в белёсом и безмолвном поднебесье, сами с собой тоскливо и протяжно вскликивают – «пить у Ильи-пророка просят»; курицы коршунов не жалуют.
Собаки дрыхнут – развалились под телегами, заслонили морды себе лапами – от мух пронырливых – от них, от мух же, и лениво отбиваются, себя по морде колотя, когда те в ноздри им уже полезут.
Телята малые, селетки, в тени попрятались – возле забора, у стены, а кое-где и за поленницей – машут хвостами и лягаются – тоже от мух, от них, назойливых. А овод – жарко – так чуть убыл.
Рыжий, как от жары будто, может быть, и от жары, язык высунул, закусил его зубами: достал он, Рыжий, из-под рубахи рогатку, в руке несёт её теперь – вдруг да понадобится, мало ли: или какой где воробьишко зазевается – того угробить, или сорока полетит над нами – влёт сшибить ту, стрельнуть ли просто где – по банке, по бутылке.
Идём.
Магазин проходим, видим: спор у мужиков он, Фанчик, выиграл – лежит уже в кювете без чувств. Сидит рядом с ним на обочине пасынок его, Сын Фанчика, – угрюмый. Мы с ним не водимся, не дружим – потому что он бирюк и бука. Жены у Фанчика нет, нет и матери у Сына Фанчика – прошлой осенью ещё исчезла, как морозы только наступили, а куда, и неизвестно. Вдвоём живут они теперь, справляются – он, Фанчик, и сын его, Фанчика, так и зовут в Ялани все которого: Сын, дескать, Фанчика. А имени его не знаем мы.
Из мужиков у магазина никого уже – в клуб подались, наверное, – в бильярд там зудятся, на стадион ли – играют, может, в городки. Или в прохладе пребывают – бочку портвейна завезли вчера в чайную.
Рогатку Рыжий снова спрятал; вернул на место и язык.
На теневой стороне улицы, на скамеечке и на чурочках возле Дыщихиной избы сидят кучно старики и старухи – пёстрые.
Напротив них, на полянке, стоит ведро цинковое – в нём – дымокуришко: редких уже, в жару-то, комаров и слепней отгоняет.
Время у нас есть – пока приятели не подоспели.
Поздоровались мы. Сели после прямо на траву около разговаривающих. Слушаем.
Про Ефросинью Делюеву, слышим, толкуют. Дочь её, Гликерия, рассказывает:
– Она мне счас и говорит: кросна-то, девка, убирай, мол, а мы дорожки взялись ткать с ней, кросна-то, дескать, убирай – в два часа по дню я помирать, мол, буду. Да ты пошто така-то, я ей, ты чё заладила-то сёдня, чё ты с утра-то затростила? Да я ничё, мол, говорит. Убирай, дескать, убирай, чтобы потом-то не сумятничать. Сон, дескать, видела – объявил во сне ей будто кто-то: на летний солноворот, мол, Ефросинья, помирай, не мешкай, дольше-то, дескать, не задёрживайся. Срок, мол, твой вышел, пострадала. А я не знаю, чё и делать мне?
Чаще её, Гликерию, в Ялани Лушей Толстопятой называют – ноги у неё полные, икрястые. А Марфа Измайловна ещё и так: девица, дескать. А уж какая там девица-то – старухам ровня.
– Дак чё, – говорят старухи. – Послушайся, велит-то еслив. Раз приказыват, готовься, значит. – И завздыхали, закрестились: – Пожила, помучилась. Ох, все там будем, Осподи, прости нас.
А на чурке возле них, возле старух, ногу на ногу устроив и сцепив руки в пальцах под коленкой, сидит, ссутулившись, как над могилой, отец Патюкова дяди Вани – дедушка Серафим. В длинной серой он косоворотке с голубой, плетёной опояской. В сизых плисовых, поношенных штанах и в броднях, от которых дёгтем крепко пахнет. Тик нервный у дедушки Серафима – дёргает он щекой непрестанно, словно от комара ею, щекою, отбивается, и мигает часто левым, единственным, глазом – будто сшивает себе веко, чтобы хоть этот-то не выпал. Другого нет – верхом он, дедушка Серафим, куда-то ехал на коне, рассказывали, на сук обломанный еловый напоролся глазом – вот тот и вытек у него. Молчал всё, вроде слушал, а потом и говорит он, дедушка Серафим, такое – и ни к селу ни к городу как будто:
– Мы не живём, не сушшэствуем, а Бог во сне своём нас тока видит. Он как пробудется – и мы все до единого поисчезам, всех нас корова языком как будто слижет. Это мне ясно. А потому, пустые люди добрые, и вытворять всё можно, чё ни вздумал: Бог-то – Он есть, дак нас-то нету. Делашь ты чё, не делать ли – оно лишь кажется… ей-Богу… А еслив нет тебя, дак как тебя накажешь? Всё остальное-то – извитие словес.
Выслушали все его, высказаться ли ему, дедушке Серафиму, просто позволили, и опять о Ефросинье засудачили: уж и не диво – пожила, мол, и будет жить ещё, дак тоже, дескать, ладно: чужой чей век не заедает – смирная.
А он, дедушка Серафим, «при царе ишшо, при Миколае Олександровиче, повоевал с японцами, потешился – с иконой Богородишной да с колуном ходил на них, на одинаковых, – винтовок не было, не подвезли», – как он сам лично про себя рассказывал когда-то нам. «Под взрыв попал – его немножко и контузило» – так на него старухи наговаривают. Но видеть стал он после этого далёко, через ельник, через горы, и «рассуждать чудно маленько» начал. Кому чудно, а нам вот нравится.
Чей-то кобель чёрный пробежал мимо, не обращая на добрых людей никакого внимания. Столб Дыщихиного палисадника бегло окропил по ходу – и правильно сделал. Марфа Измайловна рассказывает про неё, про Дыщиху, такое: «После войны как раз… Скуда шибкая. Нужда такая, попустил Осподь. А мужичонка у неё, у Дышшыхи-то, кладовшыком в сельпе работал – продуктишки у них, конешно же, имелись. Ну, там какие-никакие… в рот чё положить было, одним словом. Жили-то так оне – невенчанно, внебрачно… без оформленья, сошлись – и жили. Утонул в Кеми он после, в самое раскалье. А тут, в Волчий-то Бор, военнопленных навезли – лес валили да сплавляли. Голо-о-одные. Холодные. Одеты плохонько. Придут в Ялань, побираются. А у людей-то чё – кто бы и дал – картоха тока. И к ней, к Дышшыхе, как-то направились – кто насоветовал, или уж так – Осподь повёл их туда зачем-то – как на испытание. Дай нам Христа, мол, ради, хошь картофельных очистков – попросили. Баба здоровая она – как одного наотмашь да другого – те так в сенишках-то, изморенные, завалились. Она их за ноги да за ворота. Так за версту её потом и обходили. Тянутся, видишь после, к Сушихе гуськом все – та подавала, привечала их… У нас всё в бане вон и грелись. Теперь уж мало кто живой-то».
– Собака, – сказал про убежавшего уже прочь кобеля Гурам, татарин нехрешшёный. Все в Ялани зовут его Гурамом, только Аркашка, яланский пекарь, тоже татарин, тоже нехристь, называет его Гумаром. Сидит он, Гурам, или Гумар, тут же, промеж старух. В аракчине – в тюбетейке. Борода у него редкая – четыре волосины. Молодой. В рубашке вышитой и в брюках отутюженных: к Насте-Кобыле свататься никак собрался. Сказал так Гурам и говорит после, загибая у себя на пальцах: – Ислентьевых сожгу, Сапожниковых сожгу, Поротниковых сожгу, Толкушкиных сожгу, тебя, Дыщиха, сожгу, а Сушиху сжигать не стану.
– Ну и на том спасибо, милый, – говорит ему Марья Митривна Белошапкина – острословая – ей на язык попасть, как «сесть на жало».
– А ты мне дашь аршин ситцу, – говорит ей Гурам.
– Дам, дам, как не дам, родимый, – отвечает ему Марья Митривна.
Молчат все после – петух Дыщихин из ограды в подворотню на улицу выбрался, будто яйцо снесла ограда – его выдавила, стоит, лупоглазый, – на петуха теперь все смотрят.
– Петух, – говорит Гурам.
Молчат все. Только петух закукарекал – придурошный.
Время прошло какое-то, и говорит он, дедушка Серафим:
– Вижу, Медосий Ферапонтович Делюев, пасешник, своёва конишку в оглоблишки вводит, запрягать, наверно, будет – сюда, в Ялань, поди, собрался. Трава на ней, на тележонке-то… для мягкости.
Молчат все – то ли про то, что Серафим сказал, думают, то ли – про петуха, какой красавец тот. А тот, и правда, видный – как индеец.
Медосий Ферапонтович Делюев – родной брат Гликерии и сын собравшейся, как сообщила только что сестра его Гликерия, помирать сегодня, в солноворот, Ефросиньи. Из кержаков они. Старообрядцы. Зимует и летует Медосий Ферапонтович на пасечном угодье, километров за тридцать от Ялани, в верховьях глухой, таёжной речки Суятки, почти безвылазно, в Ялани объявляется он очень редко – в магазин за провиантом или продуктами лишь иногда пешком придёт или приедет на коне да в день родительский на могилку к отцу наведается – похоронен тот у них не на общем для всех яланцев кладбище, а прямо в ельнике, отдельно от никониан, от наших то есть. Тихой. Неразговорчивый. Борода у него зелёно-белая, словно лишайник, по пояс – знатная, в которой, как старухи утверждают, «могута таится ведовская». Если бы он, Медосий Ферапонтович, уснул когда-нибудь и где-нибудь на воле, пьяный, мы бы её ему спалили, постарались бы. Но не валяется Медосий пьяный, жалко. Зато вот брат его Власий Ферапонтович – тот напивается частенько. Плотник-то знатный он – нужды в копейке не имеет, так и позволить себе может, и угощают его люди – то под начин, то в завершение – баньку кому поставит, крышу ли где перекроет. А как напьётся Власий Ферапонтович – близнецы они с Медосием-то, – так и шуму по Ялани – как от стихии. Набравшись, спать, «как путний», плотник не ложится, а «с рыком грозным, аки зверь», вываливается на улицу – из своего ли дома, из гостей ли – и, «сдрешной и заполошный», кидается на первого попавшегося без разбору, а потому уж и зубов лишился многих – шепелявит, ведь на какого где нарвёшься, но, несмотря на это, он не унимается. «Таких и ветер мимо облетат», – говорит про него Марфа Измайловна. Женился Власий Ферапонтович на калмычке, привёз которую из Елисейска, где отбывал пятнадцать суток, «честно заработанных, – в клубе, во время выборов каких-то и куда-то, поколотил он стулом изнутри все стёкла в окнах. Байчха её, жену его, зовут, а у старух так получается: Бахча. Никто её, Байчху, нигде не видит – из дому он её не выпускает, сама ли она не выходит, – лишь иногда издалека, в их, делюевском-то, огороде. Две дочери у них народились – тихие, не в дядю ли? – те нас постарше – и два парня, двойняшки, наши ровесники – Сергей и Алан – свирепые – мимо их дома все опасливо проходят, даже и Рыжий – ордою вылетят и отмутузят – один, Сергей, на русского похож, другой, Алан – тот вылитый ханёнок. Прячемся мы и от их родителя мастерового, Власия Ферапонтовича, когда он выпимши, конечно, – если ему тогда под руку – обробеешь где и – попадёшься, то за чупры или за уши точно оттаскает.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!