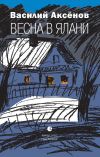Текст книги "Золотой век (сборник)"

Автор книги: Мария Боталова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Устроились мы сразу, как пришли, особняком от всех под старой, дуплистой, с надломленной когда-то бураном или ураганом, но живой ещё рассохой – «нашей» – вербой, расположились под ней на песке табором. Так уже тот, песок-то, раскалился, что прикоснуться к нему или лечь на него, если ты голый, можно теперь только мокрому, сухой-то будешь – обожжёшься. И обсыхаешь на такой жаре моментом – как гусь или утка, как сковородка на огне ли.
– Сварить яички, парни, можно, – говорит Рыжий, переворачиваясь с живота на спину и заслоняя ладонями лицо себе от солнца.
– Запросто можно, – соглашаемся.
Больше, чем надо, нынче на реке народу – скопишшэ целое, как говорит Рыжий, – всех сюда жара пригнала – в глазах рябит, от шуму в голове звенит и перепонки в ушах чуть не лопаются – столько. Перекат перекричать пытаются – и вовсе. Кто не в воде сидит, тот тут, на берегу, по-разному с ума сходит: девчонки в трубочиста вон играют – смех да и только.
Настя-Кобыла среди них – как каланча, над всеми высится – никто не хочет чистить с ней трубу; держится за руку с каким-то чахлым шкетом – в воздухе тот маленько не болтается; не стоит Настя ровно – всё её вбок как будто, как скворешню ветром, клонит – из-за неё трубу всю изгибает. Изгибалась, изгибалась – и на кирпичи как будто развалилась – рассчитались шкеты и девчонки и в догоняжки играть принялись. Настю, хоть и на неё иной раз жребий выпадет, голить не заставляют – толку не будет никакого – так поэтому: вместо того, чтобы кого-нибудь догнать да и засалить – а ей, кого, скакнула раз, как кенгуру, и ухватила, – она от всех возьмётся улепётывать – ей и с ума сойти не страшно – глупая.
Шпана из Городского края ещё одну покрышку откуда-то прикатили – большая, выше самой шпаны – вшестером её толкали – от комбайна – поджигать её сейчас начнут – уже костёрчик под неё, видим, разводят – разгорится скоро, зачадит. Придёт с Половинки Иван Лукич Меньшиков – непременно – ругаться станет: дым его пчёлам «мёд с осоту собирать мешат – пугат их», дескать. Может. Он-то, Иван Лукич, и угощал вчера нас мёдом в сотах. Вкусно. Но съели лишнего мы – и меня стошнило. Больше я есть его не стану. Рыжий – тот разом ковш парного мёду может выпить – не пронесёт его, не вырвет. А он, Иван Лукич, всегда так пахнет – пасекой. Но иногда и – медовухой. Когда ругается, то – ею, медоухой.
– Хорошо-о, – говорит Вовка Устюжанин. Лежит он на животе, руки глубоко, по самые плечи, в песок всовывает – там, в глубине, песок прохладный. Подбородок у него, у Вовки, в бело-золотых песчинках – как в бородке. А руки у него – как палочки – худые: он маненечко ракитный.
– Хорошо-о, – говорю я, проделывая то же самое. И у меня бородка, чувствую, и ладно, думаю, пусть она будет – не мешает.
Между ним и мной сидит Андрюха Есаулов. То ко мне повернётся, то к Вовке – то на меня зубами поскрипит, а то на Вовку – доволен – как у Бога будто не забыт. Не купался он, Андрюха, и не раздевался – как был в майке и в штанах, так и сидит в них, словно арестант. А когда мы все, кроме него, конечно, на другой берег плавали, он одежду нашу караулил, чтобы не подшутил над нами кто-нибудь – не спрятал бы её где-нибудь, в песок ли её не закопал, а то бывает – и ищи её потом. Ещё найдёшь ли?
Рыжий уже в рубахе и купается и загорает – «крыльца огнём пылают» у него – поэтому. Долго на берегу он, Рыжий, быть не может – раскисает. Приподнялся на локтях он, вокруг себя сначала огляделся, сел после; вытащил из-под рубахи какое-то тёмно-синее стеколышко, на солнце стал смотреть через него, затем – на Камень; насмотрелся, убрал стеколышко на место и говорит:
– Солнце, по радиву недавно сообщали, скоро на землю упадёт… Оно и так вон чё-то ближе всё, смотрю, да ближе.
– Тогда в ляпёшку нас раздавит, – говорит Шурка Сапожников.
– Ага – раздавит! – говорит Рыжий. – Спалит, дурак… Один лишь пепел и останется.
Сказал так Рыжий и говорит:
– В Линьковский край айда, ли чё ли… Может, в лапту с линьковскими сыграм там. Чё-то я тут не всех их вижу…
– Зимой упало бы, дак не спалило бы, – говорит Вовка Устюжанин.
– Но, – говорю я.
– Ага! – говорит Рыжий. – Вы полоумные, ли чё ли!
Скоро – кто был раздет, оделся – и пошли мы.
Идём.
Песок нам щиколотки обжигает – так и спешим сбежать с песка скорей на травку – бежим, прискакиваем, как ягнята.
И по траве уже идём теперь к дороге.
Рыжему и Андрюхе всё одно – тем хоть по углям раскалённым. Чуть приотстали – не торопятся.
Цоканиха – не то с девчонками играть ей надоело, не то так что в голову её втемяшилось – убегала, убегала, хоть и никто за ней не гнался, – далеко от всех оторвалась – и за нами, видим, увязалась. Несётся – аж земля под ней трясётся, – из-под ног песок вышвыривая, – косой своей сама себя стегает. Рот у неё от уха и до уха – как нарисованный – так непонятно чему радуется. Поравнялась с нами – пошла шагом – блажная.
– А я с вами, – говорит. – То скоро вечер.
– Холера, – ворчит, её глазами полосуя, Рыжий. – Ишшо до вечера-то… тьпу ты!
Как от неё избавиться, идём и рассуждаем. Теперь уж трудно – от неё не убежишь. Так только, если как-то обхитрить её, но как вот? – идём и думаем мы вслух.
Вперёд Настя не лезет, сзади в кедах своих шлёпает. Молчит – серьёзной сделалась – как учительница. Из шароваров у неё, как из кулей дырявых, песок на дорогу высыпается – ноги её, оглянешься, тончают и тончают – нормальными скоро станут.
– Ей бы, – говорит Рыжий, – ишшо и в платье бы песку нафуговать побольше, тогда бы, может, и удрали мы.
Проходим мы Авдотьиною еланью. Почему Авдотьина, никто из нас не знает. И старики не помнят даже. Но все в Ялани так её и называют: дескать, Авдотьина да и Авдотьина. Может, какой казак Авдотьин настилал. Или – какая-то Авдотья? И слева и справа от елани зыбун пузырится – тонут тут телята часто: озарятся на ярко-зелёную травку, соблазнятся, со елани в сторону сойдут и увязают – редко которого спасти успеют. Сколько их там, в пучине этой? Много – один на одном, наверное, – штабелем. Скоро, поди, самый из них нижний на той стороне земли покажется?
Выскакивают на елань с болотины лягушки – по трясине палкой только шлёпни – вылетают.
– Как чиреи созревшие, – говорит об этом Рыжий.
– Ага, – говорит Сашка Пуса.
– Но, – говорю я.
– Вы туда тока не лезьте, – показывая пальцем на топь, говорит нам тихо, как упрашивая будто, Настя. – А то утонете, мне будет жалко.
– Жалко у пчёлки, а пчёлка на ёлке, – говорит ей Рыжий.
Он, Рыжий, называет Настю Настей, а она его – Захаром – с его отцом его, Рыжего, путает, с Захаром Ивановичем.
– Не лезь туда, Захар, – говорит Настя.
– Отстань, – говорит ей Рыжий.
Поймали мы каждый по лягушке. Только Цоканиха ловить не стала – брезгует: глаза зажмурив, головой мотает резко во все стороны, как собака, когда нос у той засорится, комар ли на него сядет. Отошла от нас подальше, отвернулась, но – ушки, видно, на макушке – слушает, а слух-то у неё – как у кобылы – чуткий – не воспользуешься этим – чтобы избавиться-то от неё.
На тракт с ними, с лягушками, вышли. Сорвали по травине на обочине. Надувать лягушек принялись. Надули – пугать ими, надутыми, Настю стали было – не боится – только морщится. Лягушек на дорогу положили – лежат те, беспомощные, пошевелиться не могут, лапками лишь мало-мало двигают, – ждём, когда пойдёт машина какая-нибудь и наедет на лягушек, – знаем, как те при этом грохают, – не раз уже проделывали это.
Ждали, ждали – нет машин, не едет никакая – воскресенье. И Нордет одной, пожалуй, ходкой обошёлся. Может, и так: полуторка сломалась?
Выкинули мы лягушек в кювет – валяются они там – как брюквы.
Пошли мы.
– В Америке, или в Африке, забыл уж точно-то… где эти, негры-то, живут… лягушки, Зинка вычитала где-то, с корову водятся размером, – говорит Рыжий. И говорит: – Те уж не ходят, а лежат всё. Язык у них четыре метра – птиц на лету они им ловят. Им и ходить – зачем? – не надо.
– Да-а, – говорим мы.
– Х-хе! – говорит Рыжий.
– Вот бы такую-то надуть, – говорит Андрюха Есаулов. Но поскрипел зубами прежде.
– Ага, какую там соломину-то надо! – говорит Рыжий. – Там уж насосом еслив только, канпрессором ли.
– Но, – говорим мы.
– Хе! – говорит Рыжий.
Идём. За нами следом и Цоканиха.
Вступили мы в Линьковский край. Шагаем дружно. Как в строю. Только Настя в ногу не угадывает. Но и не подстраивается, шлёпает громко кедами своими, как ей Бог на душу положит, – опять чему-то улыбается. И пусть как хочет.
Собаки от ворот, где тень, на нас лениво смотрят, но не лают – жарко. Лежат, вывалив на поляну языки блестящие, животами, как мехами, работают – шумно дышат, как больные. А где вот солнечно, там ни одной.
Нигде не видно и гусей – на Куртюмке все, наверное, – и слава Богу-уж по кому-кому, но по гусям мы не соскучились.
Проходим щитовой барак, в одной половине которого живёт учительница, наша будущая классная руководительница, Флора Николаевна, красивая очень, но пока ещё вот холостячка, на такой и Рыжий бы, наверное, женился, в другой – считается – кузнец. В учительской половине все окна со стёклами и с занавесками, у кузнеца-одни проёмы: рамы-то есть, но он на лето выставляет их. «К природе ближе, – говорит. – Уютно», – и ещё одно он слово добавляет – нехорошее. Всегда пустая эта половина, а тут гуляют в ней, слышим, и шумно. Узнаём по голосам сразу-не трудно: сам Александров, хозяин, и гость его – плотник – Делюев Власий Ферапонтович. Поют они – и стёкла в окнах у соседки чуть не крошатся: «Бе-е-еднинькой мальчишка-а вясёленькой был, военную службу-у-у до страсти любил! Сюртук, ап-полеты скраша-али яво, прекра-асны мамзели ласка-али яво!»
Кузнец в одном оконном проёме, плотник – в другом – за столом пребывают, наверное, – пожалуй. Оба лысые и потные. Глаза у них как маслом будто смазаны – слезятся – нельзя иначе: песня-то в конце жалестная.
На козлах возле барака сидят Алан и Сергей – как два коршуна – отца своего караулят. Исподлобья на нас смотрят.
Мы их обходим – опасаемся.
Обошлось благополучно вроде. Нет, не совсем: только мы от них немного удалились, соскочил Алан с козел, поднял с земли обломок кирпича и запустил нам вслед – ладно, промазал; по плечу лишь Насте скользом чиркнуло, но та не обернулась даже.
Отвечать на эту выходку мы им не стали – знойно.
Идём дальше.
– Зинка – дура, – говорит Рыжий.
Молчим мы.
– Сеструха-то, – говорит Рыжий.
– Почему? – спрашиваем.
– А бросит Витя Сотников её, на Флоре женится. Ей-богу.
Сидит на лавочке Афанасий Гаврилович Есаулов, другой дедушка Андрюхи Есаулова. Лобастый – как Ленин. На затылке порыжевшая от времени кубанка. В штанах с лампасами. В шинелке – то ли в казацкой, то ли в колчаковской. В пимах. Руки на батоге – какой батог, такие же и руки – корявые. Пальцы на них – как корни, только двигаются – ещё живые. Батог и руки – как единая коряга – неотличимы. Боимся мы его, Афанасия Гавриловича, но мыто ладно, его и внук его родной, Андрюха, боится: «Тише», – нам говорит. Проходим мимо и дышать не смеем – не разбудить бы старика. Только Цоканихе – той нипочём всё. Почти вплотную к деду подступила, взяла за нос его и говорит:
– Проснись, дядя Большеголовая Бусарка! Спать так будешь, сороки глазыньки тебе повыклюют – ослепнешь.
Открыл дедушка Афанасий «глазыньки», а те – как взболтанная брага – не прозрачные – и что за ними – не увидишь. Уставился он ими на Настю, скоро узнал её и говорит:
– Сгинь, полоумная, пока не зашибил… Ещё, зараза, и касатса.
Смотрим мы издали – Настя нас догоняет – пока целёхонька-здорова вроде. Смирная.
Идём дальше – край-то длинный – больше километра.
Сидит на лавочке возле своего дома Секлетинья Клепикова – вековелая. «Древняя, как Православие честное, – говорят про неё старухи. – Четырёх царей пережила, родимая». Это же надо! «Она ишшо, пергамен мшалый, ажно у самого антихриста-напольеёна полюбовницею числилась», – говорит о ней Иван Захарович, а тот-то знает.
Мы и тут проходим тихо – как мимо улья – саму старуху не боимся, лишь – её ветхости – пуще всего та нас пугает: четыре царя и Напольеён за ней стоят – мерещатся – страшно.
Настя и к ней пристала, только без толку: не откликается Секлетинья – и ни на свет и ни на звук уже не реагирует – мы проверяли – как колода: выносят её из избы родственники, чтобы на солнышке обсохла чуть, обыгала, после уносят – словно доху.
– Очнись, тётя Секлетинья, – говорит ей Настя. – А то простудишься и в смерть-то с насморком…
Старуха недвижима – как ясное небо.
Подходим мы к дому Гаузеров – Витьку с собой созвать хотели.
Стоит около дома мать его, тётя Эмма, всхлипывает; в руке платочек носовой держит; и нос у неё красный – как редиска. Простоволосая. Волосы чёрные – ещё черней, чем у меня, наверное. И – как цыганка – тётя Эмма.
А дядя Карл, отец Витькин, – и тот тут же – похлопывает её, жену свою, ладошкой по спине легонько – утешительно – и опять своё, нам непонятное, толкует:
– Комт-цейт-комт-рат-комт-гуркен-салат.
– О-майн-гот-о-майн-гот, – та, тётя Эмма, только-то и приговаривает. И говорит после, на нас глядя: – Пожалей, Господи, пожалей.
– А Витьку бык забол – в больнице друг-то ваш лежит, – говорит нам из окна своей избы соседка Гаузеров, тётка Таисья Почекутова. Сразу мы её и не заметили – между геранями лицо-то.
Развернулись мы на сто восемьдесят градусов и пошли в Городской край-где больница. И Настя с нами. Что-то приплясывать вдруг начала-может быть, в кед ей что попало. Гармошка ли в голове у неё заиграла.
Идём.
– Сядь, Настя, переобуйся, – говорит Насте Рыжий.
– Не-а, – говорит Настя. – Хитрый.
Идём.
К дому-крестовику Ефросиньи Делюевой приближаемся – стоит он на нашем маршруте. Там, в доме-то, и не дошли ещё, а уже слышим, бабий рёв, пронзительный и шибкий, – дочь её голосит, Гликерия, не голосит, а взаплачь причитает: бабушка Ефросинья – понимаем – умерла. Собака на цепи у них в ограде – воет.
– Померла, – говорит Рыжий. – Как и обешшала.
– Но, – говорим мы.
– Жалко, – говорит Шурка Сапожников.
– А чё жалеть-то, – говорит Рыжий, – ей уж и время. Баушка про неё говорит: поспела, спелые долго не лежат – их смерть сгрызает.
– Но, – говорим мы. – Раз старая.
– Ну дак, – говорит Рыжий.
Уже и старухи, смотрим, к дому начали подтягиваться – с разных узгов плетутся, видим, – как в церковь. И все в платочках чёрных – нарядились. Всё их, платочков-то, концами рот себе и вытирают почему-то – пар ими, что ли, на губах своих промакивают? Может. Старух в Ялани больше, чем дедов, чуть ли не втрое: те – старухи-то – не воевали. «Старуха идь – што та же шшука, – говорит Иван Захарович Чеславлев. – Век её жаден и протяжен. В нутрях у ей – толкнёшь – уж ил один вроде побулькиват, снаружи тиной сплошь возьмётса вся, а всё, глядишь, ишшо шавелитса да кого слопать норовит… Дюжие, супротив нас, мужиков-то. Зубы-то, слава Богу, к старосте оне теряют. Дак не случайно, дысь, а промыслимо… то всех бы поедом и съели».
Подошли мы к дому. Стоим. Слушаем. В избу не заходим – никто нас туда, правда, и не приглашает. В окна-то, жалко, не увидишь ничего – все ставнями уже закрыты: умершему свет вредит, мрак кромешный ему вместо света.
– Настя, сходи туда, – Рыжий пытается её отправить в дом. – Посмотришь, чё там с Ефросиньей, а потом и нам расскажешь… Мы подождём тут.
– Не-ет, – говорит Настя. – Она покойник – я боюсь их.
– Э-эй, тоже мне, трусиха! – говорит Рыжий. – Чё их бояться? Не укусит.
– Я не трусиха, – говорит Настя. Глаза у неё светлые – как вода в Бобровке. Большие – как заплаты на штанах у Рыжего. Но она их и на солнце никогда не щурит. А вечером, когда горит заря, они у неё – красные, – как у собаки иной раз бывают, когда фонариком на ту посветишь.
– А кто ты? – спрашивает её Рыжий.
– Настя-Кобыла, – отвечает ему Настя.
– Настя-Кобыла, – повторяет за ней Рыжий. И говорит: – Она лягушек не боится, а тут покойницу вдруг испугалась. Тогда айда отсюдова… Кобыла, – и говорит: – Хотел отделаться… Пошли!
* * *
Подходим мы к больнице. Видим. Сидит на крашеном крыльце больничном дяденька в пижаме. Курит. Не наш какой-то, не яланский. На нас не смотрит, смотрит себе на ноги. Из тапок вынул их и шевелит на них большими пальцами. На голове пилотка из газеты. А сам – тоскливый-претоскливый – как дряхлая собака.
– Лагерник, – шепчет нам Рыжий. – С Холового. С подозрением на… это… чё-то там с лёгкими, не помню.
– У-у, – тихо отвечаем мы: дескать, понятно.
Берёмся за штакетник палисадника. Глядим на окна.
– Э-эй! – кричит Рыжий.
Никто другой, а он, Маузер, в раскрытое окно выглядывает сразу – как будто ждал нас – так оно, наверное, и было.
Свесился он, Витька, с подоконника, отогнул книзу мешающую ему видеть нас лучше ветку кедра, смотрит во все глаза – счастли-и-ивый. Уши как были у него большими-пребольшими, так такими и остались.
– Живой? – спрашивает Рыжий.
– Живой, – отвечает Маузер.
– А мы уж думали, бык тебе уши оттоптал, – говорит Рыжий.
– Не оттоптал, – говорит Маузер. И головой мотнул – потряс ушами: целые.
– Маленько надо было, может, – говорит Рыжий.
Смеётся Маузер, за бок при этом взялся – видно.
– Больно, ли чё ли? – спрашивает Рыжий.
– Да так, не очень, – отвечает Маузер. И говорит: – Да больно малость.
– А чё с тобой опять случилось-то? – спрашивает у Маузера Шурка Сапожников. – Ты как с быком-то с этим встретился?
– Я не встречался с ним, – говорит Маузер.
– А как тебя он забодал? – спрашивает Шурка.
– Да как, – говорит Маузер, – да так вот, просто…
– Как?
– Да так…
Ну, вот, короче:
Шёл он, Витька, себе с кладбища, шёл, по дороге задом пятился, а следом за ним, чуть ли не впритирку, откуда-то шагал понуро племенной колхозный бык – стадо своё, быть может, потерял – случается, так, по своим делам каким ли, бычьим, – ему бродить где не заказано; вроде и был всегда тот добронравный. У него и кличка-то такая: Тихий – теперь-то, может, поменяют. Брат его, Витьки, сродный, Крош Валерка, убежал домой пораньше с кладбища: в город с отцом на мотоцикле ехать торопился. Купили они, Кроши, у Илмаря Пусы, Сашкиного отца, ИЖ-49 – так вот и обновить его решили, прокатиться, пока время есть и сухо. Шёл Витька, шёл, вернее – пятился, и постёгивал бредущего за ним быка по морде прутиком. А тот как будто и не чувствовал, тому как будто даже нравилось. Но как в Ялань вступили только, бык почему-то вдруг рассвирепел: сбил с ног хилого Маузера и давай катать его рогами по земле, словно чурбашку. Ладно, что кровь, если и есть она какая в Маузере, малахольном, из него не посочилась, а то бы бык, её почуяв, его до смерти закатал. Ладно ещё, и рядом кто-то оказался. Отогнали кое-как вскипевшего и озверевшего быка от Витьки, а его, Маузера, онемевшего от перепугу, унесли сюда, в больницу. Теперь лежит вот. Вроде оклемался.
– Ну, – говорит Рыжий, – ты и придурок… – сколько-то помолчал и добавляет: – Таким и в детстве, помню, был.
Смеётся Маузер – живой остался.
– Ну, ладно, Маузер, – говорит Рыжий, – ты поправляйся тут, лежи, сил набирайся на харчах казённых, только, смотри, режим не нарушай, то – вредно, – и говорит: – А деньги мы пока не будем, значит, тратить… Когда уж выйдешь, дак тогда… – сказал так Рыжий, повернулся к нам, полоснул по всем, как скальпелем, глазными щелками и спрашивает: – Ага идь, парни?
– Ага-а, – мы, парни, вяло как-то соглашаемся.
– Ладно, – говорит Маузер. – Как хотите. Я, может, скоро… Дня через два, может, и выпишут… Так-то – нормально.
– Давай, – говорит Рыжий. – И хорошо, что уши сохранились, а то тебя и не узнать бы было… Марсиянин.
Дядька, больной, ушёл с крыльца куда-то – то ли в палату, то ли в туалет. А на крыльце стоит теперь ворона – одним глазом на нас, другим – в открытую дверь больницы пялится. И рот распахнут у неё – как у придурочной.
У палисадника больничного ещё стоим. Смотрим – кто на ворону, кто на Маузера. Полез он, Рыжий, было под рубаху за рогаткой, но…
Бежит во всю прыть – в больницу, думали, однако мимо – Панночка – про нас, как кажется, забыла – чем-то иным, похоже, очень озабочена – кричит что мочи есть, ну а кому кричит, и непонятно, – улица вся насквозь безлюдная, пустая, – ведь не собакам и не нам же: мол, мужики возле чайной дерутся.
– Ой, Боже мой, дубасятся – убьются! Ой, чё творится, порешатся, зашибутся!
Она – оттуда, мы – туда.
Бежим – один другого обгоняем. Настя всех впереди – в глаза кому из нас от кед её что не попало бы – из-под копыт-то её может залететь песок, а то и камушек. Самое время бы чуть приотстать, свернуть куда-нибудь в заулочек – и пусть бежит себе хоть до Москвы – так от неё бы и отделались, – но интересно посмотреть, как мужики возле чайной дубасятся, – не каждый день такое увидать доводится – не пропустить бы.
Смотрим, и Маузер нас догоняет – в длинных трусах своих, семейных, и без майки – чуть отдохнул в больнице-то, так – как савраска.
Бежим мы все.
И я – сандали бы не спали.
А тут Валерка Крош и дядя Густав, отец его, Валерки Кроша, – в город они ещё уехать не успели: камуру возле клуба прокололи – на гвоздь какой-то вроде напоролись, – так и вернулись, клеили в ограде – спешат навстречу нам по улице, кричат: пожар, пожар, мол, – Дыщиха горит-де.
Мы развернулись – и туда.
Бежим.
Опять нас Настя обгоняет.
Кто-то уже и с вёдрами торопится, с лопатами, с баграми – кому что по яланскому уставу, если пожар случится вдруг, прописано – с тем и бежит тот. Нам не прописано – мы налегке.
А добежали мы, и видим:
Дрова раскиданы по всей поляне перед Дыщихиным домом, а на поляне прямо, среди дров, сидит сама хозяйка дров и дома-Дыщиха. Как девчонка ясельная, малолетняя, только огромная и толстая. Расплылась по земле, как квашня, её задница; юбка-то пёстрая – красиво. Руки опущены вдоль тела. Волосы растрепались у неё, у погорелицы. Ведьма и ведьма. Бледная. И ничего сказать не может – только охает. Слева, может быть, в метре от неё, не дальше, стоит ножками вверх табуретка – узнаём её мы – дяди Вани Патюкова небелы Просто так поставлена, пожалуй: Дыщиха на ней не разместилась бы. И одной ножки нет уже – отломана, понять по слому можно – свеже. Справа от Дыщихи, как слева табуретка, сидит на осиновом полене половой кобель, сидит смирно – как в кино – на людей так смотрит: равнодушно. А Буски нет нигде, куда запропастился?
Шпана гурьбой бежит с Кеми – дым-то оттуда, с берега, конечно, видно было – кто же утерпит, там останется. Пыль по дороге за шпаной – как за дивизией.
Подходит к нам дядя Ваня Патюков – глаз у него подбитый, и из носа юшка подтекает – после драки. Улыбается.
– Ребятишки, – говорит он нам, – соколики, банки ищите, заливайте вон поленья. Где дымит ещё какое, на него и лейте больше – до тех пор, пока дымить оно не перестанет, то, не дай Бог, разгорится. Ребяти-и-ишки, – говорит он, дядя Ваня, нам. И улыбается – зуб у него один, передний, верхний, выбит – непривычно – рот через щель сквозит тёмным.
Стали искать мы разную посуду. Нашли кто что. Носим спешно воду в разных банках да склянках из Дыщихиного огорода – «Бог её, Дышшыху, как бытто надоумил» – к вечеру на поливку ещё утром ею запаслася – поленья тлеющие заливаем.
– А вы и на яё, пожарницу, плесните, на старуху-то, – говорит нам Фанчик. И он уж выспался – явился. – А то как вспыхнет, – и смеётся.
Держит его, Фанчика, сзади за вылинявшую гимнастёрку его пасынок – Сын Фанчика – сердитый.
Люди толпятся, кто собрался, и толкуют: подпалил-де Гурам с поленницы – дрова, успели, раскидали, а так бы – зной такой – изба бы вспыхнула, как порох, и вся бы улица сгорела, мало того – и вся Ялань… Где жить всем после, мол, – под небом?
– Спаси и сохрани, Осподи, – говорит кто-то. И кто-то тут же добавляет:
– Боже, пронеси. Пусть уж три раза лучше обворуют, чем одиножды сгореть: вор-то – хоть стены да оставит.
– И правда, правда! Это верно.
– Помилуй, Осподи, помилуй.
Бродят курицы между валяющимися на поляне дровами, поклёвывают что-то – безмозглые. А петуха, красавца, в спешке затоптали как-то – лежит теперь тот цветно и ярко на поляне; курицы на него не смотрят даже; мёртвый.
А мужики возле чайной – те то ли сами почему-то перестали драться, то ли уж очурал их да разнял кто, неизвестно, – одной командой «Дышшыху тушить помчались», а другой – отправились ловить поджигателя Гурама. Гнались за ним до самой, говорят, сушилки и кое-как его поймали. Повалили, говорят, его на землю, руки ему связали за спиной. Связали, говорят, ему и ноги проволокой. Там и лежать его оставили. Сами бегом обратно – на пожар. А тут и делать-то уж больше нечего – Дыщиху только – ту поднять да в тень её перенести, ополоумевшую. Все уж поленья затушили мы – и не дымятся.
Стоим. Смотрим, бежит опрометью по улице к нам кто-то в белом.
– Зинка, – говорит Рыжий. Помолчал. После кивнул на Дыщиху и говорит: – К этой рыхле, может, вызвали.
Подбежала Зинка к нам. Остановилась. Тяжело дышит – как Дыщиха – запыхалась. Только на Маузера и глядит – влюбилась в него вдруг будто – но это вряд ли: уши Маузера шибко портят, и для неё он маленький ещё, конечно. Белые босоножки – держала в руке, ей в них бежать неловко, поди, было, так и сняла их – на землю поставила, обулась, к Маузеру после подступила, за руку взяла его и говорит:
– Ох, вот ты где. Нашёлся, слава Богу, – и говорит: – Ну-ка, пойдём, беглец, обратно.
– Не-ет, – говорит ей Маузер. – Не пойду.
– Пойдём, пойдём, – говорит ему Зинка и тянет его за руку.
– Ну я ж живой! – кричит ей Маузер и упирается. И говорит: – Зачем идти-то?
– Ну так и чё, что ты живой. И слава Богу, что живой, – говорит Зинка. – Завтра из города вернётся Пётр Емельянович и хорошенечко тебя осмотрит.
– Ну я же вот, совсем живой, зачем меня ещё осматривать?! – кричит ей Маузер. И упирается.
– Пойдём, пойдём, – говорит Зинка и тянет его за руку. – Ты же послушный мальчик.
– Нет, не послушный, – кричит Маузер. – Я вредный!
– Ну я сейчас отправлю за отцом твоим кого-нибудь, – говорит Зинка. – Может, тогда ты согласишься.
Зинка такая же, как Рыжий, рыжая, но не такая веснушчатая, как он. И глаза у неё, у Зинки, не такие, как у Дымки и у Рыжего, жёлто-зелёные, как начинающая выгорать на солнце травка, а совсем-совсем зелёные, как молодые листья у берёзы. В белом халате Зинка, так и видная. «Артистка, – говорит о ней дедушка её, Иван Захарович. – Фуфыра».
– Не надо за отцом, – говорит Маузер.
– Тогда пошли, – говорит Зинка.
– Отпусти его, – говорит ей Рыжий. – То посарапаю.
– Тебе царапать, зяблик, нечем, – говорит ему Зинка. – Ногти вон все пообкусал.
– Ну, укушу – ишшо и хуже, – говорит Рыжий.
– Ты не встревай! Какое твоё дело! – говорит Зинка брату. – И почему ты тут, сопляк, не дома?
– По кочану, – отвечает ей Рыжий. – За сопляка потом ответишь.
– Ступай домой, – говорит ему Зинка. И Маузера при этом не отпускает, крепко его держит. – Помог бы бабушке, а то слоняешься повсюду, как приблуда.
– Ага, сичас, – говорит Рыжий. – Но, разбежался, – и говорит: – Вот, видела! – показывая Зинке кукиш.
– Лодырь! – говорит брату Зинка.
– Медичка драная! – отвечает тот сестре.
Утянула всё же Зинка Маузера. Видно: и сейчас ещё вон тянет его за собой по дороге. Тот не кричит уже – смирился. А упирается – из гонора: нравится ему, наверное, Зинка. Мне – тоже. Может, и всем нам, кроме Рыжего.
Стоим, молчим. Говорит спустя маленько Рыжий:
– Девятнадцать лет уже жеребухе, а бестолковая… Не укусил-то – это жаль, – и предлагает после нам: – Может, смотаемся до Ефросиньи…
Мы соглашаемся.
И побежали.
Бежим.
А Насти с нами, видим, нет – и не заметили, когда куда она и подевалась, – и слава Богу, от сердца камень будто отвалился.
Бежим. Видим, снова несётся нам навстречу Панночка. Слышим, кричит:
– Лежит Гурам, вопит, как бес гадаринский!
Мы и бежать куда, теперь не знаем – так растерялись. Смотрим друг на друга.
– Давайте к сушилке! – командует Рыжий. – Успем, наверно, к Ефросинье-то… Идь никуда она пока не денется!
Бежим.
Минуем дом Цокановых. Слышим, в стекло колотит кто-то шибко. На стук, ни на секунду не задерживаясь, оборачиваемся и видим: Настя. Маячит она, всклокоченная, как кошка, упавшая с крыши, нам знаками, о стекло свой нос расплющила, как пластилиновый, лицом по-всякому кривит – сигналит, чтобы мы ей окно открыли – её выпустили – окна у них ещё и, как в тюрьме какой-нибудь, снаружи закрываются, помимо ставен, на защёлки. Нет уж. Дальше бежим, как будто ничего и не заметили, не поняли как будто ничего.
Догоняет Панночка нас и обходит – ох и легка же она на ногу, как заяц, хоть и старуха – лет уже сорок-то ей есть, наверное, не меньше. Обгоняя нас, кричит кому-то благим матом:
– Люди, сушилка-то горит! Чё же за напасть за такая сёдня?! День Страшного Суда настал, ли чё ли?!
Бежим.
Не видно нам пока – горит где, не горит ли что – мешает ельник.
Пробежали сколько-то и видим – точно: там, где находится сушилка, дым выворачивает, небо подтесняет – ух ты!
Обогнули мы ельник, подбегаем к сушилке – близко-то к той и не подступишься – пылает. Стоим наодали. Глядим.
Летят от неё, от сушилки, вверх и падают после в Кемь чёрные, рыхлые ошмётки – как тряпки, вскинутые смерчем. На самом яру давным-давно уже была построена сушилка эта. Старая. Зерно не сушат в ней уже, а сушат на току – тот новый, тоже за Яланью, только в обратной стороне – мы голубей в силки обычно ловим в нём.
Панночки нет – куда-то где-то, видимо, свернула.
Стоят под ёлкой две девчонки с Линьковского края – рожи у них от комаров в дегтю измазанные – Светка Шеффер и Сапожникова Райка, Шуркина сестра-близняшка, – держат в руках по маленькому туесочку, глядят, обалделые, на вздымающееся к небу выше ёлок чёрно-розовое пламя, ревут навзрыд обе – как будто отлупил их кто-то ни за что. После, чуть успокоились, рассказывают, заикаясь:
– Мы землянику тут смотрели… – говорит Светка. Всхлипывает.
– А не поспела ещё… однобочка, – говорит Райка. – И не поели, – тоже плачет.
– Дяденьки плибежали и связали ему, дяде Гуламу, плоловокой луки и ноги, – говорит Светка.
– Не плоловокой, а пловолокой, – поправляет её, перебивая, Шурка Сапожников.
– Пловолокой, – поправляется Светка.
– Дядя Гурам сначала прибежал, – говорит Райка.
– Сами облатно убежали, – говорит Светка. И говорит: – И тётя Пана плибежала…
– И чё? – спрашивает Рыжий.
– И убежала, – отвечает Райка.
– А дядя Гулам к сушилке подкатился, – говорит Светка. – Стал ой тлавы сухой надлал, к самой стене сушилки положил её, спички из сапога достал и подпалил её, тлаву-то эту…
– И чё? – спрашивает Рыжий.
– Ничё, – отвечает Светка.
– Чё, так, со связанными-то руками? – спрашивает Рыжий.
– Ага, со связанными, – отвечает Светка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?