Читать книгу "Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма"
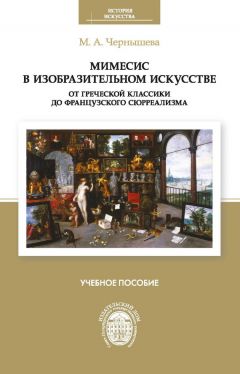
Автор книги: Мария Чернышева
Жанр: Учебная литература, Детские книги
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Часть вторая. Средние века
Иконоборчество и иконопочитание. – Теория иконы. – Онтологический мимесис. – Античное наследие в искусстве Византии и Западной Европы. – Статус изображения в Западной Европе. – Каролингские книги. – Расколдованные изображения. – Фрески из римских катакомб. – Тело во власти инстинктов и эмоций. Рельефы Гильдесгеймских врат. – Скульптуры Реймского собора. Возрождение или перерождение классической формы?
Иконоборчество и иконопочитание. Христианская доктрина много унаследовала от учения Платона об идеях – высших, трансцендентных прообразах всех земных вещей и явлений. Самостоятельные идеи Платона, существующие сами по себе и через себя, она превращает в творение Бога, содержание божественного духа.[40]40
Панофски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 1999. С. 26–27.
[Закрыть]
Все материальное, чувственно воспринимаемое средневековая христианская философия вслед за Платоном оценивает невысоко: в крайнем случае враждебно – как потакающее человеческим слабостям и отвлекающее от совершенствования души и устремления к Богу; в лучшем случае – осторожно, символически опосредовано, как свидетельство божественного всемогущества, отмеченное отблесками божественной красоты и знаками Бога. На сфере духовного, идеального Средневековье сосредоточивается с напряжением и радикализмом, не знакомым классической античности.
Идеализм Платона не противоречил определяющему для античности представлению о том, что материя тем ближе идеям, чем более ей свойственна формальная завершенность и красота. В средневековой культуре связь материального и идеального не приобретает классической уравновешенности и наглядности и принадлежит в значительной степени к области умозрительного. Иными словами, если плотское и не отвергнуто как греховное, то подчинено духовному; очищено, преображено под воздействием духовного, но с умалением своей самостоятельной ценности.
Зато христианское сознание допускает, что с высотой духа совместима не только телесная красота, но и материя невзрачная, ущербная, жалкая, отвратительная. Христианский Бог не похож на Олимпийцев. В своем человеческом воплощении он прошел через все тяготы грубой земной жизни, общался с простыми людьми, а также с убогими и презренными, испытал унижения и телесные страдания, был казнен как преступник. Образ истерзанного пыткой тела Иисуса стал памятником его духовного подвига. Некоторые богословы придерживались мнения, что внешним обликом Иисус был уродлив.
В этом христианском приятии слабой и низкой материи дает о себе знать не только аскетический отказ от чувственной полноты, яркости и притягательности земной жизни, но и особенное, столь же чуждое античной классике, как и духовная экстатичность, острое и глубокое переживание человеческой реальности, которое ведет к известному возвышению самого ничтожного в ней. На этой почве в европейском искусстве зрелого Средневековья развивается натурализм, который имеет мало общего с классическим мимесисом.
Сложное отношение Средневековья к чувственным образам зависело от противоречивой позиции церкви в вопросе о сущности и изобразимости божественного. Христианский мир оказался расколот на два лагеря: иконоборцев и иконопочитателей. Их противостояние достигло в Византии накала в VIII–IX вв. Победили иконопочитатели.
Иконоборцы настаивали на том, что божественное неизобразимо, причем наибольший их протест вызывали жизнеподобные и скульптурные образы божественного, так как они ассоциировались с языческими идолами (образами ложных богов). Иконоборцы ссылались на упоминания в Священном Писании о том, что Бог есть дух, бесплотный и невидимый, который можно только услышать («глас слов Его вы слышали, но образа не видели» (Втор. 4:12)) и на ветхозаветную заповедь: «не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 20: 4–5).
Для противников икон никакой материальный образ не способен передать и частицу духовной силы, заключенной в божественном. Изображения божественного подменяют поклонение ему поклонением бездушным грубым идолам из камня, дерева, краски. И как таковые эти изображения не только не направляют души по истинному пути веры, но сталкивают с него в святотатство.
Усиление иконоборчества связывают с влиянием иудаизма и ислама, запрещающих изображение Бога.
Теория иконы. Иконопочитатели ссылались прежде всего на догмат о Воплощении Христа. Они предлагали различать божественную сущность (первообраз), которая незрима, неописуема и неизобразима, и божественную ипостась (воплощение Христа в образе человека), которая зрима и изобразима. Ипостась не тождественна сущности, но и не отделима от нее. Изображение божественной ипостаси не только не нарушает, но и оберегает непостижимость божественного первообраза. И вместе с тем, подобно тому, как вочеловечившийся Иисус сохраняет божественную сущность, его изображение отмечено реальным присутствием энергий первообраза. Иисус есть образ Бога, икона есть образ Иисуса, а через это и Бога. Почитают в иконе не материал, а первообраз через образ, хотя энергия первообраза распространяется и на сам материал (доску, холст, краску), превращая икону в сакральный объект, способный творить чудеса.
Онтологический мимесис. У иконоборцев к этому богословию иконы возникло весомое и особенно интересное для нас возражение. Они акцентировали внимание на том, что между отражением Бога в Иисусе по природе, естественным способом, и отражением Иисуса на иконной доске, способом искусства, заключена фундаментальная разница, которую не признают иконопочитатели.[41]41
Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002. С. 178–181.
[Закрыть] Действительно, апологеты икон не то, чтобы не учитывали этой разницы, но явно сглаживали ее, и это составляет ключевой момент византийской теории иконы. Она трактовалась византийскими богословами как образ, для создания которого недостаточно усилий художника и требуется участие божественной воли.
Строгое следование канону – правилам изображения того или иного сюжета, содержащимся в литургических книгах и сборниках образцов, в иконописи имеет не философско-эстетические (как это было для Поликлета), а сакрально-магические основания. Так, по церковному преданию образы Иисуса восходят к чудесно-реальным, нерукотворным отпечаткам его лика на плате царя Авгаря, на плате Вероники, на Туринской плащанице, которые суть не только хранители его человеческих черт, но и носители его божественной энергии. Иконы Христа, повторяя эти отпечатки, делают это не столько ради передачи внешнего вида Спасителя, сколько ради приобщения к его сущности. Точнее, сущность сама повторяется в канонических вос произведениях лика, ибо их подлинным создателем мыслится сам Бог.
Легендами о чудесном происхождении окружен и образ Богоматери. Согласно самой известной версии, он восходит к иконе, созданной евангелистом Лукой, которому не давалось изображение Богоматери до тех пор, пока ему не помог сам Бог, явившись в облике младенца Иисуса на коленях у Девы Марии и завершив образ нерукотворно.
Поэтому, как бы ни были порой жизнеподобны изображения Иисуса и святых персонажей, с точки зрения теологии образа нельзя говорить о художественном подражании природе в иконах, а нужно говорить об онтологическом повторении в них метафизической божественной сущности. В отличие от художественного произведения в иконе сохраняется первоначальная субстанция образца, изображающее соприкасается с изображаемым по существу.
Мы видим, что иконопочитатели защищали икону не как художественное произведение, а как магический объект, т. е. чудесное самоявление божественной силы. Но и иконоборцы осуждали икону не как художественное произведение, а как фетиш, представляющий опасную ловушку для верующих, т. е. как объект, не лишенный языческой магии и отдающий дьявольщиной.
Иконоборцы исходили из того, что идеальное непримиримо с материей, которая поэтому должна быть отвергнута. И хотя они терпимо относились к изображениям светским, они закрывали искусству, как принадлежности чувственного мира, доступ к возвышенному. А искусство, приговоренное к бессилию в изображении небесного, неизбежно ограничено и в способности изображать земное.[42]42
Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М., 1999. С. 140.
[Закрыть]
Иконопочитатели исходили из того, что идеальное соединимо с материей, но постольку, поскольку последняя подчинена первому. И если в их представлении изображения божественного становятся проводниками возвышенного, то потому, что эти изображения преодолевают, преображают косность земного мира и не относятся к области искусства.
Мы подошли к важному тезису. Средневековые богословы не отказались от понятия «мимесис», но они забыли о мимесисе как о художественном вопросе аристотелевской парадигмы и трактовали его исключительно как бытийственный вопрос платонической парадигмы. Применение онтологического критерия к оценке изображений вело в одних случаях к их возвышению, а в других – к их принижению.
С точки зрения защитников икон, отражение в иконах божественной энергии делало их причастными к божественному бытию, поднимая над земной реальностью, т. е. онтологическое подражание достигло своей высшей цели. И прежде всего так – по их онтологической силе – иконы должны быть почитаемы. С точки зрения противников икон, а также тех средневековых теоретиков, кто относился к изображениям терпимо-нейтрально, эти покрытые красками доски не только не соприкасались с божественным бытием, но сильно уступали по степени своей подлинности даже природным предметам и явлениям. И прежде всего так – по их онтологической слабости – они должны быть оценены. Ни в первом, ни во втором случае речь не шла о собственно художественных критериях.
Онтологическое толкование искусства и мимесиса в нем было общим в Средние века для православных и католических философов. Вот пример. «что прекраснее света, который хотя и не содержит в себе цвет, однако, освещая, как бы придает окраску всем цветам предметов? что для взора приятнее, чем небо, когда оно ясно и сияет, словно сапфир, и некоей приятнейшей темперацией встречает зрение, услаждая очи? солнце сверкает словно золото, луна светит матовым блеском, словно электр, одни звезды струят пламенные лучи, другие блистают светом, а иные попеременно являют то розовое, то зеленое, то ярко-белое сияние. что сказать мне о геммах и драгоценных камнях, у которых не только полезно их действие, но и чудесен их вид? Вот земля, украшенная цветами, – какое отрадное зрелище она нам дарует, как и сколько радует взор, какое глубокое волнение в нас пробуждает! Мы видим красные розы, белоснежные лилии, фиолетовые фиалки – не только их красота, но и возникновение их чудесно. Каким образом мудрость божия производит такую красу из земного праха? и, наконец, превыше всего прекрасная зелень, как восхищает она души созерцающих, когда с приходом новой весны пробуждается новая жизнь в семенах и возносятся они вверх в виде колосьев, словно поправ смерть, и прорываются к свету, знаменуя грядущее воскресение. но зачем говорить о творениях божиих, коль скоро мы дивимся даже обманам человеческого искусства, прельщающего очи своей поддельной мудростью?».[43]43
История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. Т. 1. Античность. Средние века. Возрождение. М., 1962. С. 278.
[Закрыть]
Эта восторженная речь входит в «Наставительное поучение» Гуго Сен-Викторского (1096 –1141). Она показательна в нескольких отношениях. Мы видим, что в Средневековье было место искреннему восхищению красотой чувственного мира. Но мы также видим, что красота вещей и явлений интерпретируется не как их собственное качество, а как идущая от Бога и Богу принадлежащая. Только мудрость Божия может произвести красоту из презренного земного праха. Описание природы Гуго Сен-Викторским полно символов. Свет и сияние солнца, звезд, драгоценных камней, золота – образ божественного света. Драгоценные камни, кроме того, – ассоциация с Девой Марией. Розы, лилии, фиалки – три цветочных символа Девы: ее любви, ее чистоты, ее смирения. Восход семян – аллюзия к живительной, возвышающей силе истинной веры и обещанному воскрешению праведников после Страшного суда.
Важно обратить внимание и на то, что Гуго не распространяет свое восхищение природой на искусство, ей подражающее. С одной стороны, и искусству он не отказывает в прельщении очей, с другой – притягательности искусства в отличие от притягательности природы он внутренне сопротивляется и считает это должным. Ибо для него искусство не обладает подлинностью Божиего творения, красота искусства поддельна, обманна. И это не тот иллюзионистический обман глаз, о котором с восхищением рассказывается в античных анекдотах о художественных произведениях. Искусство выступает как ослабление природной реальности, которая сама уступает в силе истинному духовному бытию.
Античное наследие в искусстве Византии и Западной Европы. После падения западной части Римской империи под нашествием варварских племен в 476 г. Византия осталась главной наследницей античности: здесь поддерживалось воспитанное античной культурой высокое художественное мастерство, связанное с классическим чувством художественного порядка и навыками правильного изображения фигур. Но важно помнить, что классическое влияние на уровне владения художественной формой соединялось в Византии с разработанной иконопочитателями концепцией изображения, не имеющей никакого отношения к мимесису в античном искусстве.
На Западе варваризация на несколько веков заглушила античное влияние. Первая волна интереса к античности поднимается здесь во второй половине VIII в. во франкской империи Карла Великого, которую он мыслил как обновление Римской империи. Потом, до начала Ренессанса в Италии, открывшего новый период в общеевропейской истории, в разных областях Европы происходят разные сближения с античностью – ренессансы с маленькой буквы. В искусстве эти сближения осуществляются как через собственно античные источники, так в значительной степени (а порой и в основном) через классицизирующие византийские образцы.
Однако задолго до завоевания Константинополя турками в 1453 г. у искусства Западной Европы развились сильные преимущества перед византийским в наследовании античности.
Статус изображения в Западной Европе. Во-первых, преимуществом оказалось то, что раньше было проигрышем – опыт отчуждения от классической культуры. Этот опыт со временем – в эпоху Возрождения – позволил европейскому искусству, лишенному византийской инерционной связи с античностью, более заинтересованно и глубоко постичь ее со стороны, встретившись с ней на равных;[44]44
Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб., 2006. С. 103– 104, 122.
[Закрыть] приобщиться к ней не только через заимствование готовых художественных мотивов, но и через самостоятельное восстановление ценностей и воссоздание порождающих законов классического искусства.
Во-вторых, преимуществом было то, что западная церковь не переняла порожденное византийской традицией богословие иконы и с осторожностью относилась к феномену чудотворной иконы. В Западной Европе образ стал прежде всего «библией для неграмотных» и картиной. Такая концепция изображения в отличие от концепции византийской не противостояла аристотелевской и не мешала тому, чтобы искусство в перспективе вновь стало миметическим и по форме, и по смыслу.
Каролингские книги. Когда Второй Никейский Собор (также известный как Седьмой Вселенский Собор), созванный византийской церковью в 787 г. против иконоборчества, принял догмат об иконопочитании, Карл Великий велел франкской церкви опровергнуть постановления Собора, с которыми ознакомился по латинскому переводу, не передавшему некоторых терминологических тонкостей греческого оригинала. Это опровержение, составленное около 790 г., получило название «Каролингские книги» и приписывается Теодульфу, епискому Орлеанскому.
Каролингские теологи отклоняют как разрушение икон (в этом поддерживая Византию), так и поклонение иконам: «Мы довольны сочинениями пророков, евангелистов и апостолов, следуем указаниям св. православных отцов церкви… и признаем авторитет шести вселенских соборов, но отвергаем все новые языковые упорядочивания и безрассудные выдумки… как тот синод, который из-за непристойной традиции почитания икон заседал в Вифинии и документы которого лишены всякого… смысла ‹…› образы нельзя приравнивать к реликвиям мучеников и исповедников… ибо эти происходят от тела и были в соприкосновении с телом… и они воскреснут в величии… вместе со святыми в конце века… образы же получаются в зависимости от разумения искусства и от искусности художника один раз прекрасными, другой раз скверными и состоят из нечистой материи. они ни жили, ни воскреснут, а, как извест но, либо сгорят, либо разрушатся ‹…› [В Библии] не говорится ни слова о том, что иконы подобное [чудеса] совершали. Либо эти чудеса основаны на лжи и обмане, а именно исходят от сатаны, либо они совершаются самим Богом лишь над вещами, а не самими вещами ‹…› Мы ведь отклоняем не что иное, как почитание образов… и допускаем образы в церквах для напоминания о благих делах и для украшения стен… Греки почитают стены и живописные доски… Правда, некоторые знатоки могут избежать почитания… того, что является образом, и почитать то, что эти образы представляют. тем не менее образы создают для необразованных неприятность, т. к. эти почитают лишь то, что они видят ‹…› [Покажите изображения двух красивых женщин и скажите, что на одном – Дева Мария, а на другом – Венера.] оба… изображения совершенно одинаковы и различаются только благодаря надписи [которую художник по желанию добавил], которая их, однако, не может сделать ни святыми, ни недостойными».[45]45
Цит. по: Бельтинг Х. Образ и культ… С. 592–593.
[Закрыть]
Как видим, согласно богословам Карла Великого, изображения – это материальные объекты, зависящие от мастерства художника; ничего сверхъестественного нет ни в их происхождении, ни в их воздействии. Но это не является аргументом против изображений божественного – вопреки мнению иконоборцев. Ибо художественные произведения сами по себе не могут быть ни священными, ни святотатственными.
Тезисы о том, что изображения выполняют напоминающую, поучающую («библия для неграмотных»), а также просто декоративную функции, высказывались и ранее как византийскими, так и западными богословами. Главное, что отличает трактовку образа в «Каролингских книгах» и что звучит с опережающей время новизной и решительностью, это моральный нейтралитет по отношению к изображениям, который был неприемлем как для иконопочитателей, так и для иконоборцев.[46]46
Безансон А. Запретный образ… С. 166.
[Закрыть]
Расколдованные изображения. После окончательного раскола христианской церкви в 1054 г. на Римско-католическую и Православную, в католицизме важным для судьбы искусства документом стал догмат о пресуществлении, принятый в 1215 г. на IV Латеранском соборе. Это догмат о том, что конкретно и телесно Христос присутствует только во время таинства евхаристии в облатке и вине при произнесении священником слов Христа: «приимите, ядите: сие еть тело Мое» (Мт. 26:26). Иным изображениям Христа, даже если они освящены, окончательно отказано в магической способности обеспечивать его реальное присутствие.
Догмат о пресуществлении с рациональным спокойствием поставил вопрос об изображении божественного вне богословских теорий и споров и отделил изображение от магии, как языческой, так и христианской, признал его самостоятельные и как следствие самозаконные основания.
Расколдованное изображение не рассталось с задачей показывать священные персонажи и события так, чтобы волновать, воспитывать и возвышать души. Но теперь с этой трудной задачей ему пришлось справляться без помощи магии, только художественными средствами и приемами. Искусство неизбежно должно было осознать и раскрыть свой потенциал, который исконно включал важную миметическую составляющую. К тому же похожие образы, приближенные к природной и человеческой реальности, обладали силой более непосредственного воздействия и были доступны более широкой и пестрой в сословно-культурном отношении публике, чем, например, образы отвлеченно-символические.
Фрески из римских катакомб. Среди самых ранних христианских изображений – фрески, сохранившиеся в катакомбах, подземных кладбищах первых, официально непризнанных и гонимых христиан.
Катакомбная живопись воспроизводит ряд повторяющихся сюжетов и иконографических мотивов. Ведь она нацелена не на внешний мир с его бесконечным разнообразием, а на передачу постулатов новой религии через устойчивый и понятный посвященным набор символических образов.
Кроме сюжетов и символов из Ветхого и Нового Заветов здесь встречаются герои языческих мифов, которые символически отождествляются с персонажами Священного Писания. С позднеантичной живописной традицией катакомбные росписи связаны и по изобразительным манерам. Иногда формы трактованы плотно и объемно, но часто они приобретают импрессионистическую растворенность и прозрачность. Однако расхождения с языческой традицией примечательнее, чем соприкосновения с ней. Античный импрессионизм доходит здесь иногда до своего предела и превращается в свою экспрессионистическую противоположность. Манера утрачивает импрессионистическую виртуозность и приятное для глаза изящество. Она побуждает не наслаждаться беглым живописным мастерством, а испытывать духовный подъем. Изображения теряют тонкость и равномерность отделки. Мазки и линии становятся грубоваты и резки. Пейзажно и архитектурно развитое пространство языческих фресок сменяется плоским светлым фоном. Предметный состав сцен сокращается, сводятся к минимуму детали. Фигуры не только упрощаются, но и приобретают неправильность. В движениях тел исчезают разнообразие и сложность ракурсов, а главное – пластическая определенность и полнота. Акцентируются лица (особенно глаза) и жесты, которые трактуются как приводимые в движение духом.
Катакомбные росписи неровны не только по манере, но и по техническому уровню исполнения. Их особенности отчасти объясняются непрофессионализмом создававших их художников, но во многом – потребностями новой христианской изобразительности.
Сравним две фрески на распространенный в катакомбной живописи сюжет. Воскрешение Лазаря – последнее прижизненное чудо Христа, свидетельство его божественного всемогущества и символическая аллюзия к воскрешению праведников после Страшного суда. Фрески находятся в разных римских катакомбах. Они сходны по иконографическому типу, но различны по художественному языку.
В сцене «Воскрешение Лазаря» из катакомб святых Петра и Марцеллина (конец III – начало IV в., илл. 7) фон составляет только широкая полоса внизу, обозначающая землю. В соотношении фигуры Иисуса и мумии Лазаря намеренно нарушен естественный масштаб. Крошечный Лазарь, целиком обвитый погребальными пеленами, включая лицо, и вписанный в схематичный прямоугольник с фронтоном, обозначающий гробницу, не до конца принял вертикальное положение. Иисус только начинает вершить чудо: правой рукой он поднимает жезл, касаясь им головы Лазаря.
Фигура Иисуса сохраняет классические качества телесного достоинства и красоты формы. Написанная свободно, как и вся сцена, эта фигура ладна и величава, хотя объемной ее назвать нельзя. В чуть отставленной ступне, легком изгибе бедер, наклоне плечей и головы есть что-то от контрапоста греческих статуй.
Сильно отличается от этой фрески образ из катакомб святого Каллиста (первая половина III в., илл. 8). Фигура Иисуса тонка и плоска, лишена и устойчивости, и стати. Самое главное в ней – жест правой руки. Сама фигура – лишь шаткая опора для этого жеста. Рука с разведенными пальцами отчетливо выделена на белом фоне. В ней сконцентрирована повелевающая и чудотворящая воля Христа: «Лазарь! иди вон» (Ин. 11:43). У руки четыре пальца. Художник не заботился об анатомической правильности. Четырехпалость руки и сближает ее форму со знаком, и насыщает эту форму экспрессивностью. То, что Иисус управляет чудом без помощи жезла, который он переложил в левую руку, является исключением в катакомбной иконографии сюжета.[47]47
Partyka }. S. La résurrection de Lazare dans les monuments funéraires des Necropoles chrétiennes à Rome. Varsovie, 1993. P. 44.
[Закрыть]

7. Воскрешение Лазаря. Фреска в катакомбах святых Петра и Марцеллина в Риме. Конец III – начало IV в.

8. Воскрешение Лазаря. Фреска в катакомбах святого Каллиста в Риме. Первая половина III в.
Лазарь изображен без погребальных пелен и того же инкарната, что и Иисус. Особая энергия повторного вхождения в земной мир ощущается в его решительно и судорожно опершихся о землю ногах. Он как будто только что вскочил. Здесь чудо свершилось: Лазарь ожил.
Фреска из катакомб святых Петра и Марцеллина написана более умелым мастером. Образ из катакомб святого Каллиста создан наивным художником. В нем нет ни живописной красоты, ни правдоподобия, но есть убедительная экспрессия повествования, и он лучше передает сверхъестественное значение изображенного момента.
Любопытно, что при всем лаконизме, доходящем местами до схематизма, обе фрески показывают тени, падающие от фигур – иллюзорное наследие языческой живописи. Вскоре тени надолго исчезнут из христианских изображений.
Тело во власти инстинктов и эмоций. Рельефы Гильдесгеймских врат (1015 г.) были созданы в крупной бронзолитейной мастерской Гильдесгейма (Нижняя Саксония) для местной церкви святого Михаила. Левую створку врат украшают рельефы на сюжеты из Ветхого Завета, правую – рельефы на сюжеты из Евангелия. Сцены слева семантически соотнесены со сценами справа.
Врата были заказаны гильдесгеймским епископом Бернвардом, который участвовал не только в составлении оригинальной иконографической программы, но, возможно, и в самом производстве дверей: в жизнеописании епископа указано, что он превосходно владел механическими искусствами, включая работу по металлу.[48]48
Cohen A. S., Derbes A. Bernward and Eve at Hildesheim // Gesta. 2001. Vol. 40, N 1. P. 20.
[Закрыть]
В средневековом искусстве впервые за долгое время нагота выступает как особая, пластически сложная и выразительная тема в сценах искушения, грехопадения, обвинения и изгнания из рая на левой створке Гильдесгеймских врат.[49]49
Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы. СПб., 2004. С. 359–360.
[Закрыть]
Согласно Священному Писанию, человек осознает свою наготу в самый трагически-постыдный момент своей истории – в момент грехопадения, за которым последовало изгнание из рая: «и узнали они, что наги» (Быт. 3:7). Для христианина нагота исконно постыдна и оборачивается раздетостью, так как утрачивает свою античную и райскую самодостаточность.
Средневековое искусство не порождает образов прекрасной наготы, так как не может усвоить классическую идею тела. Но как это ни парадоксально, духовно воспарившее Средневековье создает такие горячо земные образы тела, по сравнению с которыми творения не отрывающейся от земли античности, включая откровенные эротические сценки в вазописи и фресковой живописи, кажутся художественно отстраненными. Вероятно, именно благодаря боязни тела и его принижению средневековому искусству удается передать то, что было незнакомо античному искусству – всю глубину, противоречивость и драматизм животно-человеческой телесности. Истоки этой новой, христианской традиции в изображении обнаженного тела можно наблюдать в рельефах на Гильдесгеймских вратах.
В сцене «Бог уличает Адама и Еву в нарушении запрета» (илл. 9) прародители показаны под диковинно-сказочным древом познания добра и зла, с которого они уже отведали плодов. Узнав, что наги, Адам и Ева неловко прижимают к срамным местам крупные листья и безотчетно пытаются прикрыть тело скрещенными руками. Одновременно они приседают и как-то сжимаются перед Господом, стыдясь содеянного греха и страшась божественной кары. Адам страдает больше, его тело скручивает и ломает судорога, он не смеет поднять глаз.
Бог под напором гнева подался вперед. В движении его руки заключены и вопрос, и наказание, и всемогущество, экспрессивная тяжесть жеста как будто перевешивает фигуру самого Бога и гнет к земле согрешивших. Эта сильная роль жеста нам уже знакома по сцене «Воскрешение Лазаря» из катакомб святого Каллиста.

9. Бог уличает Адама и Еву в нарушении запрета. Рельеф бронзовых дверей из Гильдесгейма. 1015 г.
Бог сначала уличает Адама, тот переводит вину на Еву, беспомощно тыча в нее пальцем. Через Адама жест Бога переходит и на Еву, точнее, на ее чрево: «в болезни будешь рожать детей» (Быт. 3: 16). На детородный орган Евы указывает нижний сук древа познания, а хищные листья фантастического растения позади нее напоминают вульву. Ева не теряется и, заглядывая в лицо Богу, с женской сноровкой указывает на главного виновника – змея искусителя, просунувшего хвост между ее ног. В отличие от Адама она легкомысленна и еще не поняла ужаса и необратимости происходящего, как и в следующей сцене «Изгнание из рая» (илл. 10).
Здесь Адам, так до конца и не разогнувшийся под тяжестью душевных мук, безропотно покидает рай. Ева же, шествуя за супругом, не удерживается и, словно не желая смириться со своей участью, резко оборачивается к ангелу, распрямляясь и без стеснения раскрывая свою наготу.
Сцены трактованы с тонким знанием человеческого естества: не анатомии (фигуры большеголовы, с короткими руками), а «повадки» человеческого тела под давлением инстинктов и эмоций, от возвышенных до низких. Похоть, стыд, страх, сожаление, нравственное страдание, смирение, легкомыслие, колебание, бесстыдство показаны исключительно убедительно и не только через движения, жесты, взгляды, но и через рисунок, моделировку и фактуру тел. Перед нами живая, говорящая на языке человеческих чувств телесность. И возникает впечатление, что пропорциональная правильность и формальная самодостаточность тел умалили бы правдивость и остроту экспрессий.

10. Изгнание из рая. Рельеф бронзовых дверей из Гильдесгейма. 1015 г.
В гильдесгеймских образах телесность, находясь во власти внутренней человеческой жизни, не утрачивает себя, не становится призрачной или условной (как, например, часто на катакомбных фресках, где она находилась во власти сверхчеловеческой духовности), а напротив, приобретает новые неклассические качества: уязвимость, незащищенность, жалкость. Но и другое: в теле Адама, некрасивом и почти смешном, проступает подлинный трагизм. Это сочетание жалкого и смешного с трагическим – порождение христианской культуры. И хотя Ева тоже некрасива, ее тело сексуально, и в нем пробуждается протест против суровой духовной воли. В сцене «Изгнание из рая» анатомически неточный, но полный чувственности, крутой, выпуклый и дерзкий изгиб бедра Евы выражает больше, чем ее лицо.
Именно Ева в союзе со змеем, а не Адам, выступает ответственной за первородный грех (Адам – лишь жертва). Эта обычная в христианских текстах отрицательная моральная трактовка Евы (распространяющаяся на весь женский род) впервые находит отчетливое зримое воплощение в рельефах Гильдесгеймских врат – через изображение Евы провокативно сексуальной.[50]50
Cohen A. S., Derbes A. Bernward and Eve at Hildesheim. P. 26.
[Закрыть]
Иконография ветхозаветных сцен Гильдесгеймских врат частично отталкивалась от иллюстраций из Каролингской библии, созданной в IX в. в скриптории Тура – важнейшего центра изготовления рукописей в Каролингскую эпоху. Однако в сохранившихся миниатюрах со сценами творения и грехопадения, принадлежащих Каролингским библиям турского производства этого времени, нет ничего от эротизированного образа гильдесгеймской Евы. На Турских миниатюрах Адам и Ева очень похожи друг на друга: и телесно, и по своей моральной роли.[51]51
Ibid. P. 21–22.
[Закрыть]









































