Текст книги "Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма"
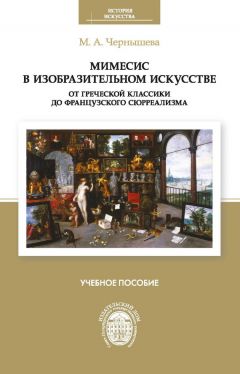
Автор книги: Мария Чернышева
Жанр: Учебная литература, Детские книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В творчестве Микеланджело античная по своему происхождению убежденность в том, что наивысшего воплощения духовное достигает в телесной красоте, соединяется с христианским сомнением в гармонии и самой завершаемости этого воплощения. Это соединение дается Микеланджело ценой титанического напряжения сил.
Статуя Давида (1501–1504 гг., мрамор, высота 434 см, илл. 32). Колоссальную статую Давида, победителя Голиафа, Микеланджело создал для Флоренции в знак того, что Давид «защитил свой народ и справедливо им правил, так и правители города должны мужественно его защищать и справедливо им управлять».[143]143
Вазари Джорджо. Жизнеописания… С. 376.
[Закрыть]
Согласно Священному Писанию, израильтянин Давид был простым пастухом и юношей, когда победил филистимлянина Голиафа, опытного воина и великана. Давид снял одежды, шлем, броню и меч, данные ему царем Саулом, и сказал Голиафу: «ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа…» (1 Цар. 17: 45).
Когда около 1425 г. флорентийский скульптор Донателло первым осмелился показать библейского героя обнаженным, нагота могла быть оправдана как указание на незащищенность героя доспехами и как напоминание о том, что он победил Голиафа не с помощью силы, ловкости и оружия, а чудом, волею Бога.
Но в отличие от своего предшественника Микеланджело не использует ветхозаветную историю как предлог для изображения в скульптуре по-женски изнеженной, капризной и соблазнительной наготы мальчика-подростка. Нагота Давида Донателло скорее прелестна, чем прекрасна. Она лишена героизма и величия и поэтому уступает в возвышенности наготе античных атлетов и богов. Микеланджело возвращает скульптуре мужского обнаженного тела возвышенность.

32. Микеланджело. Давид. 1501–1504 гг. Флоренция, Галерея Академии.
Вазари превозносит статую Давида как совершеннейшее изображение мужской наготы, превзошедшее и современные, и античные художественные образцы: «…так правильно, соразмерно, красиво ее сделал Микеланджело: прекрасны очертания ее ног, божественны мускулистость и стройность боков, невиданная вещь, чтобы что-нибудь сравнялось с приятностью и изяществом ее позы, а также ступней, ладоней, лица или с правильностью, искусностью и ровностью любого ее члена и чтобы все это сочеталось с общим рисунком».[144]144
Там же. С. 377.
[Закрыть]
Очевидно, однако, вопреки впечатлению Вазари, что Микеланджело не пренебрег подростковой неправильностью пропорций в фигуре Давида. Ноги и бедра юного Давида еще не обрели зрелой мощи его плечей и рук. Но следует ли объяснять некоторую диспропорциональность в фигуре Давида заботой Микеланджело не без натурализма подчеркнуть переходный возраст героя? Ведь Донателло изобразил Давида-подростка, не прибегая к искажению пропорций. А Микеланджело свободно отходил от классических пропорций человеческого тела и в других своих произведениях.
Микеланджело преследовал другую цель – показать не возраст, а само превращение Давида из мальчика в мужчину, а через это – его духовное преображение из пастуха в героя. Микеланджело занимает не ставший, а становящийся герой. В отличие от Донателло он изображает Давида не победителем, попирающим ногами отсеченную голову Голиафа, а полным грозной решимости к смертельному сражению, которая едва ли не важнее самой победы над Голиафом, так как предрешает ее. В трактовке Микеланджело Бог помогает Давиду в его духовно-телесном совершенствовании, а не в победе. Победа достанется Давиду уже не чудом, он завоюет ее сам.[145]145
Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XV I век. СПб., 2007. С. 123.
[Закрыть]
Поза Давида спокойна, уверена, легка. Она достойна греческих богов и героев. Но на лице собирается буря. Грозно и тревожно сдвигаются брови, буграми напрягая лоб, тенью накрывают его бурные волны волос, тяжелый взгляд бросает Давид в сторону Голиафа. Эта нравственная готовность к подвигу, отражающаяся на лице, опережает физическую мобилизацию тела, начинающуюся с кисти правой руки, которой предстоит метнуть камень в голову врага. Прекрасная, крупная, почти нежно изгибающаяся в запястье, она словно еще не ведает своей мис сии и силы, только пробуждается для схватки, но кровь уже приливает к ней по выпуклым венам.
В откопанной в 1506 г. к всеобщему восторгу, в том числе и микеланджеловскому, эллинистической скульптурной группе «Лаокоон» (мраморная копия ок. 40 г. до н. э., выполненная Агесандром, Полидором и Афинодором с оригинала II в. до н. э.) лицо удушаемого чудовищными змеями троянского жреца тоже чрезвычайно выразительно. Но эта экспрессия продолжает экспрессию тела Лаокоона. Выразительность «Лаокоона» драматически усилена и заострена, но она так же цельна и так же на виду, как сдержанная выразительность греческих статуй предшествующей классической эпохи. В «Давиде» же Микеланджело это не так.
Фигура Давида неравно выразительна в своих частях: торс горделиво и холодно спокоен, правая кисть роскошно чувственна, лицо одухотворенно напряжено. Общее впечатление от фигуры зависит от рассматривания отдельных ее частей. Всем этим она отличается как от классических, так и от эллинистических статуй. И это, во-первых, усиливает эффект изменчивой и сложной длительности экспрессии, ее жизни во времени, а, во-вторых, приводит к тому, что трудно схватить общее выражение фигуры, и возникает впечатление, что фигура выражает больше, чем видно и чем выведено вовне, воплощено. Возникает впечатление, что духовный потенциал образа превосходит (или, по крайней мере, опережает) пластические и эстетические возможности материи. Этим можно объяснять и знаменитое «non fnito» Микеланджело – разной степени незаконченность многих его скульптур.
Микеланджело первым стал изображать невидимую жизнь духа как то, что не находит прямого и полного соответствия во внешних движениях и формах, т. е. не становится до конца видимым, пластически зафиксированным.
Фреска «Сотворение Адама» (ок. 1511 г., илл. 33). Среди наисовершенных фигур в искусстве Микеланджело – Адам в сцене «Сотворение Адама» из фрескового цикла потолка Сикстинской капеллы на сюжеты Книги Бытия.
Микеланджело и в живописи верен своему духовному призванию скульптора. Он не изображает на своих фресках ни пространственную глубину, ни виды местностей, ни постройки, никаких деталей. Его живописные композиции составлены фигурами.
Сотворение Адама – это тот акт божественного творения, который больше всего и глубоко лично захватывал Микеланджело, мастера мужских фигур. И ничто не могло бы быть более высокой похвалой микеланджеловскому Адаму, чем восхищенные слова Вазари: «…точно он заново сотворен высшим и первым своим создателем, а не кистью и рисунком человеческими».[146]146
Вазари Джордже. Жизнеописания… С. 387.
[Закрыть]

33. Микеланджело. Сотворение Адама. Фреска на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане. Ок. 1511 г.
В эту сцену Микеланджело вложил свои представления об идеальном творчестве.
В правой части композиции Бог стремительно несется сквозь космическую пустоту в ореоле красной мантии-паруса, под которой умещается облако всевозможных жмущихся к нему небесных тел. Среди них есть и ангелы, и демоны, и образ еще не сотворенной Евы, и образ еще не рожденного Младенца, искупителя ее грехов. Клубящиеся вокруг Бога тела принимают живое участие в происходящем, причем некоторые тщетно силятся затормозить полет Бога, что позволяет лучше ощутить грандиозность и сосредоточенное напряжение его творящей воли. Она сконцентрирована в жесте руки, выпростанной за пределы мантии и указующей на Адама.
В левой части композиции прекрасное тело Адама вписано в узкую кромку земли и словно сковано ею, как идея скульптора – каменной глыбой. Медленное пробуждение его тела – метафора обретения им души. Тело уже завершено, но оживление его душой только началось. Адам приподнимается, опираясь на локоть, и в сонной неге, будто под гипнозом, вяло протягивает навстречу Богу руку, нежно изгибающуюся в запястье, подобно руке мраморного Давида. Две руки – Бога и Адама – замирают на фоне космической пустоты, едва не соприкасаясь пальцами, между ними остается ничтожный зазор, почти неуловимый зрителем, особенно если он находится не перед репродукцией, а в самой капелле. Между тем отсутствие соприкосновения принципиально, ибо в отличие от скульптора творящему Богу не требуется ни физического усилия, ни осязания материи. Божественное творчество – духовный акт. Таков недостижимый идеал Микеланджело.
Идея Рафаэля. Рафаэль Санти (1483–1520) работал в разных городах Италии, во Флоренции, но больше всего в Риме, где стал любимцем пап. Самое известное высказывание Рафаэля об искусстве и его отношении к природе содержится в дружеском письме к графу Бальдассаре Кастильоне, писателю и дипломату при разных итальянских дворах. Это письмо 1514 г. – ответ на восхищение Кастильоне рафаэлевской фреской «Галатея» (ок. 1512 г., илл. 36), которая была создана для друга и покровителя Рафаэля банкира Агостино Киджи на его римской вилле (вилла Фарнезина).
Содержание последнего абзаца письма можно разделить на две части. В первой части Рафаэль говорит об изображении красавицы на основании отбора из природных образцов, и в который раз мы вспоминаем о том, как подошел к задаче изображения прекрасной Елены легендарный Зевксис. Попутно Рафаэль делает комплимент Кастильоне, большому знатоку женской красоты. «и я скажу Вам, что для того, чтобы написать красавицу, мне надо видеть много красавиц; при условии, что Ваше сиятельство будет находиться со мной, чтобы сделать выбор наилучшим».[147]147
Мастера искусства об искусстве: в 7 т. Т. 2. С. 156–157.
[Закрыть]
Но во второй части Рафаэль высказывает сомнение в достаточном количестве как красивых женщин, так и хороших знатоков их красоты, и заключает, что надежней всего доверять некоей идее. «но ввиду недостатка как в хороших судьях, так и в красивых женщинах, я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на мысль».[148]148
Там же. С. 157.
[Закрыть]
Что такое идея Рафаэля? Исследователи расходятся во мнениях на этот счет. Ключевой вопрос здесь – откуда приходит на ум Рафаэлю идея: из восприятия природы, из изучения художественных образцов или из метафизических сфер, недоступных чувственному постижению? Ответ на этот вопрос затрудняет краткость высказывания Рафаэля. Оно не содержит никаких подсказок для интерпретаторов.
Сторонники метафизического, в русле платонизма, толкования идеи Рафаэля замечают, что в отличие от Микеланджело, предпочитавшего слово «кончетто», Рафаэль использует именно слово «idea», которое принадлежало неоплатоническому лексикону, широко распространенному в ренессансной гуманистической среде.[149]149
Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XVI век. С. 49–51.
[Закрыть]
Исследователи, отрицающие метафизическое происхождение идеи Рафаэля, подчеркивают, что слово «идея» сопровождается у него эпитетом «некоторая»: он пишет о «certa idea», и это снижает ее возвышенность.[150]150
Панофски Э. Idea… С. 44.
[Закрыть] Они также обращают внимание на то, что через сугубо метафизическую трактовку идеи Рафаэля не объяснить его искусства,[151]151
Gombrich E. H. Raphael: A Quincentennial Address // Gombrich on the Renaissance. Vol. 4: New Light on Old Masters. London, 1998.
[Закрыть] как, впрочем, и никакого другого искусства, если, конечно, придерживаться художественно-эстетических критериев. Ибо согласно неоплатонической логике, идеи Рафаэля должны оставаться более ценными, чем его произведения, в которых идея неизбежно извращается соприкосновением с материалом.[152]152
Панофски Э. Idea… С. 22.
[Закрыть]
Если стремиться привести идею Рафаэля в какое-то согласие с его искусством, необходимо ее несколько приблизить, так как нельзя признать, что это искусство отказывается от мимесиса. В отличие от Микеланджело Рафаэль много работал в жанре портрета (который неоплатоники не считали искусством[153]153
Там же. С. 113.
[Закрыть]), точно – порой не без натурализма – передавая сходство даже с откровенно некрасивой моделью. Но и величественным религиозным и мифологическим образам Рафаэль умел сообщить нежную грацию и естественную простоту, которых не найти в искусстве Микеланджело, уступающем рафаэлевскому в гармонии, но превосходящем его в возвышенности.
Исключительной особенностью искусства Рафаэля является также его удивлявшая еще современников выдающаяся способность с безупречным чувством меры, с непринужденностью, несовместимой с любой зависимостью, усваивать и синтезировать манеры разных художников так, что они полностью переплавлялись в новую манеру, которая, с одной стороны, отличается индивидуальностью, как собственная, узнаваемая манера Рафаэля, а с другой стороны, обладает беспрецедентной универсальностью.
Рафаэль подражал не только антикам, но и современным художникам, их манерам. Вазари подробно, на нескольких страницах описывает, как сначала Рафаэль подражал своему учителю Перуджино, потом его захватил Леонардо, потом – Микеланджело, потом – фра Бартоломео… О последнем Вазари резюмирует: «Рафаэль заимствовал у него то, что ему понадобилось или понравилось, т. е. какой-то средний путь как в рисунке, так и в живописи, и, присоединив к нему некоторые другие приемы, заимствованные от других мастеров по лучшим их произведениям, из разных манер создал единую, которую потом всегда счи тали за его собственную и которую бесконечно ценили и будут ценить художники».[154]154
Вазари Джорджо. Жизнеописания… С. 321.
[Закрыть]
Слова Вазари оказались пророческими. В искусстве следующих столетий, основанном на почитании художественной традиции, эта способность Рафаэля сделала его главным художественным авторитетом, опередившем других метров Ренессанса: и Леонардо, и Микеланджело, и Тициана. Искусство Рафаэля выступило воплощением и гарантом силы, сплоченности и нормативности традиции.
Вернемся к идее Рафаэля. С одной стороны, нет препятствий для сближения ее с идеей Микеланджело. Ведь и для него существование идеи не исчерпывалось природой: находить ее в природе, в материале ему помогала идея в собственной душе, рождающаяся, однако, не по прихоти художника, а по велению извне и свыше. Кроме того, Рафаэль не отказывался от способа Зевксиса, декларируя в письме к Кастильоне использование идеи.
С другой стороны, исходя из характера искусства Рафаэля, можно предположить, что помимо его очевидной восприимчивости к природе, эта идея связана и с его особой чувствительностью к красоте художественных произведений разных мастеров. Красота, которой достигает Рафаэль, в значительной степени обязана его прозрению некой художественной вершины, в которой сходятся различные манеры и художественные пути, некоей золотой середины искусства.[155]155
Это предположение не противоречит мнению Эрнста Гомбриха (Gombrich E. H. Raphael… P. 92–94, 103, 115–118).
[Закрыть] Это гениальное прозрение не оторвано от эмпирического опыта, но оно и как будто осеняет Рафаэля, подобно тому, как прозрение озаряет тех, кто ищет идею в природе.
Так или иначе красота и мимесис, идеальное и правдоподобное достигают в искусстве Рафаэля совершенного и непревзойденного равновесия, которое раньше удавалось только древним грекам. Рафаэль – самый классический из ренессансных художников. Однако именно потому, что это равновесие дошло до высшей точки, в нем открылась перспектива противоречия между красотой и мимесисом. В художественной практике и теории это даст о себе знать позже.
«Сикстинская Мадонна» (ок. 1513 г., х., м., 265 × 196 см, илл. 34). Вазари вспоминал об этом шедевре Рафаэля: «Для черных монахов св. сикста в Пьяченце он написал образ главного алтаря, изображающий Богоматерь со св. сикстом и св. Варварой – вещь поистине из ряда вон выходящая и единственная в своем роде».[156]156
Вазари Дж. Жизнеописания… в 5 т. Т. 3. С. 239.
[Закрыть]

34. Рафаэль. Сикстинская Мадонна. Ок. 1513 г. Дрезден, Картинная галерея.
Мадонна с Младенцем на руках является зрителю из золотисто-белой небесной субстанции, которая насыщена полувидимыми ликами херувимов и сгущается книзу клубящемся облаком, устилающим путь Марии. В это облако мягко погружаются колени святого Сикста и святой Варвары, встречающих Мадонну, она же едва касается облачной поверхности босыми ступнями и скорее парит на облаке, чем ступает по нему.
Фигуры, изображенные в натуральную величину, объемны и весомы, их благородные позы и движения полны телесной энергии и жизненной правды. Слева Сикст, седой и лысый, благоговейно трепещет перед Мадонной и, преодолевая старческую сутулость, вытягивает шею вслед за своим прикованным к ее лицу взглядом. Справа Варвара со смиренной грацией потупляет взор. Внизу два ангелочка с детской непринужденностью в задумчивости повисли на крышке гроба.
Летящий шаг Марии и уверен, и легок. Ее облаченное в плотные ткани тело крупно и статно, словно тело античной богини. Ее поза обладает простотой поистине божественного величия. Рядом с ней Сикст слишком порывист, Варвара слишком изящна. Младенца Мария держит, как обычно держат крестьянки.[157]157
Алпатов М. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля // Алпатов М. Этюды по истории западно-европейского искусства. М., 1963. С. 105.
[Закрыть] И ее нежное, трогательное лицо – это лицо невинной и робкой девочки. Но есть в лице Марии и отвага. Она и Иисус, не замечая волнения небесных свидетелей, смотрят прямо перед собой и не на зрителя, а в сверхчеловеческую даль искупительного подвига. В провидческих взорах их больших, широко раскрытых глаз отражаются чувства еще более сложно-человеческие, чем, например, на византийской иконе «Богоматери Владимирской». Взгляд Марии выражает не только материнскую нежность, тревогу и мужественную решимость принять страдания, но и испуг и почти растерянность от того, что ее тихому человеческому счастью предназначено суровое божественное испытание.
Младенец восседает на руках Матери с властной царственностью. Пряди его светлых волос растрепаны, его взгляд не по-детски серьезен и как будто грозен.
Хотя Вазари упоминал о «Сикстинской Мадонне» как об алтарной картине, не исключено, что Рафаэль писал ее как надгробный образ по случаю кончины папы Юлия II. Если это так, то картина замещала скульптурное надгробие, которое в конце концов было заказано Микеланджело. Это предположение основано на следующих наблюдениях. Святой Сикст (папа Сикст II) – покровитель дома делла Ровере, к которому принадлежал Юлий II; возможно, Сиксту приданы черты Юлия; дубовые листья, украшающие папскую ризу, и желудь, венчающий папскую тиару, входят в эмблему рода делла Ровере. Святая Варвара присутствует как пособница человеческих душ в смертный час.[158]158
Там же. С. 104–105.
[Закрыть] Надгробная функция «Сикстинской Мадонны» объясняет и изображение края гробовой доски вдоль нижней границы картины.
Гроб, а также завеса, прикрепленная петлями к слегка провисающей веревке, протянутой вдоль верхней границы картины, – живописные мотивы, которые вносят сложность, во-первых, в отношение между изображенным небесным и изображенным земным, а во-вторых, в отношение между художественным образом и реальностью зрителя.
Гроб и завеса не принадлежат чудесному явлению, они связаны с погребальным ритуалом и церковным обычаем. Завесы использовались в церквях для алтарных образов. Леонардо описывает это так: «Разве мы не видим, что картины, изображающие божества, постоянно держатся закрытыми покровами величайшей ценности? и когда они открываются, то сначала устраивают большие церковные торжества с различными песнопениями и всякой музыкой, и при открытии великое множество народа, собравшегося сюда, тотчас же бросается на землю, поклоняясь и молясь тем, кого такая картина изображает, о приобретении утраченного здоровья и о вечном спасении».[159]159
Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи. С. 62.
[Закрыть]
В «Сикстинской Мадонне» чудесное будто бы так же прямо включает в себя реальность, как это любили и умели показывать фламандские живописцы и как мы это видели в «Мадонне канцлера Ролена» ван Эйка. Однако различия примечательнее, чем сходства.
Обобщенность и зрелищность небесной атмосферы на полотне Рафаэля составляет контраст скрупулезной конкретности небесного интерьера на картине ван Эйка. В «Сикстинской Мадонне» это помогает лучше ощутить всю телесную определенность божественных и святых фигур, но также всю грандиозность и дистанцированность чуда. Здесь близости к божественному удостоены только небожители, земные представители отсутствуют.
Фрагмент гроба и завеса распределены по периметру изобразительного поля, образуя своего рода внутреннюю раму картины. Это расположение дополнительно акцентирует двойственность их роли: через них земной мир соприкасается с небесным, но они же отмечают границу между этими мирами. И ангелочки запросто опустились на землю, облокотившись о крышку гроба, словно для того, чтобы охранять божественный образ, к которому мысленно устремлены.
Если принять завесу, изображенную очень правдоподобно, за настоящую, небесная сцена тоже превратиться из живописной в подлинно чудесную, из картины явления – в само явление. Но если не забывать о том, что завеса изображена, небесная сцена, наоборот, отодвинется от зрителя, как картина в картине. Иными словами, «Сикстинская Мадонна» способна удовлетворять чувства и самых истовых верующих, и самых избранных любителей и знатоков живописи.
Но в целом, управляя зрительским восприятием, то предельно приближая, то недосягаемо удаляя образ, «Сикстинская Мадонна» демонстрирует свою художественную власть в большей степени, чем «Мадонна канцлера Ролена», которая стремится достоверно показать чудо.
Венецианская живопись. Венецианская школа живописи принципиально отличается от римско-флорентийской, к которой так или иначе принадлежали все крупнейшие итальянские мастера из рассмотренных нами до сих пор, от Джотто до Рафаэля.
Во Флоренции и Риме искусство гордилось интеллектуализмом; в живописи здесь ценили ясное воплощение идеи, замысла; правильный рисунок и скульптурную объемность фигур; линейную перспективу, развитое повествование, гладкое письмо; цвету отводили служебную роль, как заполнению контуров и окраске объемов.
Венецианские живописцы меньше значения придавали математическому расчету и абстрактным правилам в искусстве. Венецианский художник и теоретик живописи Паоло Пино (ум. 1565) в своем «Диалоге о живописи» 1548 г. отозвался о трактате флорентийца Альберти так: он «написал неплохой трактат о живописи ‹…› в котором, правда, говорилось более о математике, чем о живописи, хотя обещано было обратное».[160]160
Мастера искусства об искусстве: в 7 т. Т. 2. С. 260.
[Закрыть]
Венецианцы могли обходиться без предварительного рисунка и менять замысел по ходу живописного исполнения и в зависимости от него. Вспомним, что флорентийский мастер Леонардо испытывал свое художественного мышление в рисовании, но не в живописании. Для венецианцев живописное исполнение важнее, чем для флорентинцев, воспринимавших его второстепенным по отношению к замыслу. То, что связано с исполнением – сам материал живописи и сама манера обращения с ним, само письмо – в произведениях венецианцев начинает играть очень важную роль. Они создают картины цветовыми пятнами и свободными, широкими мазками, не имеющими четких контуров. Иногда сквозь красочный слой проступает плетеная фактура холста (именно венецианские художники вводят в широкое употребление холст вместо деревянной доски). Иногда сам красочный слой приобретает фактурность, неровную шероховатость.
Тициан. «Искусство сильнее природы». Венецианский живописец Тициан Вечеллио (ок. 1485–1576) вместе с Леонардо, Микеланджело и Рафаэлем составляет круг главнейших мастеров Высокого Возрождения. Если Микеланджело – Скульптор, то Живописец – Тициан, заслуживший славу «лучшего и величайшего в наше время подражателя природы при помощи цвета».[161]161
Вазари Джорджо. Жизнеописания… С. 348.
[Закрыть]
Когда в 1545–1546 гг. Тициан посетил Рим, чтобы написать портрет папы Павла III, Микеланджело и Вазари встречались с ним, о чем последний вспоминал в своих «Жизнеописаниях»: «Буонарроти его очень хвалил, говоря, что ему весьма нравится его манера и колорит, однако жалел, что в Венеции с самого начала не учат хорошо рисовать и что тамошние художники не имеют хороших приемов работы. ибо, говорил он, если бы искусство и рисунок так же помогали этому человеку, как ему помогает природа, в особенности и больше всего в подражании живому, то лучшего и большего нельзя было бы себе представить, имея в виду его прекраснейшее дарование и его изящнейшую и живую манеру. с этим действительно нельзя не согласиться, ибо тот, кто много не рисовал и не изучал избранные античные и современные образцы, не может успешно работать сам по себе и исправлять то, что он изображает с натуры, придавая этому ту прелесть и то совершенство, которые даруются искусством помимо порядка вещей в природе, создающей обычно некоторые части некрасивыми».[162]162
Там же. С. 354–355.
[Закрыть]
Для Вазари само собой разумеется, что именно рисунок отвечает за исправление природы в искусстве. Согласно этой логике, живопись Тициана, в которой рисунок подчинен цвету и письму, менее возвышается над природой, т. е. менее идеальна, чем, например, живопись Микеланджело и Рафаэля, в которой главенствует рисунок.
Тициан иначе смотрел на отношения своей живописи с природой. Девизом он выбрал изречение: «Искусство сильнее природы». Его можно понимать так: не искусство подражает природе, а природа – искусству. Сама по себе эта мысль, восходящая к Аристотелю, не нова. Мы неоднократно сталкивались с ее вариациями. Она основана на представлении о том, что природа и искусство действуют по общим законам и что, завершая то, что природа стремится, но не в состоянии сделать, искусство выступает образцом для природы.
Во всяком случае, художественные образы служат ориентиром в нашем созерцании природы: мы видим в природе красоту благодаря тому, что этому нас научило искусство, порождающее прекрасное с оглядкой на природу. Несомненно, живопись Тициана побудила современников заново ощутить это превосходство искусства над природой.
В 1544 г. Пьетро Аретино (1492–1556), блестящий мастер слова, адресовал своему другу Тициану письмо, в котором рассказал о великолепном зрелище, открывшемся из окна его венецианского дома: «с того дня, как Господь сотворил это небо, оно никогда не было расцвечено такой дивной картиной света и теней. Воздух был такой, каким его хотели бы изобразить те, кто вам завидуют и не могут быть с вами ‹…› В одном месте показывалась лазурная зелень неба, в другом – зеленая его синева, словно смешенные капризной природой, учительницей учителей. она тонами светлыми и темными заставляла тонуть и выделяться то, что ей нужно было сгладить или оттенить. так как я знаю, что ваша кисть – дух от духа природы, то я воскликнул три или четыре раза: “тициан, тициан, где вы сейчас? Клянусь, если бы изобразили то, что я вам рассказываю, вы повергли бы всех в такое очарование, каким был охвачен я, созерцая эту картину”».[163]163
Цит. по: Ст е п анов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XV I век. С. 274–275.
[Закрыть]
Аретино видит реальный пейзаж, как если бы это была картина Тициана. В этом сравнении природа приобретает живописную красоту, а что приобретает живопись? Витальность и чувственную мощь природы.
Вернемся к девизу Тициана. Его можно понимать и так: природа живописи сильнее живописной иллюзии природы. Это звучит уже по-новому. Живопись прежде чем подражать природе, оестествляется, т. е. существует как материя и стихия, которые могущественный художник подчиняет форме. В таком рождении картины есть некоторая аналогия с рождением скульптуры в представлении Микеланджело из необработанной, но не пассивной субстанции.
Взаимодействие природы живописи с живописной иллюзией природы раскрывается в позднем творчестве Тициана, когда он начинает писать очень свободно, широкими мазками, иногда прямо пальцем, по утверждению его первых биографов. Вблизи некоторые поздние картины Тициана демонстрируют больше живописный материал, преображаемый письмом, чем иллюзию физического мира, которая ощутимее в этих картинах на расстоянии. Своевольная выразительность цветовых сочетаний и ритмических мазков кисти подавляет внешнее, предметное сходство картин с природой, но вызывает энергетическое сходство картин с ней. Живопись Тициана подражает природе и соревнуется с природой в энергетической насыщенности, витальной силе, и это не то же самое, что подражание природе по способу и правилам действия. Это, собственно, означает, что и природу Тициан воспринимает не только как совокупность форм и управляющих ими законов, но и как стихию.
О поздней манере Тициана Вазари отзывается так: «Картины эти находятся у короля католического и очень ценятся за ту живость, которую тициан придал фигурам при помощи колорита, сделав их как бы живыми и совсем естественными. Правда, техника, которой он придерживается в этих последних вещах, значительно отличается от его юношеской техники, ибо его ранние вещи исполнены с особой тонкостью и невероятным старанием и могут быть рассмотрены вблизи, равно как и издали; последние же написаны мазками, набросаны широкой манерой и пятнами, так что вблизи смотреть на них нельзя и лишь издали они кажутся законченными. Манера эта явилась причиной тому, что многие, желая ей подражать и показать свое умение, писали нескладные вещи; а произошло это от того, что хотя многим и кажется, что картины тициана исполнены без всякого труда, на самом же деле это не так, и они ошибаются, ибо можно разглядеть, что вещи его не раз переписаны и что труд его несомненен. Этот способ работы разумен, красив и поразителен, так как картина, благодаря тому, что скрыты следы труда, кажется живой и исполненной с большим искусством».[164]164
Вазари Джорджо. Жизнеописания… С. 356–357.
[Закрыть]
Женская нагота и пейзаж. «Похищение Европы» (ок. 1562 г., х., м., 178,7 × 205,5 см, илл. 35). Вазари имеет в виду серию картин, которую Тициан исполнил для наследника испанского престола Филиппа II, сына императора Священной Римской империи Карла V, главным портретистом которого был великий венецианец. Эти картины на любовные сюжеты из античной мифологии Тициан называет в письме к Филиппу осенью 1554 г. «поэзиями». Последнюю, шестую в серии «поэзию» – «Похищение Европы» – Тициан ценил очень высоко. Сообщая Филиппу весной 1562 г. о том, что эта картина наконец отправлена ему, Тициан пишет, что она, пожалуй, – «визитная карточка» других созданных им для Филиппа произведений.[165]165
Georgievska-Shine A. Titian, «Europa», and the Seal of the «Poesie» // Artibus et Historiae. 2007. Vol. 28, N 56. Р. 177.
[Закрыть]
Тициан изображает тот момент любовной авантюры Зевса, когда он, обернувшись белым быком и заманив прекрасную Европу, дочь финикийского царя, к себе на спину, бросился в открытое море. Уже далеко остались подруги Европы, напрасно мечущиеся с криками по берегу. Уже Европу, окруженную сияющими небесами и темными водами, охватил ужас. О безмятежной игре с хитрым быком на лугу напоминает только цветочный венок меж его рогов. Живописи Тициана близко в природе то, что обладает богатым живописным потенциалом, то, что, минуя разум, услаждает глаз и захватывает душу. Это ясно показал Аретино в цитированном письме к Тициану, имея в виду пейзаж и прежде всего небо, его лазурную зелень и зеленую синеву, «облака, которые налиты сгущенным туманом», их серо-коричневую мглу, облака, горящие и искрящиеся «пламенем солнечного диска», тающий воздух.
Когда Тициан был уже дряхлым стариком, нидерландский художник Доминик Лампзониус выразил в письме к метру уверенность, что его светлость «уже давно отняла славу в области пейзажа у наших фламандских пейзажистов, в каковой области живописи (тогда как в отношении фигур мы побеждены вами, итальянцами) мы надеялись удержать первенство».[166]166
Мастера искусства об искусстве: в 7 т. Т. 2. С. 359.
[Закрыть]
Но помимо пейзажа важнейшей и специфически живописной темой в искусстве Тициана становится женская нагота. Одновременно с венецианцем Джорджоне Тициан изобретает новый тип женской наготы. Он начинает изображать обнаженные женские фигуры в пейзаже и в родстве с ним, подчеркивая в них не скульптурные, а природные свойства: мягкость и пышность телесных форм, золотистую теплоту кожи, розовеющей в самых нежных местах, блеск шелковистых волос и влажных глаз. Образы пейзажно-живописной женской наготы, плоть от плоти роскошно чувственной живописи Тициана, впечатляли современников своим горячим эротизмом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































