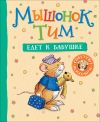Читать книгу "Мы все не из картона"

Автор книги: Мария Евсеева
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
9
Сегодня последний день октября, и мы идём по улице вчетвером: Канюша, Алёна, я и Сонечка – мы уже забрали её из первой школы.
Ещё два поворота, перекрёсток, и мы у ворот Центра.
А пока мимо нас мелькают магазины.
Я люблю заглядывать в витрины, смотреть, что происходит там, по ту сторону стекла. Вижу, как в торговых залах гуляют посетители с корзинками, а некоторые стоят уже с полными тележками у касс, выкладывают на длинные ленты свои покупки… А в широких поддонах, ближе к концу магазина, лежат сочные спелые апельсины и ждут, когда их кто-нибудь купит.
И смотрят.
Вроде даже на меня…
А по соседству с ними – большие-пребольшие жёлтые круглые фрукты в красных сеточках. Я не знаю, что это такое, но должно быть что-то очень вкусное: и кислое, и сладкое.
Когда мама выкарабкается и снова устроится на какую-нибудь работу, мы пойдём с ней в магазин, и я попрошу купить сразу два таких фрукта, чтобы каждому попробовать.
Нет, три!
Для меня, для неё и для Пашки.
Нет, с Пашкой я поделюсь своим, а третий отдам Канюше, Сонечке, Мике, Стасе и Алёне.
За забором, на территории Центра, есть беседки, качели, всякие лазалки. Всё ровно так, как в любом детском саду нашего города. Потому что это и есть детский сад. Бывший детский сад.
Но сейчас сбоку от входной двери, на шероховатой оштукатуренной стене прикреплена совсем другая табличка:
«Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних».
Но я не обращаю внимания на эту табличку. Пока Канюша качается на качелях, мы бегаем с Сонечкой «огурцом», и я слежу, чтобы расстояние между нами не уменьшалось – чтобы «огурец» не превратился вдруг в «помидор». А бегать «в помидор» – это совсем другое.
– А я видел тебя кое-где! – походит ко мне мальчик из старшей группы.
У него какое-то нерусское имя, которое я всё время забываю.
– Ну и где же? – встревает Сонечка.
Мы всё ещё бегаем «огурцом» и не собираемся останавливаться.
– На помойке, – говорит мальчик и противно смеётся.
– И на какой же помойке? – почти равнодушно отзывается Сонечка, в то время как я не понимаю, о чём они. Я даже начинаю сомневаться, со мной ли он разговаривает.
– У второй школы, – ухмыляется этот белобрысый и вытягивает руку вперёд, преграждая мне путь. – Шлагбаум!
Это он про Белую Скалу.
– И что? – не унимается Сонечка.
Но по инерции врезается в меня, а я по инерции – в руку мальчика. Рука мальчика оказывается не шлагбаумом, а тонкой веточкой. Она не выдерживает нас обеих, и мы все трое валимся на асфальт, под ноги к Алёне, которая всё это время болтала по телефону.
– А то! – он быстро встаёт и отряхивается. И отбегает на приличное расстояние. Наверно, потому что Алёна обращает на нас внимание и помогает подняться. Но продолжает выкрикивать уже издалека: – Фу-у! Подружка бомжа! Фу-у!
И делает пальцами прищепку для носа.
Алёна взмахом руки гонит его и даже грозит кулаком. Так ему! Но телефонный разговор не прекращает. Наверно, она говорит со своим Пашей. А это самый важный на свете разговор! Но двигается вперёд, и мы неспешно бредём за ней.
– Почему он так тебя назвал? – спрашивает меня Сонечка.
– Не знаю, – пожимаю плечами я.
И оборачиваюсь, чтобы окликнуть Канюшу – он, кажется, ещё не накачался.
– Это из-за того старика, да?
– Его зовут Санта, – поясняю я и улыбаюсь. Мне всегда нравится думать о Санте.
– Он что, Санта Клауса? – удивляется Сонечка и выпучивает глаза, как будто хочет рассказать про свой шрам.
– Нет. Просто Санта.
– М-м, – понимающе тянет она, – просто святой, как Клаус.
– Нет, – вновь пожимаю плечами я. – Просто Санта.
А когда мы поднимаемся на крылечко Центра, я стараюсь не смотреть на его мрачную табличку, потому что мне она не нравится. И по цвету, и так. А ещё… я до конца не понимаю, что всё это значит: «социально» и «рели-би-таци-а-онно». Но явно что-то очень нехорошее.
Пашки сегодня опять в Центре нет. У его мамы, оказывается, отпуск, и они оба дома. Наверное, проводят время вместе: смотрят интересные передачи по телевизору, жарят яичницу, пьют чай и просто болтают обо всем и ни о чём.
А я сижу одна и рисую его, Пашку.
Он должен быть с мамой, но обязательно должен быть и рядом со мной.
Даже если его на самом деле со мной нет.
Пашкина мама в отличие от всех наших мам не имеет проблем. Просто работает на станции неотложной медицинской помощи и дежурит сутки-через-трое. Она диспетчер – принимает звонки и отправляет машины на вызовы к тем, кому внезапно стало плохо. Например, к моей маме.
Это очень ответственная работа, не хуже Канюшиного лётчика-истребителя. Но профессия женская. А папы у Пашки нет, и ночевать дома одному ему, должно быть, страшно. Поэтому раз в четыре дня Пашка ночует в Центре. Но я не видела его уже очень давно.
Сначала я вывожу глаза.
Я всегда начинаю рисовать кого-то с глаз. Именно с глаз!
У Пашки, например, радужка необычная – с коричнево-зелёными разводами, будто тина болотная. Смотришь ему в глаза, и тебя засасывает.
Но я стараюсь так не делать и вообще… Беру голубую гелиевую ручку, которую мне подарила Алёна после того случая с колготками, и раскрашиваю радужку голубым. Просто у меня нет другого цвета, а карандаши, которые общие, забрала Мика.
Но я всё равно знаю, что это Пашка! Можно даже остальное не вырисовывать.
Но я продолжаю…
Нос у Пашки большой, но не картошкой, а оладушком. Расплющенный, широкий, почти круглый. Рот – нормальный, мне нравится. Уши у Пашки вечно врастопырку, даже хуже, чем у меня. Даже когда он ходит в кепке! А под волосами такие тем более не спрячешь! К тому же волосы у Пашки короткие, а если посмотреть со стороны – просто чёрные точечки на черепушке.
Так и рисую.
Получается очень похоже. Только картонка серая, в мелкую тёмную крапинку и с коричневатыми палочками, а лицо у Пашки чистое, смуглое, загорелое. Но я представляю всё так, как оно есть по-настоящему.
Достаю из пенала ножницы и вырезаю моего Пашку, стараясь не отчирикать ему руку или ногу. Но всё в порядке. Он получился настоящим футболистом, я ему и мяч пририсовала – он любит.
И вот, смотрю на него, смотрю, а потом сажаю нарисованного Пашку на законное место рядом со мной, и мы опять молчим, до-олго молчим. Я растекаюсь по стулу и столу от какого-то необъяснимого счастья и наконец-то улыбаюсь.
Кажется, я сегодня ещё ни разу не улыбалась.
Точно магия…
После отбоя я как всегда не могу уснуть. Ворочаюсь, сбиваю в комок одеяло, чтобы можно было обнять его, и представляю маму. Слышу, как Сонечка сопит на соседней кровати, и опять представляю маму. Наконец-то закрываю глаза, и снова представляю маму. Мне нравится представлять маму.
Мама у меня очень-очень хорошая. Самая лучшая в целом мире, и другой мне не надо! Я не знаю, как бы я жила без неё, если она хотя бы изредка не забирала меня на выходные. Мне, конечно, хочется, чтобы её наконец-то вылечили там, в больнице, и она больше никогда-никогда не пила, и мы всегда жили вместе. Но всё-таки я бы скучала по Центру. Особенно по Пашке. И по Сонечке. И по Алёне. И по Канюше даже. И по Наталье Сергеевне и Тамаре Васильевне…
Но вдруг слышу, как кто-то шуршит у окна, и все мои представления рушатся.
Я скидываю с себя одеяло и сажусь на постели – кто там?
А это Мика – Саша Микаевская.
Ой, я про неё и забыла! Я бы и по Мике, конечно, скучала бы тоже.
Но она вдруг спрашивает:
– Лиз, а ты хотела бы отсюда убежать?
Она тоже не спит – сделала домик из одеяла, и шепчет прямо оттуда.
– Нет, – мотаю головой, хотя о доме и маме, пожалуй, думаю чаще, чем нужно. – А ты?
– Не знаю. Я слышала, как Прибытко сказал Канюше, что если его маму лишат родительских прав, его отправят в детдом. – И я слышу, как она хлюпает носом: – Лиз, как думаешь? Это правда? И с нами так, да?
– Не знаю…
Но я-то знаю.
Я помню Женю Сиухина, который жил здесь, наверно, целый год. Ещё до Канюши, и Пашки, и Мики. И частенько дрался с воспитателями. Ему не нравилось в Центре, а мама его никогда не забирала. Вот Женю и отправили в детский дом.
Значит, правда.
– Лучше здесь, – мычит Мика из-под одеяла.
– Лучше здесь, – подтверждаю я и снова закрываю глаза.
Мечтаю, что завтра мама придёт ко мне с синими воздушными шариками и большими жёлтыми фруктами в красных сеточках. Мы раздадим их каждому: Пашке, Сонечке, Канюше, Мике, Стасе, другим детям нашего Центра, Тамаре Васильевне, Наталье Сергеевне и, конечно, Алёне. А шарики просто возьмём и выпустим из рук. Как это делают выпускники – я на линейке видела. Хоть и жалко немного, но так красиво! Чтобы мы тоже поскорее стали выпускниками этого Центра. И чтобы не было больше в мире всяких ужасных болезней, плохих пап и этой дурацкой водки! И инспектора Прибытко – хмурого и всемогущего.
10
А утром всё, как обычно.
Алёна нас поторапливает. Канюша канючит – не хочет идти в школу, Стася измученно хмурится, Мика дерёт спутанные кудри массажной щёткой, Сонечка скулит – почти плачет, а я…
Я опять смотрю в окно.
Там, на улице синего неба совсем не видно – всё над домами затянуто грузными чёрными тучами, – и крылечко пустое. Сегодня мама за мной не пришла. А вместо жёлтых фруктов у меня под носом рисовая каша. Не сладкая, и не кислая – молочная. Вкусная, конечно. Но…
– Ты когда мамой станешь, сколько у тебя детей будет? – обращается ко мне уже причёсанная Мика.
А я об этом никогда не задумывалась.
И правда, сколько?
У моей мамы нет других детей, только я. В Пашкиной семье так же. А вот у Стаси – брат-военный, а у Сонечки – Маринка, она тоже в нашем Центре, но в младшей группе.
– Не знаю… Много, наверно, – жму плечами и продолжаю заталкивать кашу в рот.
Хорошо ведь, когда много. Когда все друг за друга горой. Когда кто-то кому-то звонит, приезжает, приходит, спрашивает «Ну как ты?», хочет увезти на Байконур… Когда люди просто хохочут и обнимаются, умещаясь на крохотном диване большой-пребольшой семьёй, и им не тесно. Я это по телевизору видела, в фильмах.
А потому добавляю:
– Больше трёх, – и жую долго-долго. – А у тебя?
Мика тоже зачёрпывает полужидкую кашу и смотрит, как та стекает с ложки обратно в тарелку:
– А у меня один, – давит каждую рисинку, стараясь утопить её в молочном озере. – Но я его никому никогда не отдам!
И вдруг резким движением придвигает тарелку к себе поближе и начинает орудовать ложкой с такой скоростью, что та стучит, как наша соседка баба Нюра по батарее, когда мама с дядей Сашей…
или дядей Толей…
очень громко включают музыку.
И каша не успевает попадать Мике в глотку: выступает рисовой пеной из уголков рта, постепенно подбираясь к её подбородку. И у меня весь завтрак встаёт поперёк горла. Даже чаем запивать бесполезно! Поэтому я просто бросаю всё и бегу в туалет.
Вообще, меня тошнит крайне редко. Только когда каша в меню. Или какао с пенкой. Или молочный суп…
Дело в том, что я подхватила какую-то там непереносимость – мне становится плохо от молока. Но я никому об этом не рассказываю, помалкиваю в тряпочку и ем всё-всё: и кашу, и суп, и пенку вместе с какао.
Просто помню, как это – быть голодной несколько дней, – и боюсь повторения.
Однажды моя мама пропала. Вместе с дядей Виталиком. Наверно, это он научил её пропадать без вести.
Или дядя Толя…
Или ещё кто-то…
Я уже точно не помню.
«Без вести» – это значит, что в городском выпуске «Вести» не объявят о такой пропаже. А значит, человека не станут искать полицейские, не примутся за работу другие добрые люди, его фото не расклеят на столбах и подъездах. Никто не узнает о том, что у кого-то исчезла мама.
Они ушли куда-то, мама и дядя Виталик – я только слышала, как захлопнулась входная дверь, – и пропали. Сначала я не думала, что всё так серьёзно, но прошло много времени, а они не возвращались.
С каждой минутой в комнате становилось всё темнее и холоднее. И тоскливее.
Я сдвинула в сторону пустые бутылки, собрала на газету огрызки от огурцов, и как могла, расчистила подоконник от всякого мусора.
Забралась на него с ногами, встала на колени, прильнула лбом к ледяному стеклу и стала напряженно смотреть в морозный светлый вечер.
Потом мне сделалось холодно.
Я улеглась на диван, сбив в кучу мамины вещи и подложив их под голову, и укрылась тёплым коричневым пледом. А чтобы прожжённая дырка ещё больше не холодила мне ноги, я перевернула плед так, что дыра оказалась на сердце.
На сердце и без пледа жарко – там кипит вишнёвое варенье. Это мама придумала про варенье, когда я совсем маленькая упала на прогулке и стесала себе коленки до крови. Кровь – это страшно, а варенье – вроде даже смешно.
Замерзая на диване, я долго-предолго думала о маме: когда на потолке пробегали тени от машин, когда соседи ругались за стенкой, когда метель свистела в рамы, когда, наконец, всё уснуло и снова проснулось, когда солнце на миг заглянуло в нашу комнату…
И вдруг мне до колик в желудке захотелось вишнёвого варенья! Чтобы с косточками, чтобы с булкой! Как у Олиной бабушки.
И я пошла на кухню.
На столе стояла закоптелая кастрюлька. Я приподняла крышку в надежде увидеть там варенье, но на дне оказалась картошка в грязном мундире – раненная и покалеченная ещё с пятницы.
Я не стала её трогать, я заглянула в холодильник.
Может, там варенье?
Или хотя бы булка.
Или чёрствый хлебушек.
Или обглоданная корочка.
Но холодильник давно не работал – я это знала. Как и то, что хлеб мы там не держали.
А на столе стояла кастрюлька…
Я опять приподняла крышку, достала оттуда сморщенную картофелину и уже хотела поддеть её мундир ногтем, чтобы очистить, как она заплакала. Потекла, запахла чем-то неприятным – наверно, своей картошной болезнью. И мне пришлось положить её на место, в кастрюлю, и снова прикрыть крышкой, чтобы больную не тревожили.
Время тянулось бесконечно долго.
Мне уже не думалось о маме – я плакала о ней. Сначала тихонько, закусив уголок шерстяного пледа, потом погромче – так меньше хотелось кушать.
К ночи я вспомнила про огуречные попки, которые лежали на газете на подоконнике. Они были старенькие и слишком маленькие, но удивительно сладкие. Жаль, что они быстро закончились.
И тогда я решилась сходить к бабе Нюре.
На лестничной клетке кто-то разговаривал. Я обрадовалась, подумав, что это мама вернулась с дядей Виталиком.
Или дядей Олегом.
Поэтому кинулась к лестнице босая…
Но ни внизу, ни вверху её не оказалось. Зато у лифта стояла баба Нюра. Она ругалась в полный голос и усердно работала веником, а когда меня увидела, зачем-то замахнулась им в воздухе:
– Опять весь подъезд обгадили! – очень грозно тогда выкрикнула.
Но это ведь не я, и она сама об этом знает. Поэтому я подумала, что у неё снова давление, и не стала приставать к соседке со своими глупыми просьбами о варенье и булке – вернулась назад, к кастрюльке с картофелем.
Села, попыталась почистить, зажмурилась и… проглотила, почти не жуя. Все до единого. Вместе с грязным помятым мундиром.
Ночью проснулась от голода и не могла понять, приснилось ли мне это или вчера я всё-таки съела две почерневших картофелины, шесть огуречных попок и завалявшейся в дверце холодильника зубчик чеснока.
Кажется, приснилось. Иначе бы мой живот не крутило так, будто его проворачивали в мясорубке.
Я не помню, как на утро я оказалась у бабы Нюры. Вернее помню, но мне стыдно про это рассказывать. Ведь я постучала в её дверь и умоляла дать мне покушать. Даже скулила, словно я оголодавшая бездомная собака.
Божественный вкус бабы Нюриной каши я распробовала только тогда, когда опустошила вторую тарелку. Каша была очень густая и сладкая, с большой желтой лужицей сливочного масла, которое растеклось по всей манной поверхности.
Я заглатывала ложку за ложкой, пока ощущение сытости не подобралось к самому горлу. А что было дальше, мне не хочется вспоминать. И не потому, что я чувствовала себя отвратительно. Всё дело в том, что к вечеру, когда мама наконец-то вернулась и уставшая, прямо в одежде, легла отдыхать, к нам в квартиру без стука и без приглашения заявился инспектор Прибытко, еще и в сопровождении рассерженной тётеньки в такой же форме, как у него.
Они хмуро смотрели по сторонам, отчего-то морщились и разговаривали с мамой, как наша классная, Анна Максимовна, разговаривает с хулиганами и двоечниками.
Мне стало жутко обидно за маму, ведь в школе она была круглой отличницей.
Ах, если бы я была такой же отчаянной, как Сонечка!
Или хотя бы как Стася!
Вот тогда бы я им… ого-го!
Но вместо этого я тихонько расплакалась.
Так мы и познакомились с всемогущим инспектором Прибытко.
Так меня и оформили в Социально-рели-би-таци-а-онно…
Тьфу ты!
В общем, в Центр.
11
И всё-таки, мне кажется, страшнее всего в этом мире оказаться ненужной: маме, Пашке, Алёне…
Хорошо, что у меня всех так много!
Пересчитываю их, картонных – у меня уже есть Сонечка, Пашка, Мика, Канюша и, конечно же, мама, – и снова берусь за карандаши.
Я уже оделась и сижу на кушетке в коридоре.
Я положила рюкзак к себе на колени, чтобы удобнее было рисовать. У меня есть целых пять минут перед выходом, пока остальные возятся с обувью и верхней одеждой. А за пять минут проще всего нарисовать Алёну.
У Алёны карие глаза.
Шоколадного цвета волосы, собранные в хвостик на затылке.
Я размышляю немного и рисую её с пышной прической – так она будет ещё красивее.
Нос у Алёны прямой и узкий, аккуратный, как у куклы Барби.
А на губах – обязательно тёмно-бордовая помада.
Я рисую её невестой в длинном белом платье и с фатой. И Пашу её… тоже рисую рядом, как жениха – в костюме и галстуке-бабочке. А чтобы и они ни в коем случае не потеряли друг друга, соединяю их руки и вырезаю, как единое целое.
Не надо Алёне всяких Толиков, Виталиков и Олегов. Пусть у неё будет только один муж – Паша.
Утром из Центра мы как обычно бежим вприпрыжку. Во-первых, надо завести Сонечку в первую школу, а она немного в другой стороне. Во-вторых, Канюша едет у Алёны на ручках, отчего можно подумать, что он не мужчина, а совсем маленький. Да, конечно, шесть – меньше семи, и Канюша совсем худой, весит всего-то восемнадцать килограммов. Но Алёну тоже нужно пожалеть.
Тем более что после завтрака я видела, как она плакала.
Я знаю, кто обидел Алёну – он живёт в углу, за старой тумбочкой. У него прескверный характер и костюмчик не очень. Каждый раз, увидев его, Алёна жутко пугается и визжит так, что её слышно в нашей спальной комнате.
И в умывальной тоже слышно.
И в коридоре.
И даже на улице, наверное.
А пока она в страхе прыгает по комнате, он спокойно доедает её бутерброд.
Вот поэтому после третьего урока, уже сидя в школьной столовой, я пью горячий сладкий чай маленькими глоточками и так же, по чуть-чуть откусывая, жую одно-единственное печенье, стараясь растянуть своё удовольствие. У меня, как и у всех, есть второе печенье, но я прячу его в потайной отдел рюкзака, для Алёны.
А потом вспоминаю про Санту…
Я не видела его уже давно. Даже из окна не видела! Хотя всеми силами вглядывалась в чёрный двор, пока все рассказывали про белую берёзу в снежном серебре, в то время, как Анна Максимовна грызла душку своих очков.
Нет, печенье я всё-таки приберегу для Санты.
– Алён! А давай заглянем к моему дедушке? Он живёт рядом с Белой Скалой, – как можно беспечнее произношу я.
И Алёна улыбается в ответ.
– С какой такой Белой Скалой?
– Которая нас только что выплюнула.
Она смеётся:
– Ты про школу?
– Ну да.
– А мы называли её Мавзолеем… – И поясняет: – Тот, что в Москве, на Красной площади.
Я знаю, что такое Мавзолей. Поэтому тоже смеюсь:
– Почему?
– Потому что, когда я училась, она была красная. И на первом этаже при входе стояла такая тишина, как в Мавзолее. Кабинет директора был рядом, и все боялись шуметь возле него.
– А ты тоже училась в этой школе? – по-настоящему удивляюсь я.
– Ага, училась.
– А сейчас бы пошла учиться?
– А сейчас я и так учусь. Только не здесь, а в педагогическом. Заочно. То есть хожу на учёбу не каждый день, а пару месяцев в год. Потому что работаю в Центре.
И треплет меня по макушке.
Я бы хотела расспросить её поподробнее про этот педагогический, но вот-вот и мы уже пройдём двор Санты. Поэтому я возвращаюсь к начатому диалогу:
– Так что насчёт моего дедушки?
– А у тебя есть дедушка?
Теперь очередь Алёны удивляться по-настоящему.
– Ну да. Он живёт здесь.
– Ах, этот, – сжимает мою руку она. – И почему ты считаешь его своим дедушкой?
– Почему считаю? – не понимаю вопроса я. – Он и есть мой дедушка!
Алёна слегка подбрасывает Канюшу, чтобы перехватить его поудобнее, и как-то странно мотает головой:
– Нет, Лизочек. Это не твой дедушка.
Но откуда она может знать?
– Мой! Мой! – вдруг вскрикиваю я, бросаю её руку и останавливаюсь. – У него никого нет, кроме меня!
Алёна молчит. Алёна тоже остановилась, и сейчас изучает чёрный двор Санты. Похоже, она видит, что каноэ накрепко сел в чернозёмную жижу, и выглядит удручающим.
Мне становится так грустно…
Алёна вздыхает, опускает Канюшу на землю и тихо произносит:
– Пошли.
И пока мы идём, то и дело опасливо оборачивается.
Я первая срываюсь вперёд и, оказавшись в знакомом дворе, в три прыжка пересекаю его, словно дурашливый Джульбабос, и принимаюсь барабанить в шаткую дверь жилища старика.
– Санта! Санта! Я пришла, открой!
Но тишина. Никто не открывает.
Я оглядываюсь на Канюшу и Алёну – они терпеливо стоят в стороне – и снова колочу со всей силы по прогнившим перекошенным доскам.
– Лизочек, – немного погодя окликает меня Алёна, – его нет. Пойдём, а? Не то нам влетит.
И её голос звучит так жалобно и так тоскливо, что я, конечно же, повинуюсь.
Но я ещё приду к тебе, Санта. И пусть ты не мой настоящий дедушка, ты всё равно мой дедушка! Твоё место у меня под сердцем.
Мы выходим со двора: Алёна первая, Канюша с ней за руку на буксире, и я – тоже за руку.
Но вдруг Канюша оборачивается:
– А что это такое? – спрашивает он и тычет пальцем прямо в каноэ.
И я так рада, что он заметил! Я хочу рассказать Канюше, как мы с Сантой делаем заплыв к маяку, какой он, тот берег с лампаками, и какие шустрые вёсла…
Но Алёна меня опережает:
– Это рубероид.
И это жуткое слово звенит у меня в ушах так же противно, как «рели-би-таци-а-онно».
– А что это? – интересуется Канюша.
– Это такой строительный материал. Видишь, он на крыше и сбоку постройки приделан, – поясняет Алёна и говорит что-то дальше.
Но я её уже не слышу. Я хочу избавиться от звона в ушах и от мысли, что этот страшный рубероид поглотил и каноэ, и Санту. Поэтому вырываюсь и, зажмурившись, бегу, что есть силы, вперёд.
Нет! Нет! Нет! Нет!
Нет! Нет! Нет! Нет!
Нет!
Нет!
Звон в ушах растворяется, только когда я падаю. Сначала на колени. А потом подбородком в заледенелый асфальт.