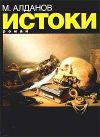Читать книгу "Начало конца"
«…L’heure est venue pour vous, Messieurs les Jurés, de tendre une main secourable а un pauvre dément. Si vous trouvez que l’action qui vous est dénoncée est due а un cœæur endurci et sanguinaire… si vous trouvez que cet enfant de vingt ans n’a pas été assez malheureux, alors condamnez-le sans pitié. Mais une erreur de jugement est vite commise, Messieurs, et les morts ne reviennent pas. Le couperet de la guillotine tombe dans un sens unique, l’échafaud est, hélas, irréparable. Je vous abandonne une âme malade et tourmentée, je vous livre Gonzalo Alvera, triste victime d’une triste fatalité! Serez-vous inflexibles? Ah, puisse-je vous épargner un repentir! Au milieu des incertitudes morales, mettez la main sur votre conscience et prononcez. J’ai rempli mon devoir… Messieurs Jes Jurés, allez remplir le vôtre… Nous attendons de vous la vie ou la mort… Allez!..»[178]178
«…Господа присяжные, настало время, когда вы должны протянуть спасительную руку бедному безумцу. Если вы считаете, что все, о чем здесь говорили, было совершено человеком с ожесточенным сердцем, кровожадным, если вы считаете, что этот двадцатилетний ребенок был недостаточно несчастен, тогда вынесите ему безжалостный приговор… Но, господа, легко совершить судебную ошибку, а мертвые не возвращаются. Нож гильотины движется только в одном направлении, эшафот, увы, означает смерть. Я оставляю вам больную и измученную душу, я вручаю вам Гонзало Альвера, плачевную жертву плачевной судьбы! Останетесь ли вы непреклонными? О, если бы я мог избавить вас от раскаяния! Во власти душевной неуверенности прислушайтесь к голосу своей совести и объявите свое решение. Я исполнил свой долг… Господа присяжные, исполните же и вы ваш… Мы ждем от вас жизни или смерти… Слово за вами!..» (фр.)
[Закрыть]
Последние слова его были произнесены задыхающимся шепотом, чем и оправдывалась их форма. Серизье тяжело опустился на скамью, измученный и счастливый. В зале, естественно, не аплодировали, но по выражению лиц, по шедшим к нему токам восторга, да и по собственному ощущению он понимал, что говорил превосходно, что произвел сильное впечатление, что сделал все для спасения несчастного преступника. Мадемуазель Мортье только протянула к нему руки – слова были излишни. Вытирая лоб платком, он повернулся к Альвера и сказал ему несколько одобрительных слов, – тот по-прежнему молча смотрел на него мутным взглядом.
Прокурор, вполне уверенный в результатах процесса, ограничился лишь весьма кратким возражением: заявил протест против странных намеков по адресу следственных властей и ответил на доводы защитника об отсутствии заранее обдуманного намерения. Серизье тоже сказал всего несколько слов, зная, что добавить к речи больше нечего. И, хотя прокурор говорил об «insinuations qui ne sauraient atteindre la justice française»[179]179
«Инсинуациях, не способных задеть французское правосудие» (фр.).
[Закрыть], а защитник воскликнул: «Pourquoi cette affirmation inexacte, indigne de vous et de nous, Monsieur l’avocat général?»[180]180
«Господин прокурор, к чему же такое неточное утверждение, недостойное вас, а для нас оскорбительное?» (фр.)
[Закрыть] – тон обоих противников был весьма любезный, и каждый из них с величайшей похвалой отозвался о таланте другого.
Вермандуа смотрел на присяжных. «Торквемада угрюмо молчит. Его не прошибло…» Он на цыпочках вышел в тускло освещенную двумя лампочками галерею и наткнулся на графиню де Белланкомбр, которая умоляла пристава пропустить ее к защитнику. Графиня была в необычайном возбуждении. Увидев Вермандуа, она метнулась к нему и схватила его за руки. «Ах, это было изумительно! Я в жизни не слышала такой речи! Я просто потрясена! А вы?» – «Я тоже, дорогая». – «Нет, вы не так говорите! Он превзошел самого себя. И не я одна это думаю: около меня дико восторгались люди, которые, наверное, не любят социалистов». – «Да, я с вами согласен. Очень хорошая речь». – «Очень хорошая речь»! Не очень хорошая, а изумительная! – воскликнула графиня и, очевидно, по-своему объяснив себе умеренность похвалы, добавила: – Ваше показание было тоже необыкновенное! Как жаль, что вы говорили только четыре минуты: я смотрела на часы. Вы были совестью суда, и я совершенно уверена, что ваше показание и эта речь спасут ему голову, я уверена совершенно!» – «Не надейтесь, дорогой друг, нет ни одного шанса из тысячи». – «Вы ошибаетесь! Я уверена, что вы ошибаетесь!.. Вы, кажется, большей части дебатов и не слышали?» – «Да, я сначала был заперт в комнате свидетелей, а затем отправился на свежий воздух отдышаться. Это как в кинематографе, когда быстро и бессвязно показывают наиболее завлекательные сцены из фильма, который пойдет только на будущей неделе… А где граф?» – «Он уехал. Обещал прислать за мной автомобиль, но боюсь, что я не дождусь, тогда, надеюсь, вы меня довезете?» («Верх удачи, – подумал Вермандуа, – и болтать с ней час, и еще платить за автомобиль».) – «Я буду счастлив…» Она вдруг бросилась к двери. Там показался Серизье. «Сейчас бежать? Нет, нельзя: решительно не на что сослаться». Он подошел к адвокату и тоже наговорил ему комплиментов.
– …Это одна из лучших речей, которые я когда-либо в жизни слышал.
– Полноте, вы меня конфузите.
– Думаете ли вы, что есть надежда?
– Ни малейшей.
– Не может быть! Я не верю! – сказала графиня. – Вот вы увидите, что они признают смягчающие обстоятельства! Я непременно хочу быть при объявлении вердикта. Когда, по-вашему, он будет вынесен?
– Помилуйте, как же я могу это знать?
– Но есть ли у нас час времени?
– Думаю, что есть. Во всяком случае, присяжным заказан обед.
– Если так, то нельзя ли нам втроем пообедать в ресторане?
– Это, к сожалению, невозможно. Я не могу покинуть здание суда. Мало ли что может быть.
– Тогда с вами вдвоем, дорогой друг?
– Я очень рад, – ответил Вермандуа без восторга: плати и за обед, и за автомобиль. «Но зато приема она у меня тогда не дождется!»
– Хотите сейчас? Ведь мы завтракали очень рано… Постойте, – сказала она, обращаясь к адвокату. – А этот несчастный? Он получит обед?
– Да, конечно.
– Нельзя ли что-нибудь для него сделать? Ну, бутылку вина, сладкое что-нибудь. Умоляю вас… – Она поспешно вынула из сумки сто франков. – Вы все можете, вы здесь царите, я видела. Нельзя ли передать эти деньги ему?
– Ему нельзя, но тюремному начальству для него можно, у них там есть кантина[181]181
Столовая – фр. cantine.
[Закрыть], и я знаю, что кто-то посылал ему туда деньги, – сказал Серизье, давая понять, что кто-то – это Вермандуа. – Кое-что сделал для него и я… Я передам деньги.
– Отлично, благодарю вас! Но если можно, чтобы ему и сегодня, сейчас дали чего-нибудь, вина или коньяку, а? Благодарю вас, дорогой друг! («Он уже тоже дорогой друг. Какое быстрое повышение в чине».) Пойдем, пойдем… Но предупреждаю вас, наскоро я почти ничего есть не буду. Поэтому не надо в Трианон, пойдем куда-нибудь ближе. Если вы мне дадите немного холодного мяса с салатом и бокал шампанского, я буду вам благодарна навек… У меня расходились нервы!.. Вот и это освещение…» – «Что холодное мясо, это хорошо. Но еще шампанским ее поить!» – подумал Вермандуа, впрочем, благодушно: ему самому хотелось поесть и выпить. – Вы знаете, я в суде, кажется, сто лет не бывала, и все себе представляла по «Воскресению» Толстого. Вы помните?
– Кто же этого не помнит?
– Однако это карикатура, не правда ли, дорогой друг?
– Я не нахожу, но, как вы знаете, я чужд христианским настроениям. Кроме того, Толстой пошел по линии наименьшего сопротивления, положив в основу своего романа случай судебной ошибки. Ведь судебная ошибка все же не общее правило ваших учреждений. И, наконец, меня всегда угнетали гуманные клише, даже толстовские, – сказал Вермандуа и пожалел о сказанном: в гуманных клише, кроме Толстого, мог быть сегодня признан виновным и Серизье, да и он сам.
– Я догадываюсь, что вы относитесь к суду вообще иронически. Совершенно напрасно, – возразил адвокат, прикрывая улыбкой легкое раздражение: ему не понравился тон Вермандуа. – Извините меня, иронизировать очень легко, и смешные стороны можно найти в чем угодно. Гуманные клише вам не нравятся, но кары тоже вам не нравятся. Чего же вы хотите? Думаю, что в гуманности надо знать меру. Господа скептики, а равно и крайние гуманисты, отрицающие право судить и карать, пока ничего лучшего вместо «наших учреждений», вместо суда присяжных и уголовного кодекса не изобрели. И пока они ничего лучшего не изобретут, мы вправе не очень считаться с их насмешливо-враждебным отношением к суду и к адвокатуре. Я принципиальный противник смертной казни, но я не нахожу, что убийц надо отпускать на свободу или помещать в больницы, если, разумеется, они в самом деле не душевнобольные.
– Ах, не говорите этого, ради Бога! – сказала графиня. – Вот мы сейчас пойдем в ресторан, будем пить шампанское, а этого несчастного отведут в камеру, где он будет месяц или два ждать казни?.. Нет, нет, я этому не верю! Я просто не могу, не могу этому поверить после вашей речи, после вашего показания! – Полузакрыв глаза, она поднесла к вискам ладони. Вдруг у нее на глазах выступили слезы. Она еще хотела что-то сказать и заплакала. Вермандуа смотрел на нее с удивлением. «Да, она очень добра, и, в сущности, я совершенно напрасно над ней потешаюсь…» «Извините меня, я дура, – с трудом выговорила графиня, – но я все воспринимаю музыкально, и это тоже, и здесь очень страшное, правда? Я уверена, вы понимаете?.. Вот эти тусклые лампы… Должно быть, и у Альвера в камере такой странный свет…»
Серизье смущенно отошел, тоже очень удивленный. Он ничего музыкально не воспринимал, однако и ему стало страшно. Удовлетворение от блестящей речи у него сразу исчезло. Он подумал о том, что теперь мог переживать Альвера. «Надо подойти к нему и сказать что-нибудь, слова ободрения… Но какие слова? Язык не повернется. Да, хуже всего эти часы ожидания приговора…» Нелегко было вообще говорить с человеком, которого он только что публично называл на все лады полуидиотом и полоумным («правда, я его предупредил, что это говорится для присяжных»); но еще тягостнее было то, что слова ободрения могли звучать лишь крайне фальшиво: ни малейшей надежды на спасение головы преступника у него не было. Серизье не сомневался, что Альвера притворяется сумасшедшим. «Еще вчера он беседовал со мной довольно разумно…» Мысль о том, что в человеке может в один день произойти важная перемена, была чужда адвокату. Он изобразил на лице бодрую улыбку и быстро прошел к подсудимому.
XIII
«И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофе из громадной чашки, нежась на эластическом упругом диване…»[182]182
Неточная цитата из: Н. В. Гоголь, Рим. Собр. соч. в 6 томах, М., 1949 г., т. 3, с. 192.
[Закрыть]
Вислиценус засмеялся и положил корешком вверх раскрытый толстый том Гоголя. «Я и не знал, что парижские кофейни так ослепительны. Точно так же описывал он красоты Днепра и римское небо… Вот и я отдаюсь «сибаритскому наслаждению». Этот номер гостиницы, конечно, не так великолепен, тут нет модных фресок за стеклом и благородного приспешника-гарсона, но я тоже нежусь на эластическом упругом диване и если сегодня освобожусь рано, то пойду вечером в облитый золотом кинематограф. Сибаритство вправду существует на все возрасты и на все карманы…»
Он был настроен прекрасно. Чувствовал себя значительно лучше, вероятно, оттого, что бросил курить. Сначала решил было бросить сразу, раз навсегда, потом разрешил себе постепенность: пять папирос в день, три, две. Теперь Вислиценус выкуривал за день одну папиросу, позволял себе ее днем в шестом часу, и с утра ждал этой минуты. Сердечных припадков не было уже довольно давно. «Да, это и есть счастье, – думал он, вспоминая ужасную, нестерпимо нарастающую боль с «sensation de mort imminente». – Счастье просто и элементарно: отсутствие болезни, отсутствие нищеты – синоним практической свободы, той свободы, которая, как бы ни лгали люди, для них неизмеримо ценнее, чем право участия в выборной комедии или право чтения дрянных книг и газет».
Хоть ему было несколько стыдно, он не мог не сознавать, что его душевному спокойствию способствовало и прекращение слежки. На улицах он больше не замечал плюгавого человека неизвестной национальности. Слежка вызывала у него не страх, а душевную тревогу, особенно неприятную потому, что вопрос «гестапо или ГПУ?» так решен и не был. «Во всяком случае, они поступили правильно, уничтожив этот ненужный расход: матерый зверь одряхлел, больше не страшен и ничего злодейского не предпримет. Матерый зверь теперь и свое освобождение видит в том, что сбросил с себя шкуру зверя…»
«Да, освобождение, – думал Вислиценус, – ведь еще месяц тому назад я размышлял о самоубийстве. Люди, боящиеся смерти, говорят, что самоубийство – выход малодушный. Это вздор, конечно. Я знал немало людей, покончивших с собой, и среди них ни одного труса не было, тогда как те, что обвиняли их в малодушии, действительно не всегда принадлежали к храбрецам. Никаких теоретических возражений против самоубийства у меня нет и теперь: в жизни могут быть и часто бывают положения, когда в самом деле ничего другого не остается. Именно смерть непостыдная, даже, быть может, единственная непостыдная? Но я-то, я теперь зачем стал бы кончать с собой? От страха смерти? Ведь это просто глупо: грудная жаба не рак, особыми мучениями не грозит, умрешь в одну минуту. Или из-за пата? Да вот же нашел какой-то выход. Позорный? Нет, ничего позорного в нем нет. Я ни от чего не отказываюсь. Я даже не считаю свою жизнь ошибкой. Не было ошибки, пока я искренно или почти искренно вслед за какими-то, тоже почти искренними народолюбцами хотел расплыться в народной массе, сохранив факел, или светоч, или еще что-то в этом роде. Все остальное лишь логически, на основании разных Энгельсов и Бельтовых, умственной второстепенности которых я тогда не замечал, вытекало из факела. Может быть, и желание расплыться было не так у нас сильно? Да, конечно, Ильич был великий политический шахматист и любил людей, даже своих, не больше, чем Ласкер любит пешки своей партии. Силу его, помимо гениальности, именно составляла ненависть ко всему ихнему, – то, что было и у меня и что, к сожалению, стало исчезать или, вернее, распространилось также на наше. Однако лживости у нас у всех, у пешек, тогда не было. Лживой насквозь была только пора после смерти Ильича, когда личный, годами накоплявшийся капитал порядочности, веры, убеждений уже был почти целиком растрачен после первых кровавых лет, а мы еще продолжали твердить о факеле, о светлом будущем, о революционном подъеме, о мировом пожаре и т. п. Троцкий продолжает верить в это и по сей день или, ради биографа, делает вид, будто верит. На самом деле всем нам понемногу стало ясно, что, хотя враг побежден, а выходит кабак (он употребил мысленно более крепкое слово). Привычка к брошюрному мировоззрению осталась – так вышедший в люди мещанин продолжает пить чай вприкуску. Остался условный и смешной жаргон вроде спортивного: один теннисист побил другого теннисиста, и могучая рыжая кобыла отомстила за свое поражение на прошлогодних скачках – этого не надо понимать дословно… Буржуазную мораль мы отвергли – и, разумеется, отлично сделали, – но так называемая революционная выветрилась очень быстро. На самом деле и тогда, в краткие годы празднования победы, все уже было как сейчас. С той, правда, важной для нас разницей, что при евреях, при Троцком, Каменеве, Зиновьеве, как прежде при Ильиче, террора против своих не было – просто евреи не догадались, – а грузин первый догадался, что отлично можно и против своих: как это скажется в расчете на десятилетия – неизвестно, а сейчас, в расчете на годы или месяцы, – даже очень выгодно… Я тогда совсем собрался в Китай поднимать желтую расу, так удачно подняв белую…»
Он лениво взял было книгу: уж очень ему надоели эти мысли, тон которых больше не отвечал его планам. «Нет, что-то все же недодумано… Нет, нет, я не «кающийся большевик», да и в «кающегося дворянина» больше не верю. И то была такая же – ну, пусть чуть лучшая – олеография, олеографическая выдумка народолюбцев, прикрывавшая борьбу за власть (как у декабристов), или честолюбие, или просто спортивные инстинкты и моду; тогда привилегированную молодежь тянуло на революцию, как еще раньше на службу в гвардии, а теперь на теннис и на велосипедные рекорды. Дальше что? Если даже по таким побуждениям взялись в молодости за факелы и мы, то это решительно ничего не меняет в ценности дела. Нет, я отказываюсь лишь от немногого, преимущественно от олеографии. Но в мои годы каждый человек имеет право на отставку с мундиром и пенсией, я не виноват, что по случайности одновременно с выслугой лет заметил простую элементарную жизнь, простое, элементарное «счастье», которое проглядел за Бельтовыми и Энгельсами. Революционный мундир я навсегда снимаю, а пенсия моя очень скромная: хлеб, уха, дешевенькое вино да солнце на остающиеся год или два жизни. И очень может быть, что ничего нового тут нет и что в этом своем освобождении я перекликаюсь (по ныне принятому, хоть идиотскому выражению) с многими другими революционерами, жившими и умершими давным давно. Счастье? Что такое счастье? Вполне возможно, что молодые арийские жеребята в расистской конюшне вполне счастливы. Конюшенная философия отлично может давать счастье, но я ее не хочу и никакой теперь не хочу, и пусть гады истребляют гадов, а я и перед негадами расшаркиваться перед смертью не стану…»
Он подумал, что и к Наде идти незачем. «У нее в глазах скользила боль, та боль, которая как будто что-то «искупает». Может быть, боль оттого, что она любовница Кангарова? Или просто оттого, что ей очень, очень хочется выйти замуж. Со мной она тогда чувствовала себя неловко, и выражение у нее было такое, какое может быть у человека, выходящего из уборной и натыкающегося на знакомую даму… Я больше не люблю ее, иначе мне не хотелось бы думать о ней цинично. Да, верно, я и прежде ее не любил, и никого вообще в жизни не любил по-настоящему. Разве в ссылке Марью Васильевну? Но это было от скуки, и физиология прикрывалась олеографически «единомыслием», так что я и сам не могу сказать, в кого я, собственно, был влюблен, в женщину или в большевичку, и был ли вообще влюблен или «искал верного товарища по работе»: мы тогда ухитрялись и самих себя обманывать с большим искусством. Я долго себя уверял, что у борца для личной жизни нет времени: борцы – монахи революции. Возможно, что я проворонил жизнь или лучшее в жизни. А когда влюбился (взять в кавычки?), вышло еще глупее, да вдобавок и гадко. Даже поэтам – а уж на что ловкие и опытные лгуны! – не удалось сделать поэтической старческую любовь. Для стариков это, разумеется, драма, но на свете есть много довольно противных драм. Люди же молодые – а тут хозяева они – всегда над этим смеялись, и, несмотря на более или менее талантливое творчество престарелых поэтов, влюбленный старик в литературе – почти такая же комическая фигура, как развратный старичок (или старикашка), да, в сущности, и большой разницы нет. Знай сверчок свой скверный одинокий шесток. Что делать? Есть философия, есть карты, есть политика, рыбная ловля, мысли о бессмертии души, собирание почтовых марок… Мало ли что можно делать, да где же сказано, что человек всегда может найти вполне удобный для себя выход? – опять подумал он. – Надя, конечно, надо мной смеялась, и она была права, и незачем обманывать себя мыслью, что, если бы Надя жила со мной, а не с Кангаровым, то это было бы неизмеримо лучше, чище и благороднее. Да, разумеется, деревня, глушь, больше ничего не остается. И газет читать не буду или уж разве местную французскую. А выйдут деньги, тогда увидим. Ведь и грудная жаба обо мне все же вспомнит рано или поздно, вернее, рано. Во всяком случае, не будет того чувства, которое было до сих пор: чувства человека в лифте, застрявшем между двумя этажами…»
После окончательного расчета по должности у него осталось восемь тысяч франков собственных – гораздо больше, чем он думал. Сдав деньги, он отнес свой остаток в банк, – ему с непривычки было смешно, что у него теперь собственный «текущий счет»: отрицателям и врагам буржуазной цивилизации постоянно приходится пользоваться ее благами. По дороге из банка домой он остановился на набережной. Убогие парижские рыболовы сидели над водой с удочками – этот вид всегда его смешил: рыбная ловля на Сене! Вспомнил с обычным умилением Енисей – и вдруг мысли об освобождении, давно у него носившиеся, определились по-новому. «Да, ведь это еще остается!» – подумал Вислиценус с внезапно нахлынувшей радостью. – «Зачем же тогда сидеть в Париже, где восемь тысяч уйдут в полгода? Лучше уехать в глушь, там жизнь втрое дешевле и в сто раз спокойнее. Человек создан для солнца и для деревни…» Почему-то ему вспомнился Кастеллан, крошечный городок в Провансе, в котором он был когда-то проездом, еще до войны. В воспоминании осталась прелестная старинная площадь, залитая, до глазной боли, белым южным светом. Больше не помнил решительно ничего. «Может быть, там и реки нет или в ней нет ни единой рыбы? Во всяком случае, и река, и рыба найдутся где-нибудь поблизости, в какой-либо деревушке, столь же милой, столь же солнечной, столь же уютной. Поезжу, поищу, там и поселюсь на остаток своих дней. Жить, где тебя никто не знает, вставать с зарей, ложиться с заходом солнца. Что ж, целый день заниматься рыбной ловлей, как порою на Енисее? Тогда была Марья Васильевна и на полках всевозможные Энгельсы – теперь уж без Энгельсов. Правда, и Енисея в Провансе нет, но ведь дело не в улове. В той идиллической ссылке была еще охота. С грудной жабой охотиться нельзя, да и дорого, а рыбная ловля почти ничего не стоит и не так утомляет, напротив. Если же станет скучно, то буду писать воспоминания, – подумал он с усмешкой, – американский издатель ведь теперь для отставных политических деятелей разновидность американского дядюшки. Денег хватит больше чем на год. В деревушке, верно, можно жить и на пятьсот франков в месяц. Какие расходы? Сниму избу, они теперь во Франции отдаются чуть ли не даром. Мяса все равно лучше есть поменьше, будет своя рыба, а к ней картошка, хлеб, дешевенькое местное вино, которое у них иногда бывает лучше дорогих, прославленных. Еще расходы на газету, на бумагу, на рыболовную снасть, на спиртовую лампу. Разве мне впервой жить на гроши? Да я всю жизнь до революции жил рублей на двадцать пять в месяц… Как же я не подумал об этом раньше? Но раньше я не знал, что у меня останется восемь тысяч. Жить в месте, где нет ни одного русского, ни ГПУ, ни гестапо, ни Нади, ни Кангарова. Год проживу спокойно, а там будет видно. Скорее всего, умру, и меня похоронят на казенный счет по распоряжению мэра. И вот как закончит свою довольно бурную жизнь человек, называвшийся Неем, Чацким, Ураловым, Кирджали, Дакочи, Вислиценусом и черт знает как еще… Полагалось бы, разумеется, «умереть на руках» у кого-нибудь (тоже идиотское выражение: никто никогда ни на чьих руках и ни в чьих «объятиях» не умирал), но можно отлично умереть без «рук», без «урны», без речей, без вранья, без «Памяти старого борца»… Он был счастлив, как давно не был.
На следующий день Вислиценус обошел несколько магазинов, торговавших рыболовными принадлежностями; долго присматривался к витринам, затем входил, справлялся о ценах, брал прейскуранты, где были. Он купил все, что требовалось, истратил около трехсот франков и как зачарованный не мог налюбоваться купленным. «В сущности, я не могу и сам сказать, где причина и где следствие: ухожу ли я в символический Кастеллан от политического пата, или пат образовался оттого, что я почувствовал потребность уйти? Вернее, тут нет ни причины, ни следствия: это случилось одновременно. Но служить больше я не могу. Все преступления, все гнусности, всю пролитую кровь можно было терпеть, пока была вера, что мы строим новую жизнь; а когда оказалось, что все, к общей искренней или злобной радости, ведет благополучно в кабак, то и делать мне с ними больше нечего. Уйти к другим? Печатать в капиталистических изданиях разоблачения о наших делах и людях? Нет, слуга покорный!» – думал он с отвращением.
С рыбной ловлей был отчасти связан и Гоголь. Вислиценус вспомнил, что в «Мертвых душах» очень соблазнительно описана рыбная ловля у Петуха. Он разыскал это место, прочел и решил перечитать все. «Ведь, собственно, самые лучшие книги – те, что впервые читаешь между пятнадцатью и восемнадцатью годами. В Кастеллан захвачу с собой несколько таких книг…» Вначале, впрочем, многое его раздражило: и уверенно-неправильный язык («нет тут у писателей никакого божественного права»), и то, что Гоголь великосветские сплетни называл «камеражами», очевидно, производя слово от «камеры», и то, что он – как-то с вызовом или для увеселения читателей? – говорил «свекруха» вместо «свекровь», «скандальоз» вместо «скандал»; что в доме Костанжогло (необычайно противный – тоже с вызовом противный – субъект) не было «фресков»; что бабы называют помещика «серебро ты сердечное»; что Улинька была «блистающего» роста, что она «в двух-трех местах схватила неизрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что ваятель перенес бы их тотчас на мрамор…». Раздражила его и болтливость – «отчего же не употребить этого слова»? «Какому счастливцу принадлежал этот закоулок? А помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому тридцатичетырехлетнему господину, коллежскому секретарю, неженатому, холостому человеку. Что же за человек такой, какого нрава, каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников? Разумеется, следует расспросить у соседей…» «Тут все лишнее, что ни слово. Если господин тридцатичетырехлетний, то незачем разъяснять, что молодой, а если холостой, то, естественно, неженатый, и уезд назван Тремалаханским из остроумия, чтобы посмешить, и все это в общем недалеко ушло от «шпрехен зи дейтчей» и «можете себе вообразить, сударь ты мой» его же почтмейстеров. Капитан Копейкин – пародия на самого автора, и рассказывал капитан не менее интересно, чем сам он писал…» Вислиценус продолжал читать с насмешкой (теперь везде и во всем видел ложь). «Очень талантливый, гениальный был обманщик, но обманщик. Никаких идеалов у него не было, все это вранье, его «идеалы» – такая же фальшивка, как благородные приспешники парижской кофейни. С истинным удовольствием он описывал только Ноздревых и Коробочек (их-то описал бесподобно). А что скромно обещал подать читателям «мужа, одаренного божескими доблестями» (неужто «божескими»?), и «чудную русскую девицу, какой не сыскать в мире», мужа и девицу, перед которыми «мертвыми покажутся все добродетельные люди других племен» (уж будто все?), то от этих олеографий он первый помер бы со скуки, это был обман, самое обыкновенное национальное бахвальство, как у разных Загоскиных, вдобавок неискреннее: старался подмаслить цензуру, как Коробочка заседателя, да и Загоскиных боялся, – подхалимаж той эпохи. Думал, что положил конец «Юриям Милославским», а его собственные олеографические Муразовы ничем не лучше «Юриев Милославских», даже хуже, потому что с претензиями, с философией и с вызовом: «откупщик? презираете? а он в сто раз лучше вас всех?..»
Прочитав до конца книгу, Вислиценус, снова ее перелистывая, думал о ней и, как ни странно, по поводу нее – о себе, о своей жизни, о своем деле, о большевиках. «Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядиться в армяки и будут мужики… Нужно было прибегнуть «к насильственным мерам. Князь был в самом расстроенном состоянии духа…» «Это ему казалось смешным пределом глупого и невозможного. А вот мы, если мужиков во фраки не нарядили, то уж помещиков в армяки наверное. И его добродетельный князь с «насильственными мерами» (фигура умолчания) – тот же высокопоставленный стахановец из наших художественных шедевров, такой же выдуманный, такой же глупый и такой же скверный. «Само собой разумеется, что пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии…» Вот в чем добродетельный князь и его создатель видели правосудие! Недалеко же ушли от нас. У наших нынешних гоголят невинные, правда, никогда не страдают…»
Ему самому стало совестно. «Какое же тут сравнение? Ведь это одна из самых прелестных, изумительных книг, существующих в мире! «Мертвые души» можно читать десять и пятьдесят раз, я впервые прочел в корпусе, читал в эмиграции, читал в тюрьме, читал в ссылке, читаю теперь тут, и всегда с наслаждением, и, разумеется, не оттого, что в ней разоблачаются взяточники и мошенники. Он хотел заклеймить и неожиданно «возвел в перл создания» – выражение гадкое, однако это так: возвел. Мне все равно, брали взятки или нет его чиновники – хоть каждый из них вышел симпатичнее Костанжогло, – но жизнь их была милая, обильная, счастливая и даже поэтическая, и мне при чтении этой книги всегда – задолго до освобождения – хотелось жить во время Чичикова, путешествовать в его бричке, есть в его гостинице поросенка с хреном, запивать фруктовой блины у Коробочки, возить с собой том «Герцогини Лавальер», ловить рыбу у Петра Петровича Петуха и разговаривать с ним (он премилый) или хотя бы с Селифаном – уж лучше, чем с Кангаровым-Московским…»
«Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было: ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой! – кричали мужики: садись-ка, ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй…» «В этом удивительном человеке, в числе десятка других персонажей, сидел и газетный фельетонист. Пушкин, Толстой не унизились бы до такого остроумия. Да он и сам не знал, во имя чего издевается над мужиками. Чичиков торговал мертвыми душами, а надо было торговать живыми. С точки зрения дяди Митяя, пожалуй, было приятнее, чтобы продавались мертвые души, а не живые, в том числе его собственная. Дядя Митяй был вправе не разделять идейного возмущения автора. Но мы кое-как сделали мораль басни комической бессмыслицей: от красавца Костанжогло ничего не осталось, а дядя Митяй, слава Богу, здравствует…»
Только теперь Вислиценусу стало ясно, почему он вдруг впал в нелепую мысленную полемику с Гоголем. «Да, конечно, это был великий, гениальный писатель, и у него было божественное право, и он мог пользоваться любыми выражениями, – вот как Достоевский писал «текущий момент», хоть этого выражения теперь себе не позволяют и провинциальные журналисты. Книга эта вышла о вечном, но совершенно не так, как того хотел автор. О вечном, или о долгом, и уж во всяком случае, и о нас: мы сторона в этом деле. Никуда не неслась Русь, «как необгонимая тройка», и в его время, – но у него это был стилистический прием, а у нас на этом строилось все! В Руси дяди Митяя мы, большевики, изменили немногим больше, чем добродетельный князь и благочестивый откупщик. Хотели натравить дядю Митяя на дядю Миняя, пользуясь тем, что у одного десятиной земли и двумя коровенками больше. Но ведь и это не удалось, хоть мы очень старались и хоть натравливание – самый легкий вид политической работы. Да, разумеется, Чичиков сидит в комиссии Госплана, Манилов пишет статьи в газетах, Кифа Мокиевич состоит в союзе безбожников, «насильственные действия» стали более жестокими, внуки князя роют каналы, – но дядя Митяй остался в своей деревне, да, в сущности, почти и не изменился, хоть записался в колхоз. Мы кончимся, как кончились князья-стахановцы, а это море останется, и что с ним будет, никому неизвестно. Вероятно, в конце концов все выйдет, как хочет дядя Митяй, – да будет его святая воля…»