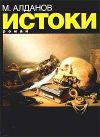Читать книгу "Начало конца"
Всю свою жизнь он повторял, что Достоевский ему чужд. Критика «Преступления и наказания» содержится, в частности, в статье «Из записной тетради» (1930). Преступление, писал он, рассказано так, что дух захватывает, дано подробно, с предысторией, на сотнях страниц. А при изображении наказания «художественный фокус», каторга показана уклончиво, сдержанно, в небольшом эпилоге. «Достоевский хорошо знал, что такое каторга. Описывать ее здесь по-настоящему значило бы вызвать безнадежную путаницу во всем замысле романа. Наказание стало бы тоже преступлением, и от злополучной идеи «очищения страданием» осталось бы, вероятно, немного. Пришлось бы очистить страданием, – иронизирует Алданов, – и каторжное начальство».
Перенеся коллизию Достоевского во Францию 1930-х годов, он обнаруживает, что юношу-анархиста, замыслившего убить своего работодателя, престарелого буржуа, не волнуют ни духовные, ни нравственные проблемы, что для него лишить другого человека жизни, не оставив улик, лишь интересная техническая задачка, способ самоутвердиться. В своем варианте темы наказания Алданов тоже вполне самостоятелен: герой раскаяния не испытывает, тюрьма и не ставит задачи его перевоспитать, он как бы отрешенно идет на казнь. Казнь как единственная убедительная развязка сюжетной линии.
Историей Альвера Алданов напоминал читателю об эпизоде французской политической жизни, незадолго перед тем всколыхнувшем русскую колонию. Публичной казнью, гильотинированием закончился в 1932 г. жизненный путь иммигранта из России Горгулова. Он смертельно ранил во время предвыборной кампании тогдашнего президента Франции престарелого Поля Думера. Тут же был пойман, вскоре судим, и суд, не найдя причин для снисхождения, приговорил его к смерти. Как и алдановский Альвера, он тоже не мог внятно объяснить мотивы своего преступления. «Был обозлен на весь мир», – свидетельствовали журналисты. Газеты называли его выродком, а правые выступили с нападками на русскую колонию во Франции – вот-де как нам платят за гостеприимство! Дав парафраз недавней нашумевшей истории, Алданов получил возможность затронуть в романе волновавшие его социально-политические темы: трудность адаптации на чужбине, аморальность смертной казни, еще большую аморальность казни публичной.
Тональность рассказа об Альвера по ходу действия меняется. Вначале читателя приглашают посочувствовать бедняку, с трудом сводящему концы с концами, живущему на чердаке в чужой стране. Затем автор несколькими выразительными штрихами отгораживает своего молодого героя от идей гуманизма и доброты, и уже не удивляет, как легко и хладнокровно тот решается на убийство. Сцена преступления идет кинематографически быстро и весело под модный шлягер про бразильца и перчаточницу. Но начиная с момента ареста Альвера, связь повествования с канонами массовой культуры отброшена, тюрьма, следствие, суд даны в сухой, сжатой документальной манере, обыденность, даже банальность происходящего с героем в тюрьме педалируются. Ни капли раскаяния в содеянном, ни капли сострадания к убитому им человеку. Перерыв монотонности – неудачная попытка героя покончить с собой.
По контрасту писателю требовалось найти необычные броские краски для изображения казни. Оригинальность выбранного им творческого решения состоит в том, что сцены казни в романе нет, вместо нее «художественный фокус». Изображен защитник Альвера, мэтр Серизье, в ночь перед приведением в исполнение приговора. Он страдает бессонницей, ранним утром должен будет отправиться к версальской заставе, где произойдет казнь, а пока что в уютной спальне достает с полки чистенький том, ученую работу с подробным описанием того, как устроена гильотина, как потом поступают с трупом и вещами казненного. Засыпает над книгой, а когда просыпается, обнаруживает, что опоздал. Автор подсказывает читателю: у него не хватило сил написать сцену казни, казнь ужасна, от нее необходимо современному обществу отказываться.
* * *
Две сюжетные линии, советских людей на Западе и Альвера, в романе не имеют точек соприкосновения. Чтобы объединить их в художественное целое, автор, знаток искусства композиции, ввел в повествование героя, который связан и с первой, и со второй: знаменитого французского романиста, человека левых убеждений принимают охотно в советском посольстве; Альвера работает у него секретарем.
Перед тем как Бунин в 1933 г. был удостоен Нобелевской премии, Алданов, свидетельствуют современники, проделал серьезную подготовительную работу: разослал крупным западным деятелям литературы и искусства письма, в которых просил (призывал) их публично высказаться в поддержку кандидатуры своего соотечественника и друга. Он получил несколько десятков разных по содержанию и форме ответов и, рассматривая их, задумался над психологией западного интеллектуала-гуманиста, который, долгое время оставаясь «над схваткой», в конце концов делает свой политический выбор. Его Луи Этьенн Вермандуа, острослов, эрудит, лучшее украшение литературных салонов, в начале романа друг Советского Союза, собирающийся вступить в коммунистическую партию. К концу романа основополагающие труды классиков марксизма-ленинизма ему представляются философией кухарок, он декларирует, что нет разницы между «человеком с усиками» и «человеком с усами». Финальная сцена романа, где Вермандуа в разговоре с Кангаровым-Московским в резкой форме, гневно отказывается послать в Москву телеграмму в поддержку «показательных процессов», навеяна эпизодом из жизни Андре Жида, автора «Фальшивомонетчиков», впоследствии Нобелевского лауреата.
В 1936 г. Жид был приглашен в Советский Союз. Его принимали, что называется, по высшему разряду: был удостоен чести выступить на траурном митинге на похоронах Горького, ездил в Сочи навещать прикованного к постели Н. Островского. Но когда возвратился домой во Францию и опубликовал о своей поездке книгу очерков, выяснилось: не от всего увиденного он в восторге, позволяет себе и некоторые упреки в адрес увиденного. Это сразу же вызвало бурю негодования в Москве. Начатое изданием собрание его сочинений тут же приостановили, «Литературная газета» аттестовала его как наймита мировой буржуазии. Алданов находился в переписке с Андре Жидом, встречался с ним, следил за случившейся с ним историей. Впоследствии с большой симпатией изобразил Жида в очерке «Конец группы Понтиньи».
И в то же время Вермандуа отчасти автопортрет писателя. Задумывая новый роман «из древнегреческого быта», для вдохновения Вермандуа достает с книжной полки два классических исторических романа почему-то из эпохи французской революции – «Девяносто третий год» Виктора Гюго и «Боги жаждут» Анатоля Франса. Вермандуа эти книги совершенно далеки по теме, но, несомненно, обе живо волновали самого Алданова, создателя романа «Девятое термидора». Оба, Вермандуа и Алданов, подрабатывают в газетах очерками о политических знаменитостях; первый пишет очерк об Идене, второй несколькими годами ранее опубликовал очерк о Черчилле. Собираясь встретиться с Алдановым осенью 1940 г. в Ницце, Бунин подготовил заранее листок, где колонкой были выписаны ряды фраз из романа «Начало конца», – рассказывает мемуарист Александр Бахрах. Он начинает не без иронии убеждать Алданова, что Вермандуа – автопортрет: «Подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа, вы сами пишете, «цитировал сто тысяч человек», а вы? «вежливость была в его природе», а у вас? «грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение», а вас?(…) А дальше ваш Вермандуа говорит: «Но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость». Ведь все это ваши собственные переживания, – настаивал Бунин, – да и вы, родись вы французом, расхаживали бы в зеленом академическом фраке и были бы «бессмертным».
Алданов, по словам мемуариста, отрицал автобиографичность своего героя и, возражая Бунину, настаивал, что в его романе Вермандуа если не коммунист, то салонный «большевизан», а этого достаточно, чтобы отбросить мысль о тождестве писателя и героя. Но на деле, считает Бахрах, Бунин был прав, предполагая, что отличия даны лишь для отвода глаз и по сюжетной надобности.
Алданов любил повторять, что ни один его вымышленный персонаж не списан с одного конкретного прототипа, каждый – собрание черт и деталей, заимствованных у разных лиц. Казалось бы, писателю угрожала опасность механического соединения случайных красок на палитре, неорганичности персонажей. Но на деле он эту опасность предвидел, умел ее избежать, и его Вермандуа может служить примером внутренней цельности. В этом ключе рассматривал характер Г. Адамович, считавший, что герой и человечен, и многогранен: «Без рисовки, без вызова он говорит то, что кажется ему нужным и верным, а как это будет принято – дело для него второстепенное. Если признать, что человек ценен сам по себе, а не только в качестве материала или орудия, важно и интересно всякое его состояние, тем более такое, когда он создает пустоту своей жизни, когда уже поздно что-либо в этой жизни исправлять, когда он ищет объяснения или утешения не для себя только, а для всех (когда он всем существом своим подведен к тому, чтобы понять смысл толстовских слов: «после глупой жизни придет глупая смерть»). Вермандуа – не пророк, не гений, не потрясатель основ. Он умный человек, но по своему духовному складу человек обыкновенный и имеет мужество этого не скрывать (…) После главы о Вермандуа из «Начала конца» попробуйте сразу перейти к любому современному роману, самому блестящему, самому искусному, искрящемуся, ослепительному как фейерверк – невозможно читать, книга валится из рук, скучно, неинтересно, все мимо, все впустую…»
Избрав героем писателя-эрудита, Алданов, казалось бы, должен был вложить в его уста целый фейерверк афоризмов о литературе. Но и здесь он поступает неожиданным образом: единственный пассаж Вермандуа о классике смешон. Он говорит, что Римский-Корсаков, создатель оперы «Моцарт и Сальери», был введен в заблуждение невеждой-либреттистом, утверждавшим, будто Сальери – отравитель. Что этот «либреттист» – Пушкин, герой-француз не знает, и это ему извинительно. Однако, чтобы неискушенный читатель не заподозрил автора в неуважении к великому поэту, особенно в атмосфере недавнего пышно отмеченного пушкинского юбилея, Алданов тут же связывает судьбу своего командарма Тамарина с провидческими строками из стихотворения Пушкина «Родриг».
В литературе Алданова больше всего волновала русская литература. Отказавшись от мысли сделать рупором своих идей Вермандуа, он избрал на эту роль прежде всего Вислиценуса. Его суждения категоричны, он высказывает мысли, справедливые лишь отчасти. В литературно-критических статьях Алданова – стремление к объективности, взвешенности суждений, для его персонажей характерна заданная односторонность – при том, что они образованные, широко мыслящие, вызывающие уважение читателя. Как и его создатель, Вислиценус не любит Достоевского, видит в нем врага, «замоскворецкого мещанина», упрекает его: прожив «на каторге четыре года, служил им верой и правдой весь остаток жизни». Гоголь, напротив, воспринимается героем как часть собственного духовного мира. О его поэме: «Читал в эмиграции, читал в тюрьме, читаю теперь тут, и всегда с наслаждением, и, разумеется, не оттого, что в ней разоблачаются взяточники и мошенники. Он хотел заклеймить и неожиданно «возвел в перл создания» – выражение гадкое, но это так: возвел. Мне все равно, брали взятки или нет его чиновники – хоть каждый из них вышел симпатичнее Костанжогло – но жизнь их была милая, обильная, счастливая и даже поэтическая, и мне при чтении этой книги всегда (…) хотелось жить во времена Чичикова, путешествовать в его бричке, есть в его гостинице поросенка с хреном, заливать фруктовой блины у Коробочки…»
В одной умной и проницательной статье (проф. В.М. Сечкарева), напечатанной в Германии, читаем, что эти и им подобные строки Алданова – Вислиценуса своеобразная пародия на Гоголя, на его любовь к преувеличениям, к нанизыванию слов и подробностей. Нам видится в них только преклонение перед гением и робкая попытка имитировать неповторимый стиль.
Но вот писатель имитирует стиль своих современников, советских писателей, и тут неповторимости как не бывало. «Не психуйте, Станислав Михайлович», – спокойно-повелительно сказала Оля. Карталинский вспыхнул. «Вы раскаетесь!» – произнес он грязным голосом. «Не думаю. Не пришлось бы раскаяться вам. Советскому Союзу не нужны такие люди, как вы». В эту минуту дверь моторной мастерской с кряканьем растворилась, пропев ласково ноту «ми», и послышался натужный гул самолета». Тема вредительства, с точки зрения жизненной правды, безнадежна, но если у писателя ложен замысел, то наверняка плох и стиль. В Париже в светской беседе Вермандуа шутит: «Вот граф недоволен Сталиным, а может быть, сейчас какой-нибудь неизвестный советский поэт пишет в честь диктатора оду, которая окажется чудом поэзии». Ни одна подобная ода, а их было множество, чудом поэзии не оказалась. 19-летняя секретарша Кангарова Наденька в свободное от служебных занятий время сочиняет для московского толстого журнала рассказ о том, как вредителя со звучной фамилией Карталинский разоблачили. Она размышляет: «В камере районного прокурора, наверное, был портрет Сталина. Что, если, взглянув на это лицо, Карталинский, в порыве душевного раскаяния, перейдет на сторону советской власти!» Сюжет, персонажи, язык – все в рассказе плохо. Примитивность, однако же, скорее способствует успеху, рассказ принят к печати, и поклонник, сообщая ей радостную весть, величает ее теперь: «Наденька Горькая».
Язвительная сатира, сарказм у Алданова соседствуют с изумительными лирическими пассажами, с горькими вечными раздумьями о бессилии писателя перед торжествующим в мире злом – как у Гоголя, как у Булгакова. Одна из самых проникновенных страниц романа – конец первой части: Вермандуа читает Гете. Он, конечно, себя с Гете не сравнивает, но ему приятно думать, что этот навсегда, на весь мир прославленный человек жил почти в такой же обстановке, так же тяготился людьми, так же не мог без них обойтись, так же терпел обиды, так же подчинялся требованиям своего общества. Вермандуа откладывает книгу, пытается думать о том, что мудрость писателя, долг писателя – понятия одинаковые во все времена.
«Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький разумный смысл. Пусть портной шьет возможно лучше, пусть писатель пишет, вкладывая всю душу в свой труд. Не уверять, что трудишься для самого себя, – ведь и он мечтал об огромной аудитории и откровенно советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не писать ни единой строчки. Не задевать предрассудков, по крайней мере грубо, не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия политического Дон Кихота, такая же, по существу, профессия, как труд сапожника или ветеринара… Не потакать улице и не бороться с ней: об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить. Но в меру отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших положений добра (…) Жить спокойно, зная, что мир лежит во зле. Радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира».
После падения Парижа, в Марселе, по пути в Ниццу, Алданов посетил консульство США и обратился с ходатайством о визе. В Ницце поздней осенью 1940 г. он дописывает «Начало конца» и высылает по почте через Португалию в Нью-Йорк текст неопубликованных глав. Хлопоты о визе, а затем о билетах на пароход из той же Португалии затягиваются на несколько месяцев. Алданов пытается убедить также поехать в США Буниных, но безуспешно – Иван Алексеевич болен. В декабре 1940 г. с превеликими сложностями, обычными, впрочем, для военного времени, отправляется в Нью-Йорк. Доберется до места назначения в январе рокового 1941-го.
События 22 июня 1941 г. он воспринял как личную драму. С гордостью повторял в самые трудные первые месяцы войны: «Россия и русская армия проявили и проявляют совершенно исключительный героизм». Он был автором газетного объявления о выходе в Нью-Йорке первого номера «Нового журнала»: «Оставаясь такими же противниками советской власти, какими они не переставали быть с 1917 г., все сотрудники всячески желают России и ее союзникам полной победы». После войны прекратил всяческие отношения с теми, кто сотрудничал с гитлеровцами: «из уважения к памяти замученных немцами людей».
Напечатать отдельной книгой «Начало конца» на русском языке в США или какой-либо другой стране не представлялось возможным: за пределами СССР в мире не оставалось ни одного русскоязычного издательства. Но с апреля 1942 г. в Нью-Йорке, усилиями Алданова, начал выходить «Новый журнал», и заключительные главы романа как самостоятельные отрывки в № 2 и № 3 в нем были опубликованы.
Тем временем один из друзей Алданова, Н. Р. Вреден, впоследствии директор Издательства имени Чехова, уже работал над переводом текста на английский язык. Под названием «Пятая печать» роман был издан авторитетным издателем Скрибнером. В феврале 1943 г., перед тем как состоялась презентация, в Публичную библиотеку, где Алданов работал, с двумя бутылками шампанского явился Вреден и сообщил неожиданную добрую новость: Клуб книги месяца остановил свой выбор на «Начале конца». (Подобной же чести был удостоен роман знаменитого немецкого писателя-антифашиста Т. Манна «Иосиф и его братья».) Алданова буквально засыпали поздравлениями, одно из первых пришло от В.В. Набокова. Эмигрант из СССР Б. Элькин 18 февраля 1943 г. писал из Англии: «Успех пришел, когда кругом все черно и душа не имеет ни минуты покоя. Но этот успех пришел – и это должно, должно дать Вам удовлетворение. Это наш писатель, наш Марк Александрович отличен». Ему вторил профессор Н. Вакар из Бостона, Массачусетс (письмо от 2 февраля 1943 г.): «Позвольте крепко обнять Вас. Не имея на то никакого права, я переживаю это совершенно как мой успех. Все-таки, что ни говорите, это – НАША ВЗЯЛА!» 24 марта, поздравляя Алданова, крупный американский критик Эдмунд Уилсон подчеркивал: «Это, вне сомнения, один из лучших социально-политических романов, написанных в последние годы в Европе».
В десятках газетных и журнальных рецензий роман получил высокую оценку. Но в английской коммунистической газете «Дейли уоркер» критика Алдановым порядков в СССР была в резких выражениях названа несправедливой и неуместной в разгар войны. Солидаризировавшись с этим взглядом, член правления Клуба книги месяца, профессор Колумбийского университета Дороти Брюстер в знак протеста против решения Клуба вышла из правления. Четыре других «судьи» 17 апреля 1943 г. опубликовали в «Нью-Йорк таймс» совместное заявление, в котором подчеркивали, что политический мотив в их решении не присутствовал. Алданов решил принять участие в дискуссии, написал открытое письмо в редакции ряда ведущих газет США, где разъяснил свою позицию: «Никакой политической пропагандой я не занимаюсь, не занимаюсь и антисоветской пропагандой, хотя никогда не скрывал и не скрываю своих антибольшевистских убеждений (…) Если не американским, то уж во всяком случае русским читателям хорошо известно, что с первого же дня русско-германской войны я много раз в статьях высказывал пожелание полной победы России над ее гнусным и отвратительным врагом и пожелание максимальной помощи России со стороны ее союзников. Я выражал также надежду, что под влиянием союза с великими англосаксонскими демократиями в России может создаться более свободный и гуманный строй. Быть может, в Кремле поймут уроки истории».
Политический шум, поднявшийся вокруг «Начала конца» в американской прессе, не только не уменьшил читательский интерес к книге, но даже содействовал его росту. Общий тираж романа в США превысил 300 тыс. экземпляров. Но Алданов был огорчен: многие из «левых», на чью поддержку он рассчитывал, его замысел не оценили. Его успокаивали друзья. Ироничный В.В. Набоков 13 июня 1943 г. писал ему: «Шум, поднятый копытцами коммунистов, скорее приятен». Г.П. Струве, написавший на роман сочувственную рецензию для лондонской газеты «Обсервер», сообщал 31 декабря 1945 г., что, хотя книга и переиздана в Англии, ее в Лондоне невозможно купить: «Не исключена, конечно, возможность, что ее скупило советское посольство: это ведь своеобразный вид бойкота». Михаил Чехов выражал надежду, что роман будет экранизирован (письмо от 30 января 1951 г.).
Последний по времени документ, касающийся «Начала конца» при жизни автора, – это его письмо, написанное за год до смерти (датировано 29 января 1956 г.), читательнице – почитательнице Вечориной – ответ на ее просьбу указать, где она может найти полный русский текст романа: «Мой роман «Начало конца» полным изданием не вышел (по-русски). Он должен был состоять из двух томов, первый появился перед войной (и был немцами конфискован), а второй вообще не появился, так как издательство, выпустившее первый, перестало существовать, а никакое другое не могло издать второй без первого. Иностранные переводы делались в значительной мере по рукописи».
Прошло три с половиной десятилетия. Распался Советский Союз, появилась новая Россия, она стала открывать для себя имена и книги Набокова, Ходасевича, Гумилева. В 1991 г. в московском издательстве «Правда» увидело свет шеститомное собрание сочинений Алданова. Большая вступительная статья, открывшая первый том, начиналась и заканчивалась цитатами из его «Начала конца». Сам этот роман в шеститомнике отсутствовал – не удалось найти полного авторского текста. Однако же приведенные в статье цитаты свидетельствовали: Алданов – мастер, роман – неотъемлемая часть русской культуры кануна Второй мировой войны.
Началось изучение истории и текста романа. Его первая часть не доставила забот ученым: книжный текст, опубликованный в Париже в 1939 г., повторял журнальный. Сложности возникли при подготовке второй части. В «Современных записках» были заменены рядами точек несколько глав, публикация не была доведена до конца. Заключительные главы вместе с опущенными парижским журналом появились в 1942 г. в нью-йоркском «Новом журнале», но отрывки были сгруппированы по сюжетным линиям. Их место в тексте, последовательность глав надо было установить.
На помощь пришел английский перевод. Переводчик тщательно следовал авторскому замыслу, в части последовательности глав ему можно было полностью доверять. Но возникла новая загадка: в тексте «Нового журнала» почему-то отсутствовали три заключительные страницы романа, его кульминация и развязка! Редакция московского журнала «Октябрь», принявшая в 1993 г. роман к публикации, поручила мне дать эти три страницы в обратном переводе с английского. А через год, получив возможность поработать над алдановскими рукописями в Бахметевском архиве в США, я обнаружил их текст на русском языке. Эта находка заменила и отменила обратный перевод с английского. Роман и история его публикации на родине писателя обрели, наконец, окончательную развязку.
Вместо заключения две будящие мысль выдержки из писем Алданова последних лет его жизни. В письмах писатель высказывается откровеннее, чем в художественной прозе, мыслит оригинально, ставит острые темы, приглашая своего корреспондента к дискуссии.
Сначала цитата из письма Ю.П. Семенцову, химику, однокурснику Алданова по Киевскому университету (письмо от 16 февраля 1955 г.):
«У меня здесь в Ницце добрый знакомый Деслав, кинематографический деятель и украинский публицист (…) Мы с ним нередко встречаемся днем в кофейне, и без десяти семь он неизменно уходит домой – слушать киевское радио на украинском языке. Так вот, он меня все «утешает»: «Хоть Вы, Марк Александрович, больше, верно, никогда не увидите Вашего Петербурга, но Киев увидите и очень скоро. Будет независимая Украинская республика, и, разумеется, мы Вас туда пустим, так как Вы родились в Киеве». – «Неужели пустите? Ведь я не украинский писатель». – «Пустим, и даже будем печатать переводы Ваших книг, и платить будем авторский гонорар».
Вторая цитата из письма Алданова крупному политическому деятелю предоктябрьской России В.А. Маклакову (в 1917 г. он посол России во Франции, а позднее эмигрант, публицист и мемуарист). В трудный свой час на старости лет Маклаков написал Алданову, что прожил жизнь впустую, его дело и книги скоро позабудут. В ответе от 27 марта 1950 г. Алданов не только отыскивает единственные убедительные слова утешения, он рассуждает о бессмертии как философской проблеме, высказывает мысли, которые впоследствии положит в основу своей замечательной «Повести о смерти»:
«Ваша жизнь, Вы пишете, прожита даром! Я готов убрать этот восклицательный знак, если считать, что всякая человеческая жизнь живется даром и что никто после себя ничего не оставляет. В таком взгляде, конечно, была бы немалая доля правды. Книги, или картины, или ученые труды человека живут много пятьдесят лет, музыка немного дольше. Приблизительно столько же хранится память о человеке, который памяти стоил, хотя бы ни одной строчки он не написал. Затем забывают по-настоящему – как что-то, а не как звук – и тех и других. Есть счастливые исключения, но ведь, скажем правду, они в громадном большинстве случаев «бессмертны» мертвым бессмертием. Никто ведь, правду говоря, не читает ни Данте, ни Аристофана, или читают их раз в жизни, в молодости, чтобы можно было больше к ним никогда не возвращаться (Екклезиаст и «Война и мир» не в счет). Помнят имя. И если чего-нибудь стоит такая формальная память, то Вам этот вид памяти обеспечен как знаменитейшему русскому оратору периода, который, верно, будут помнить долго. Историки, даже самые враждебные, должны будут в своих трудах к Вам возвращаться постоянно».
Хорошо, что Алданов сделал оговорку насчет «счастливых исключений». На деле они не так уж редки, и судьбой ему самому было предназначено стать одним из таких исключений. По одному из его романов («Ключ») недавно был поставлен фильм, еще один фильм, документальный, был посвящен жизни и творчеству писателя, закончено изданием новое восьмитомное собрание его сочинений. Его не забыли – и не только имя, но и книги.
A. Чернышев