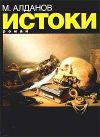Читать книгу "Начало конца"
XIX
Так, дрожа в лихорадке, не смыкая глаз, с трудом переводя дыхание, он пролежал очень долго, быть может, три, быть может, четыре часа. Несколько раз зажигал лампочку, смотрел на часы, старательно всматривался в стрелки, старался разобрать, который час, и все ошибался. Свет резал его воспаленные глаза, и он тотчас тушил его. «Болен, совсем болен, – тоскливо думал он, соображая, что бы такое сделать. – Близких людей нет больше нигде в мире, позади кладбище из людей, когда-то бывших близкими. А тут нет даже и просто знакомых, которые хотя бы приблизительно знали, кто я…» К концу этой долгой ночи мысли его стали путаться. Он понимал, что у него сильный жар. «Верно, градусов 39, а то и 40?» Долго старался вспомнить, какой это счет: по Цельсию или по Реомюру. Но вспомнить не мог и очень волновался, что не может. «И кто такой Цельсий, не помню… Реомюр – да… Я в детстве страшно боялся слов «антонов огонь»: какой Антон? Какой огонь?.. Это сюда ни малейшего отношения не имеет. У меня лихорадка или, может быть, тиф, но антонов огонь тут совершенно ни при чем. Это тревожно… очень тревожно…» Потом с радостью вспомнил, что Реомюра звали Антуаном: «Значит, какая-то связь есть, значит, все-таки не совсем спятил!»
Запах еды, оставшейся в кастрюле, был ему противен. Он с усилием встал и выставил кастрюлю в пустой коридор. Откуда-то все еще доносилось трещание пишущей машинки – теперь как будто одной. «Вот как! Значит, тут можно стучать до поздней ночи! – подумал Тамарин, привыкший к французским порядкам. – Что, если и мне сесть за работу? Принять лекарство и сесть за работу?» Он разыскал аптечку; из двух коробочек высыпались порошки. «Вот это, кажется, аспирин, – подумал он и проглотил одну за другой три пилюли, запив вином. – А что было в другой коробочке?» Вспомнил, что это были прессованные порошки, рекомендованные аптекарем для возбуждения умственной деятельности и энергии – как-то купил в Париже, заметив за собой усталость. «Вдруг ошибся? Очень похожие пилюли. Только те надо было принимать «по одной в день, не злоупотребляя», говорил тот старичок на углу бульвара Сен-Мишель. Кажется, в самом деле ошибся: эти пилюли горьковатые…» Он стакан за стаканом допил остаток вина из бутылки. «Хорошее вино, но много крепче французского…»
Пишущая машинка стояла на комоде. Сбоку она показалась ему похожей в миниатюре на броненосец. «У Франко есть броненосцы, это надо будет отметить в докладе… Я писал в книге, что пока еще нельзя предсказать результат борьбы морского флота с воздушным: нет данных… А мне, собственно, все равно», – бормотал Константин Александрович, не имевший вообще привычки говорить с собой вслух. Лента на машине сильно истрепалась, кое-где разорвалась на полоски, но у него была запасная. Он стал ее вставлять. «Совершенно все равно, – бормотал он, – что Франко, что Миаха… Если эти, здешние, немного чище и привлекательней, то разве потому, что они пачкают только свободу, которую одни ленивые не пачкали и не компрометировали – и черт с ней! Пусть ее и компрометируют, и пачкают! А те, фашисты, свои гнусности прикрывают не свободой, а другим, и это гнуснее, потому что тут истинное кощунство… Настоящий верующий человек это иначе как кощунством и не может назвать!..»
Вставить кончик ленты под стерженек валика Тамарину удалось лишь с трудом, хотя он привык к этой операции и даже любил ее; несмотря на свою бережливость он ленты в Москве и в Париже менял очень часто – ему нравилась черная четкая печать. Пальцы у него испачкались от свежей краски. Воды в кувшине почти не оставалось, он вылил остаток в миску, но только размазал краску на руках, и на полотенце остались черные пятна – «просто неловко перед этой Микаэлой… Нет, так нельзя писать! Уж не выйти ли на улицу, а?».
Константин Александрович очень обрадовался этой мысли и поспешно стал одеваться. «Пропуск есть, могу ходить где хочу, смотреть что хочу. Дверь там внизу была на задвижке, без ключа… Вдруг еще бои увижу! Да, ведь ночью бои!» – еще больше обрадовался он. Усталость с него сняло как рукой. Но соображал он все хуже. «Согрелся от вина, отличное вино… Да, открытку опустить!» Открытка Наде по-прежнему лежала в кармане шинели. Надев шинель, Тамарин на цыпочках вышел из комнаты. Пишущая машинка все стучала. «Уж не галлюцинация ли это? Нет, никогда в жизни никаких галлюцинаций у меня не было. Во всяком случае, это была бы очень странная галлюцинация».
Внизу, в холле, на диване полудремал вооруженный сторож. Как раз в ту минуту, когда Тамарин спускался по лестнице, у дверей дома остановился автомобиль. В холл вошел высокого роста седой человек в темном, поношенном штатском пальто. «Кажется, это наш! Чуть ли я не видел его в Москве, в какой-то комиссии? Латыш», – подумал с очень неприятным чувством Константин Александрович. Сторож вскочил, на лице его изобразился ужас. Вытянулся с испуганным видом и часовой у двери холла. Штатский человек прошел в дверь, сделав вид, будто не замечает Тамарина.
Ночь была странная. Быть может, в последние годы жизни переселившегося в Испанию грека, самого непонятного из великих художников, в те годы, когда на него надвинулось умопомешательство, он по ночам здесь видел это фигурное пятнистое небо. Резкий ветер гнал облака, красноватая, огромная луна показывалась лишь на мгновение. Тамарин взглянул на небо, изумился и простоял с минуту неподвижно. Ему пришла было мысль, что он в бреду, что надо тотчас вернуться и лечь в постель. «Какой вздор!.. Странно, все очень странно, – сказал он себе и, застегнув шинель, быстро пошел налево. – Испанисто, очень испанисто! Никогда такой ночи не видел». Было очень холодно, улицы были пусты, фонари встречались редко. У одного из них ему бросилась в глаза какая-то высокая тумба. Он не сразу догадался, что это почтовый ящик, но догадался. Константин Александрович опустил открытку – «разумеется, почтовый ящик: не может быть ни малейших сомнений» – и почувствовал большое облегчение. Его и в обычном состоянии немного беспокоили неотправленные письма. Теперь же он вздохнул так радостно, точно найти почтовый ящик в большом городе было необыкновенной удачей. «Значит, след не затеряется!.. Да, торжество зла, и я во всем участвую, дурак на службе у злодеев. Впрочем, другие не лучше их, не умнее меня…»
Не очень далеко раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий. Тамарин обрадовался чрезвычайно. «Вот, вот, туда и надо идти!» – сказал себе он и ускорил шаги. Все чаще попадались разрушенные дома. «Странно еще, что их так мало! Если бы немцы бабахнули по-настоящему, то ничего бы от города не осталось». Слева показалась высокая колонна с шаром на верхушке. «Памятник? Некому было ставить и не за что. не велика беда, если и снесут. А потом вы снесите их памятники, и тоже будет отлично», – кому-то посоветовал он. Константин Александрович еще больше обьрадовался, увидев слабо освещенную кофейню с полуотворенной дверью. Он вошел, что-то пробормотал и тыкнул пальцем в первую попавшуюся бутылку. Свет шел от жаровни, на которой жарилась рыба. Старик-кабатчик налил посетителю рюмку, не обратив ни малейшего внимания на его шинель. «Может, он так же не обратил бы внимания, если б к нему зашел Гитлер в германском мундире, – подумал Тамарин, – это и есть мудрец!» Он проглотил одну рюмку, потребовал другую, расплатился. Снова загремели выстрелы, послышалось трещанье пулеметов. «Университетский городок? – спросил с радостью Константин Александрович, вспомнив приблизительно, как по-испански называл это место телохранитель. Старик равнодушно кивнул головой и передвинул блюдо на жаровне. Тамарин только теперь почувствовал сильный неприятный запах рыбы и с отвращением больного человека выбежал из кабака.
И точно жизнь хотела удивить его в последний раз, – луна вышла из-под туч, осветив красноватым светом гибнущий город. Константин Александрович ахнул. «Феерично, феерично! – бормотал он. – Кажется, так хорошо говорить: «феерично»? Если угодно, можно разобрать вывески. Не при луне, так при фонаре… Здесь и фонарей как будто больше. «Pelluqueria» – парикмахерская! – обрадовался он. – «Confiteria», «Camiseria»[207]207
«Сорочки» (исп.).
[Закрыть] – все понимаю! «Carpinteria»[208]208
«Столярная мастерская» (исп.).
[Закрыть]. Что такое «Carpinteria»? «Asegurado da incendios» – «застраховано от пожара». На каждом доме «застраховано от пожара…» Вот тебе и «asegurado». Россия тоже была «asegurada de incendious». И мы все».
На углу часовой сделал было нерешительно движение в направлении к нему, но, разглядев форму, отдал честь и не остановил его. Тамарин вышел на большую площадь. Везде были залитые лунным светом развалины. Справа горело большое здание. Константин Александрович засмеялся. «Вот ведь и там, у Веласкеса, свет от огня кузницы. Кунштюк![209]209
Проделка, фокус – нем. Kunststück.
[Закрыть] Здесь жизнь устроила кунштюк!.. Cine «Las Flores»[210]210
Кино «Цветы» (исп.).
[Закрыть]. Да оно застраховано! Оно застраховано!»
Впереди вниз шла узкая дорога, от которой кривые тропинки поднимались по другую сторону в гору. Только теперь Тамарин заметил, что на невысокой горе стоят большие несимметричные здания. Он догадался, что это и есть Университетский городок, и, быстро перейдя дорогу, стал подниматься по тропинке. Над его головой разорвался снаряд. «Кажется, я попал к штурму?» – подумал он. К зданию бежали люди с винтовками наперевес. «Эх, дурачье! Как идут! Ведь их сметут пулеметным огнем!..»
Впереди нападавших человек в куртке, с необыкновенно четкими, как в кинематографе, движениями, по-видимому, в отличие от других, знал толк в такой войне. Пробежав шагов двадцать, он оглянулся, что-то закричал и припал к земле. Не все сделали то же самое. В ту же секунду затрещали пулеметы. Выждав с минуту, человек в куртке, изогнувшись, бросился зигзагом вперед, откинув далеко назад правую руку с гранатой. Некоторые из бежавших за ним людей повалились. Тамарин ахнул и побежал за ними, на бегу выхватывая саблю. «Ребята!.. Todos para uno!.. Lenin dos dos!» – закричал он не своим голосом. Раздался сильный взрыв. Тамарин метнулся в сторону, выронил саблю, поднял обе руки и упал. Раскаты взрыва, затихая, слились с пулеметным огнем.
XX
В день исчезновения Вислиценуса Кангаров вернулся в санаторий в девятом часу, нарочно опоздал, чтобы ни в коем случае не встретиться с гостем. Настроение у него было очень дурное. Он думал, что надо выдержать характер и не разговаривать с Надей по крайней мере два дня. Не то чтобы совсем ничего не говорить: отрывисто сказать: «Доброе утро», или «Денег не нужно?», или «К обеду уже звонили?» – и это, конечно, всегда можно и ни к чему не обязывает, но разговаривать не следует. «Пусть знает, что я действительно сердит и что она поступила безобразно, пригласив этого хама! Разумеется, я ее не ревную, было бы в высшей степени глупо ревновать ее вообще, а к этому старику в особенности. Я отлично знаю, что она его не любит, пригласила по глупости да еще потому, что хотела показать свою независимость: я-де свободна, я-де могу принимать кого хочу!» (Как многие люди еврейского происхождения, Кангаров особенно любил частицы «де», «мол» и другие слова подобного рода.) «Теперь я и в самом деле еще ничего не могу ни приказывать ей, ни запрещать, – думал он с нежным замиранием сердца, – но она могла бы понять, что status quo продлится недолго: наши отношения понемногу выясняются».
По дороге он смягчился и, когда автомобиль подъезжал к санаторию, уже был готов сократить Наде срок наказания до одного дня: «ведь больше всего наказываю самого себя». Однако настроение у него хорошим не стало. «Из визита проклятого Вислиценуса может выйти большая неприятность: за мной уже, конечно, следят!» Он сам сначала этому не поверил, затем, поверив, ужаснулся, затем снова не поверил: «Вздор! Что я сделал? Кого может интересовать Надя?.. Но вообще все плохо, очень плохо, очень плохо!..»
Мысли Кангарова перешли на здоровье. Он значительно увеличился в весе, много ел, объясняя Наде, что у него ложный аппетит. Врач санатория говорил, что лучше бы не слишком полнеть, однако беды большой нет: главное нервы, нервы. «Посмотрел бы я на него самого, какие у него были бы нервы, если бы он оказался в моей шкуре», – с горькой улыбкой подумал Кангаров, разумея не то политические огорчения, не то Елену Васильевну, которая, наверное, откажет в разводе, не то состояние своего здоровья. В последнее время он очень опасался рака и все к себе присматривался: не появилось ли где какое-либо подобие опухоли? «Почему же вы думаете, что у вас рак?» – спрашивала Надя. «Ты, детка, вероятно, и вообще не слышала, что сорок восемь лет – это раковый возраст? Возраст, особенно предрасположенный для рака». – «Действительно, не слышала, но ведь не вам одному сорок восемь лет» («ох, больше»). – «Глупышка, с тобой нельзя серьезно разговаривать. Я тебе куплю куклу». «Да, разумеется, ревновать было бы недостойно и ее, и меня: она чистый ребенок, – подумал Кангаров, входя в подъезд, – пожалуй, можно заговорить и сегодня».
«Что, давно, конечно, все пообедали?» – спросил он швейцара. «Пообедали, господин посол, но повар ждет господина посла». – «Напрасно: оставили бы мне просто что-нибудь холодное», – отрывисто сказал Кангаров. Он в душе надеялся на ответ: «Все другие пообедали, но мадемуазель Надин ждет господина посла». Кассирша спрятала бумаги в ящик, ласково улыбнулась и спросила: «Господин посол не промок? Скверная погода, хотя, я уверена, еще будут превосходные дни, как всегда у нас в этом месяце». – «Нет, я не промок» («какие, однако, бумаги она так быстро спрятала, когда меня увидела?»). «Писем не было?» – «Только газеты, господин посол». Кангаров вздохнул с некоторым облегчением; в последнее время очень не любил получать письма: почти всегда неприятности. «Мадемуазель Надин у себя?» – «Кажется, в гостиной слушает музыку. Прикажете позвать, господин посол?» – «Нет, не надо, я сначала пообедаю, но, пожалуйста, пусть мне подадут только одно какое-нибудь блюдо и пусть повар уходит». – «Помилуйте, господин посол, он ждет господина посла. Господин посол так редко опаздывает».
Общая почтительность в санатории всегда смягчала Кангарова. Вначале он, как обычно советские люди в чужом обществе, тревожно ждал неприятностей. Не только неприятностей не было – советский посол оказался в санатории самым почетным гостем. Кангаров прошел в столовую, с жадностью съел все, выпил полбутылки вина и еще подобрел. «В самом деле, что ж ей было меня ждать? Проголодалась, должно быть, бедняжка». После обеда он спустился в гостиную. Надя слушала радиоаппарат, так что можно было не разговаривать. Посол с легкой улыбкой кивнул ей головой. Улыбка предназначалась исключительно для публики – в гостиной сидело еще несколько человек, – Надя должна была понять, что улыбка очень холодная и что он сердит. Надежда Ивановна хотела было ему сказать, что Вислиценус не приехал и не счел нужным извиниться, этакое свинство! Но она тоже выдержала характер: ты молчишь, ну и я молчу, кто кого перемолчит?
Перемолчала она. На следующее утро Кангаров сначала небрежно уронил «как живем?», затем добавил: «После кофейку поработаем». Кофеек тоже не подействовал на Надю: она приняла тон служащей, знающей свои обязанности и исполняющей приказания начальства. Кангаров продиктовал ей письмо, едва ли не для того и предназначавшееся, чтобы восстановить отношения. От делового разговора они кое-как перешли к неделовому. Но о Вислиценусе не было сказано ни слова.
Вечером кассирша подала послу недельный счет; просматривая дополнительные расходы, он с удивлением заметил, что чай помечен не был. «Вы ничего не забыли? Кажется, вчера у мадемуазель были к чаю гости?» – небрежно спросил он. «Нет, господин посол. Вчера к нам вообще никто не приезжал, из-за дурной погоды», – ответила кассирша, насторожившись не без любопытства: отношения между господином послом и мадемуазель Надин очень ее интересовали. «Значит, этот гусь не приехал? Может, она позвонила ему, чтобы он не приезжал? Увидела, что я сержусь, и позвонила?..» Сердце Кангарова наполнилось радостью. Он ни о чем не спрашивал Надю, но стал нежен, как прежде.
Дня через три после этого Кангаров утром, позавтракав, устроился на диване в своей комнате и развернул газету. Он читал в газетах все, больше от скуки: дела у него, в сущности, было очень мало, хоть порою он жаловался на переутомление. На четвертой странице ему вдруг попалась небольшая заметка: «Исчезновение русского». Хозяин гостиницы (указывался адрес) сообщил полиции, что из своего номера исчез (указывалось число), никого не предупредив и оставив в комнате вещи, русский, довольно долго там живший. Фамилия была переврана, но Кангаров знал, что в этой гостинице живет Вислиценус. Почему-то заметка чрезвычайно взволновала посла. У него началось даже сердцебиение, не вымышленное, а настоящее. «Да, число то самое, когда он должен был быть у Нади!» (Кангаров проверил это только теперь, а почувствовал, что число то самое, сразу в первую же секунду.) «Но какая связь? Число тут абсолютно никакой роли не играет… Да и вообще, что такое? В чем дело? Ну, исчез, дальше что? Он мог просто уехать, не оставив адреса. Разумеется, мог, это даже на него похоже… При его делишках всегда мог понадобиться срочный отъезд на несколько дней. Почему не предупредил хозяина? Да мало ли почему? Может быть, просто не успел. Или не подумал, что хозяин тотчас сообщит полиции. Мало ли что могло быть!.. Или уехал, не желая платить по счету. Всех вещей у него, верно, была пара штанов…»
Доводы эти Кангарова не убедили. Он спустился вниз, достал еще две газеты и снова поднялся к себе, – почему-то затворил дверь на ключ. Одна из газет сообщала дословно то же самое, только фамилия была переврана по-иному. В другой о происшествии ничего не сообщалось. Почему-то это немного его успокоило. Он походил по комнате! «Вероятно, пустяки! Просто куда-нибудь уехал. Да и что же может быть другое? И сенсации никакой нет. Разве так сообщают о…»
Прихода в санаторий полуденных газет он не дождался. Хотел было послать за ними мальчика на вокзал, куда они приходили немного раньше, но почему-то раздумал и пошел сам. Развернул газету, оглянувшись, еще на дороге. О происшествии не было ни слова. «Разумеется, вздор». Кангаров вернулся, оглядывая подозрительным взглядом немногочисленных встречных прохожих. Внимательно вгляделся в кассиршу, – как будто она улыбается несколько странно? Поднявшись к себе, он спрятал было в ящик те газеты, в которых сообщалось о происшествии, передумал, изорвал на мелкие клочья и выбросил в уборную. Надежда Ивановна просматривала первую и третью страницы газет лишь под вечер, да и то не всегда и бегло (что повергало его в изумление: как можно до вечера прожить, ничего не зная!).
Кангаров всегда жаловался Наде, что по ночам «не смыкает глаз» – она недоверчиво сочувствовала, – на этот раз он и в самом деле спал очень плохо. Много думал о своем положении, о прошлом, вспомнил с ужасом свою статью «Опомнитесь, бесстыдники!». На следующее утро он без всякой причины отправился в Париж. Ни с кем разговаривать по этому делу («да какое же дело?») было невозможно, Кангаров надеялся, что, быть может, с ним заговорят, то есть кто-нибудь что-нибудь шепнет. Никто ничего не сказал. Это можно было тоже понимать по-разному. Однако он как будто немного успокоился: успокоительно было главным образом то, что никакого шума происшествие не вызвало. И газеты, и, по-видимому, полиция им совершенно не интересовались. «Да и чем же тут интересоваться?.. Все-таки надо обдумать положение». Собственно, и положения никакого не было, и обдумыванием нельзя было назвать неясный ход беспорядочно перебегавших мыслей Кангарова. Он вдруг решил, что пора покинуть Францию. Это зависело только от него: числился в отпуске по болезни и мог, конечно, сократить свой отпуск.
– Детка, – сказал вечером Кангаров Наде, – сообщаю тебе важную новость: мы завтра возвращаемся.
Надежда Ивановна удивленно на него взглянула.
– Завтра?
– Так точно. Завтра, непременно завтра. А что?
– Ничего. Но почему вдруг такая спешка? Ведь ваш отпуск кончается только через десять дней? И вы хотели еще раз побывать у профессора Фуко.
– Нет, я раздумал, да и никогда, собственно, не хотел. Он уже сказал все, что знает, и ничем мне не помог. К тому же оказались разные дела, пора и на работу… А разве тебе хотелось бы еще тут со мной посидеть? Ты ведь и то жаловалась на скуку в санатории.
– Я тут ни при чем: вы решаете. Но разве непременно надо завтра? Мне хотелось бы еще побывать в Париже.
– Это зачем? Если тебе нужны какие-нибудь тряпки, то купишь там, или отложи до следующего приезда.
– Да, кое-что надо бы и купить, и повидать кой-кого.
– Кого это?
– Да хотя бы Вислиценуса, которого вы так обижаете, – сказала Надя, чтобы позлить Кангарова.
– Вислиценуса? Он, говорят, уехал, – небрежно сказал посол, очень обрадованный тем, что ей о Вислиценусе ничего не известно.
– Куда уехал?
– В командировку, что ли? Не знаю.
– Может быть, он тоже ускакал в Испанию?
– Почему «тоже»?
Кангаров вдруг почувствовал, что его заливает радость. «Но как же мне это не пришло в голову? Конечно, он ускакал в Испанию, именно ускакал! Тогда все более или менее объясняется!»
– Потому что в Испанию, оказывается, уехал командарм Тамарин. Я неожиданно получила от него сегодня открытку из Мадрида. Уехал, ничего не сказав, не простился.
– Глупышка! О служебных командировках вообще трубить у нас не полагается, а о командировках в Испанию тем паче. Да, ты угадала, Вислиценус, я слышал, уехал в Мадрид Иванович, но, пожалуйста, никому об этом ни звука не говори. Да и тот глупый старик не имел никакого права посылать тебе из Испании открытки. Об этом, прошу тебя, тоже молчок. Ты еще и его подведешь!
Кангаров смутно чувствовал, что дело все-таки разъясняется далеко не удовлетворительно – даже в Испанию не было надобности уезжать так: можно было сказать хозяину об отъезде, не сообщая, разумеется, куда едешь; можно было увезти вещи и заплатить по счету. Но точно что-то в нем переломилось: он теперь твердо верил, что Вислиценус уехал в Испанию. Никаких следов тревоги у него не осталось, она внезапно сменилась приливом радости, бодрости, счастья. «Вот Наденька тут! Какое значение имеет все остальное!»
– Детка! – сказал он сияя. – Милое дитя мое! Решено и подписано, мы едем завтра, значит, вещи надо уложить еще сегодня. Давай сейчас же этим займемся, я все сделаю. Что же касается финтифлюшек, то, если тебе нужны такие, какие можно достать в Париже сразу, не выходя из магазина, изволь: по дороге на вокзал мы остановимся где нужно и все купим. Я зайду с тобой, ужасно люблю, как ты покупаешь тряпки! Если ты протранжирилась, то аванс к твоим услугам. Ты только составь заранее списочек финтифлюшек, которых просит твоя душа.
– Никаких финтифлюшек моя душа не просит, – ответила сердито Надежда Ивановна.
Ей, собственно, было все равно: санаторий очень надоел, Кангаров надоел хуже горькой редьки, но и там будет не лучше. В общем, все теперь зависело от ответа редакции: примут ли новеллу или нет? Новелла была отправлена Женьке с препроводительным письмом, в котором, несмотря на небрежную форму, было обдумано каждое слово (черновик переделывался два раза). Надежда Ивановна совершенно не верила, что рассказ будет принят: «Поверь, Женька, я не заблуждаюсь, отлично знаю, что это пустячок, ерунда, и посылаю так, от фанаберии, как ты говорил тогда в Сокольниках. Не сомневаюсь, что они не возьмут, и будут правы. Мне совершенно все равно, я нисколько огорчена не буду: написала от нечего делать…» Дальше следовала подробная инструкция, как действовать и что сказать редакторам (Надя знала, что она много умнее Женьки). Рукопись и письмо она послала заказным письмом. На почте сказали, что дешевле послать как «imprimé»[211]211
Печатный текст (фр.).
[Закрыть]. Надежда Ивановна поколебалась, денег у нее было мало (просто непонятно, куда уходят). Все же послала в запечатанном конверте: вернее и как-то солиднее.
Теперь она ждала ответа. В самом положении этом, Надя чувствовала, было нечто нестерпимо банальное. «Кажется, везде описывается: начинающий автор ждет ответа редакции относительно первого своего произведения. Но это для других. Для меня от этого зависит теперь судьба». Ответа еще быть не могло, даже по телеграфу. Надежда Ивановна не просила о телеграмме, это было невозможно ввиду полного равнодушия к судьбе рассказа. Но она понимала, что если примут, то от Женьки ответ придет по телеграфу: «Он все сделает: был влюблен и говорил разные слова» (упоминание о Сокольниках было сделано не случайно: Надя и это обдумала, хоть ей было немного совестно). В письме она просила никому не говорить ни слова; однако надежды на исполнение своей просьбы не имела: понимала, что этого и требовать от человека нельзя, «я сама тоже всем разболтала бы». «Ну, и пусть! Откажут, так что же? Нинка будет издеваться, – Надежда Ивановна представила себе все самое обидное, что может сказать Нинка по случаю ее провала, – но, во-первых, она все равно издевается не над этим, так над другим, такой собачий характер, ее все знают. Во-вторых, ничего позорного нет, что не приняли первого рассказа (Надя в душе знала, что будет все равно и второй), это случалось с самыми знаменитыми писателями. В-третьих, новелла могла не подойти по направлению или по жанру. В-четвертых, ну плохой первый рассказ, что за беда? В-пятых, сама Нинка не то что новеллы, а письма грамотно написать не умеет. В-шестых…» В-шестых, выходило все-таки неприятно, что будут смеяться и злорадствовать. «Что ж делать, любишь кататься, люби и саночки возить». Но саночки она чувствовала, а какое катание, было не вполне ясно. Надежда Ивановна предполагала, если примут новеллу, бросить службу, вернуться в Москву и стать настоящей писательницей – «профессиональной», – выражение это она читала в газетах, оно было ей и приятно, и немного странно: почему-то вызывало в памяти «профессиональную проституцию».
Надя села за стол и написала: «Женька, еще пара слов в дополнение к прежнему. Мы возвращаемся раньше времени: завтра. Наш старый адрес ты знаешь, повторю на всякий случай, зная твою дурью голову (следовал адрес). Ты, верно, уже скоро будешь иметь ответ относительно моей штукенции. Хотя, повторяю, я о сем беспокоюсь очень мало, все же… (следовало повторение инструкции). Если бы не ты, то не приняли бы, наверное. Но, зная твои связи и влияние, я немного рассчитываю. Чем черт не шутит!» Насчет связей и влияния было придумано тонко. «Пара слов» превратилась в четыре страницы, затем Надя еще довольно долго ходила по своей комнате и вещи стала укладывать не скоро.
Надежда Ивановна догадывалась, что на обратном пути Кангаров будет опять говорить о любви. Это было тяжело, скучно и даже не смешно; она чувствовала, что обманывает его и нехорошо обманывает: «Надо было сразу его оборвать». Но обрывать Надя не умела, во всей этой истории с Кангаровым запуталась и не знала, как из нее выйти. Вдобавок Кангаров в последнее время немного пугал ее: она замечала за ним странности. «Кажется, выживает из ума. И пьет больше, чем нужно бы. Жаль его: он все-таки недурной человек».
Так и на этот раз. На вокзале Кангаров вел себя несколько странно: на лестнице, на перроне все нервно оглядывался по сторонам, всматривался в проходивших людей, быстро пробежал по коридору вагона, заглядывая в другие отделения. «Да что это, он в самом деле боится слежки?» – с недоумением спрашивала себя Надежда Ивановна. По-видимому, ничего подозрительного Кангаров не нашел. Когда поезд тронулся, он сразу очень повеселел, принял хорошо ей известный ухарский разбойничий вид, достал плоскую бутылочку коньяку, дорожный стаканчик и предложил ей выпить. Надя знала, что он скажет: «Теперь узнаю все твои мысли», выпьет два стаканчика и добавит: «Великая вещь – Коньячок Иванович!» Кангаров именно так и сделал. «Жаль, закусить нечем. Для тебя, впрочем, детка, найдутся конфетки…» Достал конфеты, отличную большую коробку, вынул длинный, с завитками шоколадный цилиндрик, разломал пополам, сунул половину ей в рот, другую съел сам. Все это было довольно обычно, хоть, как всегда, несколько ей противно, но затем он вдруг с неожиданной силой приподнял ее и посадил к себе на колени. «Что за безобразие! Оставьте меня! Слышите, сейчас же пустите! – сказала она и сразу почувствовала, что сказала это хотя сердито, но тоном ниже, чем следовало бы, – пустите, слышите!» – «Какая злая!..» Он отпустил ее не сразу, пробуя, можно ли не отпускать. Надежда Ивановна вырвалась и села в угол. «Это становится просто невозможным!» – «Дурочка…» – «Вы сам дурак!» – сказала она и вдруг почувствовала, что это слово, неожиданно у нее вырвавшееся, многое меняет: «открылась новая глава». Кангаров постоянно отечески называл ее дурочкой, но ей никак не приходилось называть дураком полномочного представителя великой державы, «хоть это святая истина». Полномочный представитель тоже несколько опешил, засмеялся не совсем естественно, но потрепал ее по колену. «Обиделась! Экая ты… Послушай лучше, что я тебе скажу». – «Ничего умного вы сказать не можете, лучше молчите». Надежда Ивановна шла напролом: все равно после «дурака» оставаться на службе невозможно. «Дерзкая девчонка, как ты смеешь так говорить со своим начальником? – шепотом проговорил Кангаров, – с начальником, который тебе предлагает…» – «Что предлагает? Что вы мне предлагаете?» – «Предлагает тебе руку и сердце, говоря высоким штилем». – «Да быть не может», – сказала Надя иронически. «Значит, так, если я тебе говорю!» – «Но вы, собственно, как будто женаты». – «Ты отлично знаешь, что я развожусь… Развожусь не из-за тебя, а во всяком случае? Что же ты скажешь?» – «Я так поражена честью, что ничего сказать не могу». – «Ах, брось этот тон! Послушай, Надя, ты умная девочка, ты отлично знаешь, что я в тебя влюблен. Хочешь ты быть моей женой? – он чуть было, по какому-то литературному воспоминанию молодости, не добавил: «перед Богом и перед людьми», – скажи: да или нет?» – «Нет». – «Ты говоришь «нет», а я чувствую, что ты говоришь «да»!» – «Чувствуйте, я не могу запретить вам чувствовать». – «Ты меня не любишь?» – «Я вас очень люблю, но…» Она хотела сказать, как говорилось у них в школе: «но издали». «Ты хочешь сказать: как друга? Да, я буду тебе и другом. Я знаю, что я вдвое старше тебя» («а не втрое?» – мысленно поправила она), но я не чувствую себя старым! («это очень утешительно»), я влюбился в тебя, как мальчик, я все для тебя сделаю, Надя!» Она хотела было выдержать иронический тон, но понимала, что это становится невозможным. «Я очень тронута». – «С другой стороны, подумай, – сказал он убедительным шепотком, – ты умница, красавица, все это так. Однако до сих пор тебе никто предложений не делал…» Надя густо покраснела. «Я хочу сказать, что едва ли ты с другим будешь иметь столь блестящее положение, как со мной», – поспешил поправиться он, почувствовав ошибку. «Если вы…» – «Нет, нет, ты пойми, ты пойми мою мысль. Я об одном тебя прошу: не говори «нет», не лишай меня надежды, скажи: позвольте мне подумать. Насчет развода не беспокойся. Я его добьюсь». – «Добивайтесь чего вам угодно!» – «Надя!» – «А о моей горькой участи, пожалуйста, не тревожьтесь!» – «Нет, я напрасно сказал, что ты умна. Ты дурочка: разве можно придираться к слову? Надя, милая, подумай. Скажи: позвольте мне подумать». – «Позвольте мне подумать», – повторила она насмешливо, в точности воспроизводя его интонацию. «Но скажи мне «да» как можно скорее». – «Слу-шаю-с». – «Ах, какая ты! Надо же мне знать!» – «Это для развода? Но ведь вы, кажется, разводитесь во всяком случае». – «Во всяком случае! – подтвердил он радостно. – Ну, вот и отлично, вот мы наконец поговорили. Больше я ни-ни, ни гу-гу. Хочешь читать газету, читай…» Надежда Ивановна пожала плечами. «Милая, только не мучь меня долго! Я знаю, что ты врешь, будто ты до сих пор не догадывалась». – «Отстаньте. Вы только что сами сказали: я ни-ни, ни гу-гу». – «Ни гу-гу! Ни гу-гу! – с восторгом повторил он. – Вот только поцелую… Нет, ручку, ручку!.. И ни гу-гу…»