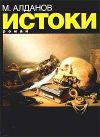Читать книгу "Начало конца"
Советник, секретарь и Вислиценус заняли свои места во второй карете. Базаров хохотал: «Ну и дурачье же!.. Однако, братишки, и мы с вами хороши болваны!..» – «Говорите за себя, товарищ», – ответил секретарь обиженно. Вислиценус смотрел на выстроившийся во дворе отряд гвардейцев и во всех подробностях представлял себе, как сюда во дворец ворвется вооруженная толпа. «А может быть, и не дождемся», – подумал он вслух. «Как вы сказали, товарищ?» – переспросил секретарь. «Я сказал: «медленно прицелился он в неподвижно стоявшего Корнелиуса», – проговорил Вислиценус. Секретарь вытаращил глаза. Кареты выехали на площадь. «Да здравствуют Советы!» – закричал вдруг кто-то на тротуаре; еще несколько голосов жидко повторило крик. С восторженным ужасом – «демонстрация!» – секретарь откинулся на спинку сиденья: дипломаты в демонстрациях участия не принимают. За каретами слышался приятный, мягкий, все ускорявшийся топот коней конвоя.
VIII
Командарм Тамарин приехал в Париж под вечер. Он никогда во Франции не жил и знал ее гораздо хуже, чем Германию, в которой служил и бывал в продолжительных командировках. В последний раз посетил Париж лет двадцать пять тому назад, а до того был еще раза три; в 1900 году они с женой совершили свадебное путешествие на выставку. По случайности он всегда попадал во Францию весной, в ясную солнечную погоду, и отчасти поэтому в нем еще закрепилось то впечатление веселья, радости, беззаботной жизни и сплошного развлечения, которое по вековой традиции связывалось с Парижем у всех иностранцев, особенно у русских. Теперь был холодный зимний вечер.
Он купил на вокзале недорогой путеводитель и, стоя в очереди у барьера в таможенном сарае, просмотрел список гостиниц. С женой они жили в «Отель де Бад», на бульваре, гостинице повыше среднего разряда, но и не очень роскошной: богаты никогда не были. В последний раз, приехав уже в генеральском чине и зная, что центр города передвинулся в Елисейские Поля, остановился в «Элизе-Палас». В путеводителе ни «Отель де Бад», ни «Элизе-Палас» не было, и это было ему неприятно, точно и с гостиницами ушел кусок жизни: уж в Париже-то ничто не должно было бы меняться, застой так застой. Ждали в таможне в прежние времена как будто не так долго, и чиновники были любезнее, и носильщики почтительней. Он дал носильщику три франка: что ж, прежних тридцать копеек, довольно, – тот едва поблагодарил.
«Chauffeur, êtes-vous libre?»[50]50
«Такси свободно?» (фр.)
[Закрыть] – спросил Тамарин; говорил по-французски, как русские образованные дворяне его круга и поколения: не очень хорошо, но гладко и бойко – иногда даже позволял себе прежде разные «Oh, la-là!», и «Tu parles!», и «Et ta sœur!..»[51]51
«О-ля-ля», «Неужели!», «И твоя сестра!..» (фр.).
[Закрыть]. Нерешительно осведомился об «Отель де Бад» и «Элизе-Палас». Шофер захохотал и тоже сказал – но иначе – «Oh, la-là!»: давно и в помине нет ни «Элизе-Палас», ни «Отель де Бад». Тамарин подумал, что ему все равно в таких гостиницах и неудобно было бы останавливаться – государство пролетарское, да и не по карману: суточные ему полагались небольшие, а он еще хотел заказать костюм. Велел ехать в Латинский квартал: от этой части города осталось у него приятное воспоминание. Остановился в гостинице, которая показалась ему не то чтобы студенческой, но и не роскошной. Слуги внесли его чемодан в комнату, приготовили ему ванну, говорили «Oui, monsieur», «Monsieur désire?»[52]52
«Да, месье», «Месье что-нибудь хочет?» (фр.).
[Закрыть] – к этому «месье» он все не мог привыкнуть – будто не к нему обращались. В ванной дали три полотенца и простыню. Он испытывал странное чувство, точно никогда не жил в гостиницах. Надел свой второй штатский костюм, лучший, неперелицованный, прослуживший всего три года, – заказал тогда, когда получил неожиданно гонорар за второе издание своего труда «Некоторые мысли о роли моторизованных частей в свете современной тактики».
Затем надо было являться. Тамарин пробовал разобрать по плану, как пройти пешком или проехать в автобусе, но не разобрал и решил, что в первые два-три дня придется тратиться на автомобили. Вышел на улицу все с тем же странным чувством: в Париже!.. Из бесчисленных кофеен – что ни дом, то кофейня – доносились гул, смех, музыка. «Да, здесь ГПУ нет. Не убивай, не грабь, не воруй – и тогда живи как хочешь. Вот это и есть буржуазная мораль» (он невольно теперь употреблял такие слова). В воздухе стоял тот же запах автомобильных испарений, навсегда связавшийся в его памяти с Парижем. Движение стало еще более чудовищным: просто улицы не перейти. Заметил новое: гвозди в мостовой, не сразу догадался об их назначении: хорошо придумано. Исчезли лошади. Цилиндров совершенно не было видно: жаль, куда же они делись? Что еще?..
Он взглянул на часы и подошел к первому шоферу на стоянке. «Chauffeur, êtes-vous libre?» – спросил он и вдруг мгновенно, сам почти не зная, понял, что это русский офицер, из тех!.. Чуть было не отшатнулся к следующему автомобилю – «нет, неловко…», Тамарин указал неверный номер дома: не 79, а 59, и сел с мучительно-тревожным чувством, точно сейчас что-то выплывет наружу. Не было никаких оснований думать, что этот незнакомый ему человек может узнать его; да если б и узнал, то никакой беды не произошло бы. Однако чувство тревоги не покидало его всю дорогу. Выйдя из автомобиля, он поспешно расплатился и дал на чай два франка; шофер, приподняв фуражку, с чисто русским акцентом сказал: «Мерси боку, месье…» Тамарин остановился у дома и при свете фонаря, точно боялся ошибиться, долго всматривался в номер, пока автомобиль не отъехал. Затем, нервно подергиваясь, пошел дальше, к 79-му номеру. «По возрасту, верно, капитан или, быть может, подполковник… Два франка на чай: двугривенный – «мерси боку, месье»… Что ж, это честный труд… Но правы были мы, а не они…»
Приняли его очень любезно, поговорили немного о служебных делах, видно, особой спешки не было, немного о московских новостях, осторожно и уклончиво с обеих сторон. Записали его адрес, против гостиницы никаких возражений не последовало. Дали советы, где и как лучше устроиться на продолжительное время, но ничего ему не навязывали – он опасался, что навяжут, – и попросили «захаживать». Все было очень корректно, даже проводили до лестницы. «Нет, все-таки они здесь стали европейцами», – думал он, с облегчением выходя снова на улицу.
В свой квартал он вернулся пешком: кое-как заметил дорогу и, к некоторому своему удовлетворению, легко разыскал гостиницу. Однако подниматься не было смысла: что сейчас делать в номере? Настроение у Тамарина стало очень хорошее. «Вот привел бог снова побывать в Париже…»
Он гулял, с любопытством всматриваясь в витрины, в надписи, в людей. «Да, хорошо живут…» Прошел по бульвару, узнал Пантеон и обрадовался, что узнал. «А то, значит, была Сорбонна, ну да, как же…» Справа чернел сад. Он не мог вспомнить, какой это сад, но и сад, довольно мрачный в зимний вечер, очень ему понравился. Свернул раза два, большая прелесть была и в старых узеньких улицах. Пронесшийся автобус осветил на мгновение своими огнями длинный, узкий, темный проход в стене старого дома. Там устроился старичок букинист. «Как хорошо! – подумал Тамарин. – И дому этому, верно, лет двести…» Хотел даже порыться в книгах: книжные магазины уже были закрыты. «Нет, успеется…» Багровым пламенем горело на стержне одинокое огромное пенсне – не жалеют света. У аптекарского магазина на стойке были выставлены тысячи разных баночек, коробочек, склянок, футляров – чего только у них нет! В витрине винной лавки стояло уж никак не менее сотни бутылок разной формы, глиняных сосудов, кувшинчиков – как хорошо, с каким вкусом подано! На ободранной стене, под фонарем, висело несколько огромных афиш. «Non, tout de même!..»[53]53
«Нет, ни в коем случае!..» (фр.)
[Закрыть] – значилось огромными буквами на одной. «En prison, les bandits!»[54]54
«В тюрьму, бандиты!» (фр.)
[Закрыть] – орала другая. Все честные люди, еще не окончательно потерявшие совесть, призывались на большой митинг, на котором в числе других ораторов должен был выступить с протестом против возмутительных действий чилийского правительства знаменитый писатель Луи Этьенн Вермандуа (его имя было выделено в особую строчку). Тамарин читал с некоторым испугом – ничего не знал о возмутительных действиях чилийского правительства – и, дочитав почти до конца, увидел, что подпись была коммунистической партии. «Тьфу! Стоило приезжать!..»
На широкой улице открылась сиявшая разноцветными огнями кофейня. Закрытая терраса с жаровней – этого, кажется, тоже не было прежде: как умно! – была переполнена людьми. На стойке у входа в плетеных корзинах лежали груды устриц, раковин, каких-то морских чудовищ. «Clams», «Claires extra», «Armoricaines», «Oursins»[55]55
«Морские моллюски», «Устрицы экстра», «Омары по-арморикански», «Морские ежи» (фр.).
[Закрыть], – читал Тамарин, и слова какие приятные! Он почувствовал аппетит, заглянул в вывешенную карту, и в глазах замелькало от разных «Sole au Chablis», «Rognon d’eau flambé a 1’Armagnac», «Pied de Pore Ste Ménehould», «Faisan cocotte aux truffés»[56]56
«Копыта в шабли», «Почка теленка, вымоченная в арманьяке», «Нога поросенка по св. Менеульд», «Фазан с трюфелями» (фр.).
[Закрыть]… Нерешительно посмотрел на цены: хорошо пообедать влетит франков в сорок, а то и в пятьдесят. Он мысленно подсчитал расходы за день: завтрак в вагоне-ресторане, носильщик, автомобили – много ушло денег. «Ну, да это первый день, дорога, можно и выйти из суточных».
Зашел в кофейню: дивно! Вероятно, если бы в прежние времена в Петербурге или Москве открылось подобное заведение, Тамарин пришел бы в ужас. Стены были трех оттенков желтого цвета, с неровными несимметричными зеркалами, с чем-то зеленым в нишах. Главная задача декоратора, очевидно, заключалась в том, чтобы никак нельзя было догадаться, откуда падает свет. Поэтому лампы тщательно скрывались, а там, где были видны, походили на тарелки для супа, на сосуды для проявления фотографий или на оранжерейные крышки. Впрочем, наряду с этим прячущимся стыдливым светом вызывающе играли красными, фиолетовыми, зелеными огнями другие лампы в форме длинных стеклянных труб: эти, очевидно, единственной целью могли иметь порчу зрения людям. Вместо потолка был купол святого Петра. Кофейня была переполнена так, что едва можно было протолкаться. «Кажется, наверху есть места», – подумал Тамарин и стал подниматься по лестнице, каждая ступенька которой твердила непонятное слово: пергола[57]57
Беседка, увитая зеленью (итал. pergola).
[Закрыть], пергола, пергола… «Ну ладно, слышал, что пергола», – примирительно подумал он и занял место у перил открывавшегося в первый этаж провала.
Лакей в белой куртке подбежал к столику: сбоку вспыхнули две параллельно насаженные на вертикальный стержень суповые тарелки и, мило выделяясь, зажглась на столике маленькая лампочка под абажуром, ни за что другое себя не выдававшая. «Ах, как хорошо!» – подумал Тамарин: в этой смиренной, не притворявшейся лампочке была особая прелесть. Подбежала дико разодетая женщина – не то албанка, не то мексиканка – и отобрала у него пальто и шляпу. Подбежал мальчик в зеленом мундире и предложил газеты. Подошел более солидный, чрезвычайно предупредительный человек в обыкновенном черном костюме, отодвинул стол и подал две карты. Место было не очень удобное: у стойки – «ничего, отлично»… Дама, обедавшая с молодым человеком за соседним столиком, бегло окинула взором Тамарина. «Хорошенькая…»
Он заглянул вниз, в провал. «Господи! Ни одного свободного места! А говорят, гибнут от кризиса. Нет, кажется, капитализм еще поживет… Прежде все-таки было элегантнее… Хорошеньких у нас, пожалуй, больше, но где уж! не та культура!..» Дамы все были в мехах. «У которой одна чернобурая лисица, у которой две. Это у них, как у комдива два ромба, а у комкора три… А вот эта целый командарм: пелерина из лисиц! четыре ромба!..» Ему было весело. Все вызывало у него восхищение: дамы, буржуазная культура, фрески, изображавшие голых женщин со змеями, – что ж, кто знает, может, и это очень хорошо? – омары, ярким нагло-красивым пятном выделявшиеся на низком белоснежном столике, и то, что на стойке рядом с ним одних сортов горчицы было не менее десяти, и то, что соседям подавали блюда, горевшие бледно-синим пламенем, и то, что у них на столе одна бутылка стояла в ведерке, а другая лежала в продолговатой корзине.
Обед он заказал не гастрономический, хоть когда-то знал толк в еде. От непривычки разбегались глаза. Вина спросил лишь полбутылки, с неизвестным ему названием: шавиньоль. Никогда не пил много. Вино было хорошее, а еда – коктейль из устриц, какой-то Navarin de Homard, почки – была прямо превосходна: двадцать лет так не обедал! Тамарин не голодал в последнее время и в Москве, «но разве там теперь знают эти блюда и эти слова? От одних названий появляется аппетит. Право, почти как у Донона или в «Праге» когда-то…». Заиграла музыка: попурри из «Кармен». Тамарин засмеялся от радости, услышав знакомые с детства мелодии. Он пожалел, что не спросил хереса: «Папа, Царство Небесное, всегда пил херес как столовое вино… Но в Париже надо пить французские вина…»
На арии тореадора настроение у него изменилось. Вокруг него люди, кто как умел, подпевали оркестру – точно все гордились, что знают эту арию, – и все с необычайной энергией, раскачиваясь, пели одно слово: «Тор-ре-адо-ор»… Почему-то Тамарин опять вспомнил о встрече с дипломатом на берлинском вокзале: это воспоминание неприятно беспокоило его всю дорогу. Вспомнил бал у чарующего любезностью Вильгельма, охоту в каком-то замке с трудным названием, подумал об артистке, с которой когда-то познакомил его этот дипломат: с ней весело прошло несколько месяцев. Это было тридцать пять лет тому назад, нет, больше: тридцать семь или тридцать восемь.
Потом мысли его перешли к жене: их брак был несчастлив, главным образом по его вине, – а тогда ему казалось, будто он кругом прав. «Так и не поняли друг друга до конца… Яковлев отлично это пел, лучше всех тореадоров, мы с ней были на его бенефисе». Он с совершенной ясностью вспомнил тот вечер, зал Мариинского театра, неприятный разговор на извозчике, потом нелепую, начавшуюся с игры Фигнера, тяжелую ссору. «Я ей сказал… Нет, незачем вспоминать…» Оркестр заиграл увертюру четвертого действия. Молодой человек за соседним столом потушил лампочку и снова зажег ее по требованию дамы, ударившей его по руке. «Такая лампочка у нас стояла на пианино, в диванной…» Вспомнил во всех подробностях эту небольшую комнату, оклеенную коричневыми, под кожу, обоями, лампу на кружевной салфеточке: «Больше всего на свете боялись поцарапать лак на пианино!.. В диванной и произошла та ссора. Хотел разойтись, развестись. Она грозила покончить с собой… Стоило ли ссориться? Где она теперь? Кроме меня, и не помнит никто, а когда и я умру, то не останется ничего, вот как от салфеточки, от тех коричневых обоев или от съеденного коктейля из устриц…»
Ему стало страшно. В этой кофейне, где собралось несколько сот весело настроенных людей, он внезапно почувствовал себя как в пустыне: никого, ничего, ни души! Командарм второго ранга на службе у мировой социалистической революции… Пергола, пергола, пергола… Как же это случилось? Как все это могло быть? Зачем был этот вздор? Не только этот, а весь вздор? Почему так странно сложилась жизнь, теперь уже, верно, подходящая к концу? Все «пергола»… «Та-ра, тара», – подпевала первой фразе увертюры много выпившая дама. Он хотел было встать и уйти, но подумал, что с этими мыслями никогда не заснет на новом месте: от них и в Москве, дома, где стены помогают, спасала только работа, упорная работа. «Что же делать? – думал он, с трудом справляясь с дыханием. – Зачем было все это? Да, поцарапали лак на пианино…» Музыка оборвалась, послышались рукоплескания, снизу поднялся гул голосов, как будто все себя вознаграждали за отнятое у болтовни время. «Я люблю только хорошую музыку, – говорил молодой человек, – а если кто играет плохо, то лучше бы не играл совсем… Я сам играю очень хорошо, правда?» – «Ну да, конечно… Вы стали нахалом, Жюль», – отвечала, заливаясь смехом, дама.
IX
Револьвер был очень хороший: пятизарядный, с темной сетчатой рукояткой, с предохранителем, с мушкой в виде полумесяца. «Браунинг» стоил бы слишком дорого, да и не со ста шагов стрелять. Названия у револьвера, к сожалению, не было, – звучные, приятно-двойные названия оружейных фирм радуют слух: «Форе-Лепаж», «Веблей энд Скотт», «Холлэнд энд Холлэнд». Об этом револьвере приказчик уклончиво сказал: «Типа «смит-и-вессон», бельгийской работы, отличного качества, вы будете очень довольны, месье». Альвера был в самом деле доволен. Бельгийский револьвер кармана не оттопыривал. По пути из Парижа в Лувесьен никто на карман никакого внимания не обращал. Лес под вечер был пуст. «В самом деле, воздух чудесный. Это они отлично придумали: жить под Парижем в деревне, в своих виллах… Если я стану богат, может быть, сделаю то же самое…» Он с любопытством смотрел на все вокруг себя: за всю жизнь был в лесу не более трех или четырех раз – в свое время на школьных экскурсиях. Деревьев он не знал и не различал. «Кажется, это дуб. А может быть, клен или орех? Следовало бы – когда-нибудь позднее – пополнить свое образование в этой области и вообще пройти систематический курс естествознания. Вот тогда и сделаю это, когда куплю тут виллу…» Он подумал, что было бы, как они говорят, «цинично» купить виллу в той самой деревне, где он собирался совершить убийство. «Собственно, «цинично» также и учиться в этой деревне стрельбе. Но если они это считают циничным, то тем больше оснований именно так и поступать».
Альвера оглянулся: никого. За четверть часа ходьбы по лесу он ни одной живой души не встретил. Все же свернул в чащу, прошел еще шагов сто – никого! – и стал выбирать дерево. Не было, впрочем, причины предпочесть одно дерево другому. Выбрал дуб потолще (окончательно остановился на том, что все это дубы) и тут только вспомнил, что нет мишени. «Во что же стрелять? Ах, какая досада!..» Он стал рыться в карманах, надо бы найти что-либо цветное, яркое, но, кроме бумажника и carte d’identité[58]58
Удостоверение личности (фр.).
[Закрыть], – не стрелять же в нее, – не оказалось ничего.
Во внутреннем кармане пальто была книга «Преступление и наказание». Книга эта тоже была взята нарочно; назло им. Вырывать листок не хотелось: он любил книги. Желтоватая обложка едва ли могла послужить хорошей мишенью, белое будет выделяться лучше. Книга раскрылась на странице с заложенным углом: «Raskolnikov se laissa tomber sur la chaise mais ne quitta pas des yeux le visage d’Ilya Petrovitch qui semblait fort désagréablement surpris. Tous deux pendant une minute s’entre-regardérent et attendirent. On apporta de 1’eau. – C’est moi… – commença Raskolnikov. – Buvez une gorgée. Raskolnikov repoussa d’une main le verre et doucement, avec des pauses et des reprises, mais distinctement il prononça: – C’est moi qui ai assassiné а coups de hache la vielle prêteuse sur gages, et se sæur Elisabeth et qui les ai volées…»[59]59
«Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды.
– Это я… – начал было Раскольников.
– Выпейте воды.
Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил:
– Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил…» (фр.) – Ф.М. Достоевский. Собр. соч. в 12 т., М., 1982, т. 5, с. 516–517.
[Закрыть]
На полях у этих строк было написано: «Un fameux cretin, celui-là!» Это место книги всегда его веселило. «Да, совершенный кретин!» – подумал он, разумея и русского автора, и кающегося студента. Подумал также, что надпись на полях может быть уликой, и вырвал страницу. Конец тома, с оглавлением, с объявлениями о других книгах, был не разрезан. Альвера рассеянно разодрал пальцем верх, с неудовольствием взглянул на образовавшиеся зазубрины и старательно выровнял, оторвав треугольнички. Подошел к дубу, попытался прикрепить листок к стволу приблизительно на уровне головы, нацепил было на отступавший край коры – ветерок тотчас сорвал бумажку. Выругавшись, Альвера достал узенький костяной пятифранковый ножик и с трудом, морщась – всегда боялся сломать ноготь, – поднял единственное лезвие. Затем приложил листок к стволу и сильным ударом всадил нож через бумагу в дерево. Листок повис, только края немного загибались от ветерка. В этом сильном ударе ножа было нечто приятное, решительное, гюстав-эмаровское. Он подумал, что в нем еще сидит мальчишка, и усмехнулся. На листке следовало сделать черный кружок. Альвера полез в боковой карман за самопишущим пером и с досадой заметил, что оно – тоже дешевенькое и дрянное – свалилось со стерженьком с борта в глубь кармана. Опять в крышке будут чернила, пальцы измажутся, скверно… Действительно, весь конец ручки над крошечным, поддельного золота пером был в чернилах. Старательно взяв ручку повыше, он постарался начертить кружок, бумага не приставала к коре, чернила на поднятом пере не выступали. Встряхнул – последняя капля чернил сорвалась, резервуар был пуст, – раздраженно снял листок, потер его срединой о конец пера, затем снова вонзил перочинный нож. Но на этот раз решительный удар не удался, лезвие захлопнулось, чуть царапнув руку. Он испуганно выронил ножик – нет, крови нет. Кое-как, уже без удара, Альвера прикрепил к дереву листок с размазавшимся в средине чернильным пятном. Затем старательно, как указывал приказчик, зарядил револьвер; патроны он вез отдельно: зачем рисковать в вагоне несчастным случаем?
Несколько раз передвинул вверх и вниз предохранитель. Не помнил твердо, в каком случае предохранитель действует: если кнопка наверху или если она внизу? «Кажется, если наверху. Но надо проверить…» Разрядил, попробовал и опять зарядил: теперь механизм револьвера был ясен. Альвера старательно отмерил пять шагов – в этом тоже было нечто приятное: не гюстав-эмаровское, а дуэльное.
Оглянулся в последний раз – по-прежнему никого, – отставил назад левую ногу, чуть согнув колено, – говорят, отдача бывает сильна, – вытянул руку с револьвером, прищурил глаз, прицелился – мушка, чернильное пятно, все так – и выстрелил. Звук выстрела оказался гораздо слабее, чем он ожидал, а отдачи почти никакой, даже не заметил. Опять оглянулся, сунул в карман револьвер и подошел к дереву. К его разочарованию, дыры не было не только на чернильном пятне, но и в листке.
Снова отмерил расстояние, сделал шаги поменьше – а все-таки пять шагов, – и с неприятным чувством заметил, что, не переводя предохранителя, опустил в карман заряженный револьвер: это свидетельствовало о недостатке хладнокровия. «Надо взять себя в руки, – сказал он вслух и подумал, что очень трудно понять сущность того волевого усилия, которое обычно так называется. – Ну, вот я взял себя в руки, я теперь не таков, каким был только что: я себе сказал, что ничто не страшно: в любую минуту я могу покончить с собой, полминуты мучения, и все кончено, значит, бояться нечего. Об этой жизни, что ли, жалеть или о них?» Он снова стал стрелять, теперь действительно спокойнее и лучше. Всего выпустил десять пуль (в коробочке было двадцать пять патронов), из них три попали в листок: две с краю, третья почти у чернильного пятна. Результат его удовлетворил. Главное – пока приучить себя к стрельбе и к обращению с оружием.
Выполнив то, что было назначено на сегодня, он с облегчением положил револьвер в карман пиджака, сунул книгу в карман пальто и наткнулся на скомканную бумажку. «Ах, какая досада!..» Этот испорченный им лист из переписанной рукописи заказчика он по ошибке сложил было дома с другими, а в поезде, заметив ошибку, сунул во внутренний карман пальто. «Досадно, что не вспомнил: мишень была бы гораздо лучше, не требовалось вырывать страницу из книги…»
Альвера вернулся на большую дорогу и пошел по направлению к вокзалу. «Да, все дело лишь в том, чтобы придать убийству совершенно привычную форму. Надо выработать привычку к стрельбе, но этого, разумеется, недостаточно… Хорошо было бы для опыта застрелить собаку. Ощущение должно быть, в сущности, почти такое же, и главное отличие относится на счет страха гильотины. Убить человека очень просто: при некоторой привычке убивать можно так, как мясник убивает вола, без дешевеньких рассуждений, без Наполеона, без чьих-то открытий. У средневековых головорезов была такая привычка, и они отлично обходились без всякой философии. У какого-нибудь дюссельдорфского вампира привычка, вероятно, под конец выработалась, но там был сексуальный мотив, а это гадко и непонятно: такие люди – личная неприятность богословам со стороны природы».
Лес кончился, появились, стали учащаться дома. Встретившаяся женщина посмотрела на Альвера, оглянулась и ускорила шаги. Он шел, с любопытством читая названия вилл, надписи, афиши. Два льва в кружочке стояли на задних лапах над перекрещенными ключами, с надписью: «La Vigie mobile. Propriété gardée»[60]60
«Подвижный надзор. Охраняемая собственность» (фр.).
[Закрыть], подумал, выгодное ли это дело и как это общество осуществляет надзор, еще не попались бы тогда его люди? Черная стрелка указывала дорогу в мэрию и церковь. В прямоугольнике, с вписанными в него желтым и черными треугольниками, – «как глупо и некрасиво!» – две девочки шли, взявшись за руки, – «довольно противные девчонки, никакой беды не будет, если их раздавят». Вдали как раз показался автомобиль. Альвера медленно шел ему навстречу и свернул только шагах в пяти; сидевший за рулем человек прокричал что-то нелюбезное. «Как странно, что мы обычно чувствуем себя в безопасности: одно неверное движение у этого кретина, мгновение невнимания, лишняя рюмка коньяку за его завтраком – и меня нет. Значит, каждый парижанин зависит от миллиона таких случайностей, в Париже шоферов тысячи. Значит, вероятность гибели для каждого не намного меньше, чем у меня… Значит…» Ему надоели эти вечные, нудные размышления. «Хочешь убить – убей, но не морочь голову», – сказал он сам себе. Затем его рассмешила надпись на заборе: «Défense de déposer et faire des Ordures sous peine demande»[61]61
«Запрещается сорить, сваливать мусор. За нарушение штраф» (фр.).
[Закрыть]. Особенно смешно было, что слово «Ordures» напечатано с прописной буквы. Он рассеянно посмотрел на часы: до поезда оставалось восемнадцать минут – его часы на четыре минуты отставали. Рано.
От перекрестка шла тропинка к той вилле. Он хотел было подойти к ней и раздумал: в смысле тренировки это ничего не даст, и есть некоторый риск – вдруг встретишь этого кретина. «Он удивленно взглянет и скажет: «Как? Вы еще не уехали?» Тогда надо будет сказать, что я забыл, на какой странице кончил переписку, и не знаю, какую ставить на продолжении. Это произведет на него благоприятное впечатление. Может быть, он даже растрогается и заплатит мне за пробелы. «За белые строки я, молодой человек, никогда из принципа не плачу: что не стоит труда, не должно и оплачиваться». За бумагу он, вероятно, тоже из принципа не платит и за мой проезд и потраченное время не заплатил, точно я обязан привозить ему работу в Лувесьен. «Вы могли послать ее мне по почте, молодой человек», – сказал он голосом заказчика, хоть заказчик этих слов не говорил: о потраченном времени речи не было. «Я не мог сказать ему, что приехал на разведку, так как собираюсь его убить, – почти весело подумал он. – В случае, если поймают, я скажу, что убил его за неоплаченные белые строчки: это будет доказательством «морального идиотизма», на суде очень хорошо быть моральным идиотом…» Потом он лениво подумал о Жаклин: очень милая девочка.
Вдали просвистел паровоз, Альвера ахнул: «Опоздал! теперь ждать полчаса! – взглянул на часы, нет, до его поезда было еще минут двенадцать. – Это, вероятно, встречный поезд…»
Остановился перед большой белой афишей с зеленой каймой с изображением зеленого юноши и зеленой девушки необыкновенно бодрого вида. Какое-то гимнастическое общество приглашало молодых людей записываться: «Pour une jeunesse saine, forte, joyeuse le sport c’est la joie et la santé…»[62]62
«Для здоровой, крепкой, веселой молодежи спорт – это радость и здоровье…» (фр.)
[Закрыть] Но если они веселы и здоровы, то зачем же им еще веселье и здоровье? Какие кретины! «…La fédération sportive et gymnique du travail vous accueillera dans un de ses clubs…»[63]63
«…Федерация спорта и оздоровительной гимнастики примет вас в один из своих клубов…» (фр.)
[Закрыть]. «Что такое «gymnique»? Я не знал, что есть такое слово… Собственно, они и меня приглашают, это я jeunesse saine, forte, joyeuse!..» Он опять засмеялся, прочел всю афишу до конца, прочел и об условиях приема, и о членских взносах. Кандидатам в возрасте до 18 лет предлагалась скидка. «Жаль, я не подхожу: мне двадцать первый…» Подумал, что там тоже по возрасту скидки не будет. Ему было вполне точно известно, кто по закону считается малолетним, кто несовершеннолетним. «В двадцать – отправят на гильотину очень просто…»
Он радостно представил себе, как остолбенеет Вермандуа, прочитав в газете об убийстве: «Его секретарь! Господи, его секретарь – и такое дело!..» «Особенно он будет в ужасе от того, что надо будет давать показания, сначала следователю, потом на суде: какая скука, какая потеря времени! А журналисты! Ведь они явятся за интервью, набросятся, как коршуны, им за это платят франк за строчку: одно хорошее, приличное убийство – и можно жить припеваючи две недели! Впрочем, интервью, даже по такому делу, это тоже реклама, а плохой рекламы нет… Потом ему придет в голову, что ведь я с такой же легкостью мог бы убить его самого, он затрясется, вспотеет и похолодеет от ужаса. И я в самом деле мог бы убить этого пошлого маньяка. Но тогда на меня сразу пали бы подозрения: я единственный бедный человек, бывающий в его доме: Вермандуа коммунист или что-то в этом роде, но бедных знакомых он терпеть не может. Притом убийцу великого писателя полиция разыскивала бы получше. Зато если убить его, то можно надеяться на место в истории литературы. Кажется, такого случая не было? Да и ему, собственно, только это и могло бы обеспечить славу: его нынешнее бессмертие будет продолжаться ровно год, до приема в Академию его преемника. И сейчас уже никто его не читает: он уже, слава богу, тридцать лет «cher maître». Но когда он немного успокоится, то проявит великодушие и даже подыщет мне защитника, среднего, не очень дорогого. Впрочем, по его приглашению пойдет бесплатно и самый дорогой, им тоже нужна реклама… Быть может, он даже раз навестит меня в тюрьме и принесет четверть фунта ветчины… Нет, в тюрьму он не пойдет, скучно. Но на суд явится непременно и произнесет слезливое слово – что-нибудь о современной молодежи, о потере идеалов. Каждая газета напечатает строк по двадцать, этим тоже пренебрегать нельзя: будет «1е grand écrivain», «le célèbre écrivain», «l’illustre écrivain»[64]64
«Крупный писатель», «известный писатель», «знаменитый писатель» (фр.).
[Закрыть]. Присяжные растроганно его выслушают, затем вынесут вердикт без смягчающих обстоятельств, прежде всего потому, что кража, я мог, значит, обокрасть и их, и еще потому, что я «sale étranger», «un de ces étrangers indésirables qui viennent chez nous et qui…»[65]65
«Грязный иностранец», «один из этих нежелательных иностранцев, которые приезжают к нам и которые…» (фр.).
[Закрыть].
До поезда оставалось семь минут: все-таки рано! Альвера остановился перед другой афишей, старой, полуистлевшей. Местный отдел коммунистической партии приглашал всех явиться на митинг: «Pour (дальше было стерто)…liberté! Pour …blique des Soviets en France!»[66]66
«3а (…) свободу! За …блику Советов во Франции!» (фр.)
[Закрыть] Альвера прочел афишу с отвращением: он терпеть не мог коммунистов.
Показался невысокий желто-серый вокзал. Через площадь поспешно проходили люди. «В толпе никто заметить не может… Хоть нечего замечать, да пока и ни к чему… Смотрите сколько вам угодно…» Билета никто не спросил: контроля у входа не было. «Хороши порядки!..» Стал соображать, может ли при таких условиях недобросовестный пассажир обмануть железнодорожное ведомство. «В Париже при выходе спросят билет, но ведь я мог бы выйти из поезда на последней станции перед Парижем и купить там, так обошлось бы значительно дешевле. Неужели они об этом не подумали? Этакие кретины!»