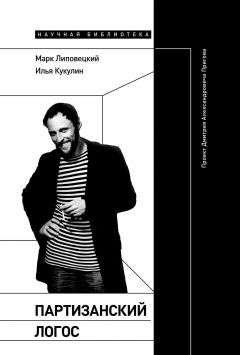
Автор книги: Марк Липовецкий
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
2. Советское «политическое бессознательное»
Так называемые «советские тексты» Д. А. Пригова ускользают от привычных классификаций. Их не назовешь сатирическими, хотя они, конечно, смеются над… над чем, собственно, они смеются? Над идеологией? Над советской мифологией? Над советским языком и сознанием? Идеология – как система идей – лишь по касательной присутствует у Пригова. Советская мифология предстает в гротескно преувеличенном виде. Советский язык и сознание моделируются самими текстами Пригова. Все эти ингредиенты присутствуют в «советских текстах», но ни один не доминирует, каждый подчинен другому. Возможно, наиболее точно предмет художественного анализа в советских текстах можно определить как советское «политическое бессознательное», притом что сами эти тексты и представляют собой игровую, но вполне действующую модель этого бессознательного.
По мысли Ф. Джеймисона, политическое бессознательное реализуется на различных «горизонтах» литературного или культурного текста. Для артикуляции политического бессознательного в равной степени значимо то, как (1) текст приобретает значение символического акта, как (2) сталкиваются в его дискурсивном поле различные идеологемы и (3) как складывается идеология формы [см.: Jameson 1981: 76]. Различие между этими манифестациями политического бессознательного лежит в различных контекстах, с которыми текст вступает во взаимодействие. Тексту как символическому акту соответствует «узкий политический горизонт – редуцирующий историю до серии пунктирных событий и кризисов на временной оси» [Jameson 1981: 76–77]. Текст как диалог идеологем резонирует с «горизонтом социального». А «идеология формы» связывает риторические механизмы текста с «гегемонными или контркультурными способами производства ценностей, как материальных, так и символических», предполагая в идеале «концепцию культурной революции» [там же, 96].
При этом каждый «горизонт» политического бессознательного непременно организуется смысловым противоречием. Оно может не быть отрефлексировано автором текста, но выявить его – задача исследователя. Так, идеология формы создается столкновением различных систем ценностей, воплощенных, как можно предположить, стилистически. В современной культуре – и в особенности у Пригова – стилистические элементы никогда не «прозрачны», они всегда представляют собой определенного рода фильтр, напоминающий об определенной культурной иерархии. В дискурсивном поле текста («идеологемы»), как правило, на первый план выходит конфликт между различными методами легитимации самого дискурса. А при анализе текста как символического акта, как полагает Джеймисон, наиболее эффективна модель мифологической логики, разработанная К. Леви-Строссом: здесь происходит «воображаемое разрешение реального противоречия… [порождающего] чисто формальные модели как символическое воплощение социального внутри эстетического» [там же, 77].
Основанный на этой методологии анализ текста – неважно, художественного, культурного или идеологического, – представляется наиболее адекватным творчеству Пригова 1970‐х – первой половины 1980‐х годов. Пригов в это время, безусловно, стоит на позиции контркультуры, но эта позиция выражена не через прямые декларации и инвективы, а через перформанс советского субъекта, или, иначе говоря, через конструирование образа сознания, лишенного критической дистанции по отношению к «вымирающей идеологии», субъекта, сформированного этой идеологией и творчески ищущего личные способы приостановить ее неуклонное разложение.
Как говорил об этом субъекте Пригов в передаче «Школа злословия» (3 сентября 2003 г.): «Это не просто гиперсоветский тип капитана Лебядкина, кругозор которого связан с повседневным обиходом. Отнюдь. Во-первых, он знает исторических личностей… Во-вторых, он любит классику. Он в принципе представляет тот классический тип, который бы хотела создать советская власть. Это идеальный тип, потому что он совмещает в себе и земную советскую власть, и небесную». Именно это сознание и является главным предметом приговского творчества в 1970‐е – первой половине 1980‐х годов.
Как упоминалось выше, эффект, подобный брехтовскому «отчуждению», Пригов создает с помощью широкого спектра приемов – прежде всего стилистических, ритмических и логических сбоев. Однако функция, объединяющая эти сбои (о которых речь пойдет ниже), не ограничивается только разрушением читательского «сопереживания» субъекту поэтического высказывания. Превращение приговского текста в «„социальный“ сценический жест в смысле Брехта, то есть жест историзирующий, обнажающий мифопоэтическую матрицу, ее идеологическую подоснову» [Скидан 2010: 141] возможно прежде всего благодаря тому, что через языковые и логические сбои Пригов выявляет те самые противоречия, которые лежат в основе анализа политического бессознательного, предложенного Ф. Джеймисоном. Разумеется, речь не идет о каких-либо влияниях. Правильнее было бы говорить о том, как теоретик и поэт, обращаясь к одному и тому же «предмету описания», выработали сходную логику его анализа – рациональную в первом случае и суггестивную во втором. И то, что их методы в чем-то совпали, – лучшее свидетельство нефиктивности «предмета описания» – а именно политического бессознательного.
Горизонт социального: «Исторические и героические песни» (1974)Перформативная репрезентация советского языка – репрезентация, нацеленная на то, чтобы обнажить и сделать смешными дискурсивные механизмы, «засевшие» в политическом бессознательном, – впервые была понята Приговым как его оригинальный эстетический метод в цикле «Исторические и героические песни», написанном в 1974 году. За ним последовали «Элегические» и «Культурные» песни, вместе образовавшие «мегацикл» «Песня песен».
Парадокс «Исторических и героических песен» состоит в том, что в них приговский «советский субъект» «искренне», без всякой насмешки старается пробиться через перформативность дискурса к его «сокровенному» смыслу – или, иначе говоря, пытается ресемантизировать советский дискурс, но в итоге только доводит перформативное отношение к идеологии до абсурдистского гротеска. Именно комический эффект, возникающий вследствие этих попыток, свидетельствует о невозможности реанимации «окаменевшего» советского мифа.
Комизм возникает от того, что приговский подставной автор неправильно читает советские мифологемы: в его (карикатурно упрощенном) сознании их смысл уже забыт, «исторические» связи стерты логикой мифа. Не случайно всему циклу предпослан анекдот о том, как некий ферганский художник сдает худсовету портрет Маркса, изображенного с голубыми глазами. «А почему? – спрашивает он [член совета] – глаза голубые?» – «Как почему? – естественно удивляется творец. – Ведь он же [Маркс] ариец!» [2: 480]. Однако это «неправильное чтение», комически сдвинутое воспроизводство идеологии как сложнопостроенного мифа невольно обнажает «суть жизни в народе образов событий, образов людей и образов идей» [там же] – которую как раз и не понимает член совета, задавший сакраментальный вопрос о цвете глаз Маркса.
Первое, самое очевидное, смещение связано с тем, как создается пантеон «Исторических и героических песен»: кто эти самые советские герои? Дело не только в том, что рядом стоят Сталин и Иван Сусанин, Берия и Пугачев с Екатериной, Хрущев и Дмитрий Донской, Ворошилов и Вещий Олег, Дзержинский и Клеопатра, Гагарин и Сократ, Кутузов и Павел Корчагин, Кант и Аллилуева и т. п. Куда более важно, что обо всех этих персонажах говорится на одном и том же языке. Этот язык одновременно архаичен и разговорно-современен, слащав и грубо косноязычен:
Он вышел и сказал устами
«Пусть розовый сосуд души
Дрожит, во имя счастья стану
Карать и праведно душить!»
(«Дзержинский», 2: 493)
Трубку ложит в отдаленье
Смотрит в чистое стекло –
А народ уже в движенье,
И на улице светло.
(«Сталин и девочка», 2: 481)
Жил, покуда медициной
Не сгубил его предатель.
(«Домик Максима Горького», 2: 483)
Когда наш Ушаков Федóр
По морю Черному носился…
(«Адмирал Ушаков», 2: 484)
Когда Сусанин наш Иван
Кружил поляков по сугробам,
Он знал, что к этому призван
Самой историей сугубой.
(«Иван Сусанин», 2: 492)
Она до белого румянца
Любила Самозванца.
(«Марина Мнишек», 2: 485)
Это, безусловно, стилистика массового советского стихотворчества, сложившаяся уже в 1920‐е годы. Перлы самодеятельной поэзии, известные по газетным публикациям и редакционному «самотеку», часто цитировались в литературных кругах как образцы комического косноязычия (см., например, эссе Л. Рубинштейна «В мавзолей твою»). Не случайно Пригова, как мы уже упоминали, часто обвиняли в том, что его эстетика воспроизводит советскую графоманию [см., например: Рассадин 1991].
Формалисты писали о том, что революционные обновления в искусстве происходят за счет выдвижения вперед «младшей», маргинальной линии культуры. Графомания в стихах Пригова и становится той маргинальной линией культуры – той антикультурой, – которую он использует для радикального обновления поэтического языка[88]88
Впервые эту мысль высказал Михаил Айзенберг в полемике с указанной статьей Рассадина – обращенной в первую очередь против Пригова: «Как отвечать человеку, который считает, что игровые опыты литературного соц-арта уступают в художественном отношении редакционному „самотеку“, то есть прямой графомании? Разрешите спросить: а давно ли Вы стали замечать эту художественность? Эту забавную угловатость идеологических вывертов или бесподобные причуды пришибленного массового сознания? До появления соц-арта или все-таки после? Любой поворот в искусстве попутно высвечивает что-то вокруг и в прошлом: вовлекает в круг искусства то, что им не считалось. И капитан Лебядкин не предшественник обэриутов. Он их последователь. Стихи, отданные Достоевским этому персонажу, писались и воспринимались как странная галиматья, и только после обэриутов они получили свое второе рождение» (Айзенберг М. Место тени (1993) [Айзенберг 1997]).
[Закрыть]. Конечно, Пригов не был одиночкой в своих попытках использовать советский волапюк как новый язык поэзии. Так, неоавангардистские эксперименты Александра Кондратова включали в себя и комедийные тексты, основанные на советском официально-бюрократическом дискурсе (Пригов делает подобное в «Некрологах» или «Описаниях предметов»). Поэтические возможности социально маркированного советского косноязычия интересовали и Всеволода Некрасова, и Игоря Холина, и Яна Сатуновского, и раннего Лимонова (см. сопоставление Пригова с Некрасовым и Лимоновым в Части III). Однако только Пригов вводит в свою поэзию графоманию как мощную и всеобъемлющую культурную практику, как многоуровневую культуру, которую он одновременно изучает, репрезентирует и деконструирует.
Вот почему переход от лирических стихов к поэзии, имитирующей советскую графоманию, оказался для Пригова таким важным. Отказавшись от необходимости «выражать себя», а вернее, отказавшись от себя, Пригов парадоксальным образом обрел свой неповторимый стиль. И уже в ранних стихах появляется целый ряд находок, принципиальных для всего последующего творчества Пригова. Главная из них связана с тем, что Пригов не просто смеется над примитивным сознанием. Нет, он демонстрирует его особую цельность. Во всяком случае, «Исторические и героические песни» представляют советский образ мировой истории. Развернутая в этом цикле портретная галерея, в которой широко известные исторические персонажи представлены в современных языковых одеждах, – разумеется, напоминает о соцреализме, особенно в его детском, т. е. самом массовом изводе:
Находил Калинин ягодку
И кричал: «Тебе подарок здесь!»
И бежал вприпрыжку к девочке,
А у ней в ответ
Из стебельков и венчиков
Собран для него букет.
(«Калинин и девочка», 2: 482)
Вспоминается ему,
Как на майском на параде
Девочка букет ему
Подарила красный-красный,
Он в ответ ей – шоколад,
Это было так прекрасно!
Она рада, и он рад!
(«Сталин и девочка», 2: 481)
Рада, рада вся земля,
В небе снова светятся
Звезды древнего Кремля
Красною Медведицей.
(«Л. П. Берия», 2: 492)
Как ни странно, приговская «портретная галерея» не меньше, чем соцреализм, напоминает квазиисторические картины Ильи Глазунова – например, «Мистерию ХХ века» (1978)[89]89
Эта картина имела размер 6 на 3 метра. В 1999 году Глазунов написал новый вариант, размером 8 на 3 метра, в котором были дорисованы деятели постсоветской истории.
[Закрыть], – в которых русские святые, полководцы и советские деятели были расставлены в ряд, как на официальных фотографиях. Эти картины пользовались начиная с 1970‐х годов сенсационной популярностью и, возможно, даже повлияли до некоторой степени на массовые представления о русской истории. История – и в случае советских представлений о ней, и в случае Глазунова (как одного из создателей «патриотической» версии советского же исторического метанарратива) – оказывается нивелирована телеологией, мессианскими моделями: коммунизма как конца истории или русского народа как выразителя вечной истины (в картине «Вечная Россия», 1988).
Фактически цикл Пригова с примитивистской иронией обнажает работу советского мессианизма, благодаря которому далекие исторические события становятся монотонным повторением одних и тех классовых или этнокультурных коллизий; мифа, который предполагает «окончательную оценку» всех исторических персонажей с точки зрения пролетарской революции и величия России. В сущности, каждое стихотворение цикла и завершается такой оптимистической кодой, механически помещающей «прогрессивных» персонажей в контекст «коммунистического идеала»:
И одноглазый чудодей
Знал странность русского народа,
Провидел все до наших дней,
До наших фабрик и заводов.
(«Кутузов», 2: 484)
Все должное уж совершилось,
Не значил он сам ничего,
И сердце истории билось
У самого сердца его.
(«Полководец», 2: 486)
И самою тому приметой,
Что в нашу кровь, как в водоем,
Суворов с неприметным этим
Солдатиком вошли вдвоем.
(«Альпийский разговор», 2: 485)
«Так головы будем рубить мы всегда
И гидре империализма!»
И слову был верен лихой командарм
Вплоть до социализма
(«Песня о лихом красном командире», 2: 490)
Сама повторяемость таких концовок служит деконструкции «исторического оптимизма», замешанного на мессианском восприятии истории. Впрочем, у Пригова встречаются и более непосредственные «подрывы» этой логики, как, например, в стихотворении «Чапаев»:
«Не посрамим мы славы руссов,
Над нашим знаменем родным
Суворов реет и Кутузов!»
Шло по рядам: «Не посрамим!»
«От Цезаря и до сипаев –
Все в пролетарском кулаке!» –
Так с войском говорил Чапаев
И вскорости потоп в реке.
[2: 488]
Таким образом, история, пропущенная через советское сознание, лишается малейшего историзма, чем подтверждает известный (впоследствии) тезис Р. Барта о том, что миф превращает историю в природу[90]90
Впервые прочтение Пригова с помощью бартовской концепции мифа было предпринято Е. А. Добренко в статье «Преодоление идеологии» [Добренко 1990: 175–182].
[Закрыть]. В «Исторических и героических песнях» история становится тотально анахроничной. Отсюда и комическое смешение далеких исторических эпох, ставших неразличимыми в советском нарративе:
Патриот
Когда Наполеон ярясь
У Александра пол-России,
Уже оттяпал, Дмитрий-князь
В Москве жил – юноша красивый.
Он говорил: «Россия-мать!
С поляками, с другим дружа с кем,
Куда идешь?» – стал поджигать
Дома, и прозван был Пожарским.
[2: 495]
Анахронизмы у Пригова проявляются не только в стилистике, но и в специфической риторике, окружающей любой эпизод или фигуру «историческими параллелями». Однако все эти «параллели» глубоко бессмысленны, они ничего не проясняют и не выявляют: их единственная функция состоит в том, чтобы «вписать» данный эпизод или нарратив в контекст «большой Истории»:
«От Цезаря и до сипаев –
Все в пролетарском кулаке!»
(«Чапаев», 2: 488)
Когда Никита наш Хрущев
Со сталинизмом расправлялся,
Он Бруту брат был, а еще
Он новым Прометеем звался.
(«Никита Сергеевич Хрущев», 2: 493)
Явный нравственный урод
Без креста без малого,
Он обманывал народ,
Партию обманывал.
Кровопийца и стервец,
Словно хунта в Чили,
Но пришел его конец –
Его разоблачили.
(«Л. П. Берия», 2: 492)
Пригов фактически демонстрирует, что исторические персонажи в результате мессианской деисторизации превращаются в своего рода идиомы, формализованные фигуры речи. Именно исторические фигуры, лишившиеся истории, становятся первым приговским эквивалентом всего советского языка, который нуждается в ресемантизации, но которая уже явно невозможна, потому что «смысл слов» давно забыт. Советский язык распался именно в силу тех мутаций, которые претерпели история и публичная – то есть подцензурная – историческая память.
Оперируя чистыми, почти пустыми означающими, персонажный автор Пригова ресемантизирует их разными, но всегда комическими методами. Иногда он отталкивается от имени:
Прекрасны древние, но эта падла –
Из всех прекрасней Клеопарда!
(«Клеопатра», 2: 494)
И чуждый всяких разговоров,
Один из них был самый лучший,
Поляков он сурово жучил,
За что и прозван был – Суворов!
(«Слуга Отечества», 2: 495)
Огромного роста, суровый,
По верху очищенных Альп
Шел видный отвсюду Суворов,
Готовясь с французов снять скальп.
(«Полководец», 2: 486)
Иногда Пригов отталкивается от «прилипшей» к персонажу формулы – скажем, стихотворение «Петр I» материализует растиражированную пушкинскую фразу о том, что Петр «в Европу прорубил окно»:
Петр I
Когда Великий Первый Петр
Со шведом бился под Полтавой,
Он говорил: о, как я сперт!
Окно бы прорубить на славу!
С тех пор и днями и ночами,
Где соберется больше двух,
Вращая грозными очами,
Проносится Петровый дух.
[2: 283]
О князе Потемкине известно, что он был слеп на один глаз и бился с турками. Этого достаточно для стихотворения:
Князь Потемкин говорит:
Чтой-то левый глаз болит,
Чтой-то турка мне не видно,
Кто мне в этом пособит.
А и вправду турок
Спрятался проклятый –
Ни усов, ни политуры,
Ни заплаты, ни зарплаты.
(«Светлейший» – 2: 487)
Другой, не менее комический, способ наполнить семантикой застывшие языковые формулы позаимствован Приговым в фольклоре. Историческая ситуация интерпретируется как мелодраматически-любовная. Так, «Екатерина и Пугачев» имитирует народную балладу про любовь гусара Емельяна к красавице Екатерине, которой он-де попытался овладеть, но был остановлен могучим стражником Суворовым:
Чиста, молода и прекрасна,
Красотка – ни дать и ни взять!
А ножки! – ну, в общем – прекрасна,
И Екатериною звать.
‹…›
Рукой Емельяшка дрожащей
Царицу пытается взять,
Но слышит от гнева дрожащий
Он голос: «Ах, … твою мать!»
[2: 495]
«Сталин и Аллилуева» использует язык жестокого романса:
Он весь напрягся, чтоб не выдать стон,
Рука сжимала холод пистолета
В прикрытом ящике стола. «Кто он?» –
Но рассмеялася она ответно.
[2: 489]
Во всех этих случаях действует соссюровский принцип функционирования языковых единиц, в которых связь между означающими (в данном случае историческими персонажами) и их значениями произвольна и случайна. Однако история, превращенная советским мессианизмом в язык, лишена различий – главного принципа функционирования языка – как на уровне звучания, так и на уровне понятий. В приговских «Песнях» Суворов не случайно оказывается неотличим от Кутузова, а тот от Чапаева и Ворошилова, Павел Корчагин от Дмитрия Донского, а Хрущев от Сократа. Различаются лишь означающие, т. е. буквально имена, и только! Не из этого ли знания о неразличимости исходит очень характерный для Пригова интерес к проблеме имени, с которым он связывает вопрос о границе, в свою очередь, определяющий «мерцательную» позицию автора? Примеры приговской пародийной «философии имени» – циклы-сборники «Типические характеры в типических обстоятельствах» (1979), «Изучение звучания „Кабаков“» (1983), «Поименно» (1992), «Мой список умерших» (1994), «Славословия» (1999) и др.
Афанасий, Афанасий
Хоть и был ты восемь на семь
В неких единицах
И хотя великий Лев
Над твоим стихом свой гнев
Великий
Умерял
Ягненком, практически, становился…
(2: 635 – цикл «Поименно»)
История, пропущенная через советские фильтры, оказывается мертвым языком, и собственно, «Исторические и героические песни» – это первый перформанс мертвизны советского языка – как если бы шаман делал все необходимые пассы, но мертвец не воскресал, а пассы бы оказались самодостаточным комическим танцем.
В чистом виде перформанс советского языка выходит на первый план, например, в «Общественных песнях», состоящих из обмена репликами между хором и корифеем (поэтом): вместе они скандируют советские идиомы – риторические и понятийные, чей смысл в процессе исполнения редуцируется до ритмических повторений:

Аналогичный перформанс поглощения истории мертвым советским языком можно увидеть и в других текстах Пригова 1970–1980‐х: «Три баллады из кантаты „Тост за Сталина“» (1975), «Исторические картинки» (1976), «Связь времен» (1979), «Терроризм с человеческим лицом» (1981) и многих других.
Однако внутренняя механика не только советского языка как такового, но и перформанса (советской) истории, ставшей мертвым языком, лучше всего видна на примере знаменитого стихотворения «Куликово поле».
Логика перформанса: «Куликово поле» (1976)Трудно найти более полную иллюстрацию ко всей системе принципов приговского перформативного письма, чем знаменитое стихотворение «Куликово поле» (1976, из цикла «Три битвы»; кроме того, включено в сборник «Из двадцати лет опыта», 1974–1976). Пригов предполагал сделать «Куликово» первым стихотворением в цикле о важнейших и наиболее мифологизированных битвах русской истории; второе стихотворение – «Бородино» – было написано, а третье, «Сталинградская битва», вероятно, нет (или же было утрачено). Характерно, что Пригов, редко читавший на своих публичных выступлениях старые стихи, в 1990–2000‐е годы тем не менее постоянно исполнял два своих ранних произведения – цикл о Милицанере и «Куликово поле».
Вот всех я по местам расставил
Вот этих справа я поставил
Вот этих слева я поставил
Всех прочих на потом оставил
Поляков на потом оставил
Французов на потом оставил
И немцев на потом оставил
Вот ангелов своих наставил
И сверху воронов поставил
И прочих птиц вверху поставил
А снизу поле предоставил
Для битвы поле предоставил
Его деревьями обставил
Дубами, елями обставил
Кустами кое-где уставил
Травою мягкой застелил
Букашкой разной населил
Пусть будет все как я представил
Пусть все живут как я заставил
Пусть все умрут как я заставил
Пусть победят сегодня русские
Ведь неплохие парни русские
И девки неплохие русские
Они страдали много русские
Терпели ужасы нерусские
Так победят сегодня русские
Что будет здесь, коль уж сейчас
Земля крошится уж сейчас
И небо пыльно уж сейчас
Породы рушатся подземные
И воды мечутся подземные
И звери мечутся подземные
И люди бегают наземные
Туда-сюда бегут приземные
И птицы собрались надземные
Все птицы – вороны надземные
А все ж татары поприятней
И лица мне их поприятней
И голоса их поприятней
И имена их поприятней
Да и повадка поприятней
Хоть русские и поопрятней
А все ж татары поприятней
Так пусть татары победят
Отсюда все мне будет видно
Татары значит победят
А впрочем – завтра будет видно.
[1: 59–60]
Куликовская битва – одно из самых освоенных литературой событий русской истории: от «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище» до цикла Александра Блока «На поле Куликовом». В этом смысле стихотворение Пригова в высшей степени «цитатно» и отсылает сразу ко всей совокупности текстов на эту тему[91]91
Часть этих текстов републикована в: Памятники 1998.
[Закрыть]. Однако в самом стихотворении нет «прямых» цитат: Пригов цитирует не конкретные тексты, а дискурс древнерусского эпического предания о великих битвах, известный любому выпускнику советской школы. Наиболее отчетливы переклички, хоть и непрямые, со «Словом о полку Игореве». Так, описание битвы у Пригова:
Земля крошится уж сейчас
И небо пыльно уж сейчас
Породы рушатся подземные
И воды мечутся подземные
И звери мечутся подземные
И люди бегают наземные
Туда-сюда бегут приземные
И птицы собрались надземные
Все птицы – вороны надземные –
[1: 60] –
напоминает эпические параллелизмы «Слова»:
Уже несчастий его подстерегают птицы
по дубам;
волки грозу накликают
по оврагам;
орлы клектом на кости зверей зовут;
лисицы брешут на червленые щиты.
(пер. Д. С. Лихачева)
или «Задонщины»:
То не серые волки были – пришли поганые татары, хотят пройти войной всю Русскую землю.
Тогда гуси загоготали и лебеди крыльями заплескали. Нет, то не гуси загоготали и не лебеди крыльями заплескали: то поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих привел. А уже гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны неумолчно грают, а галки по-своему говорят, орлы клекочут, волки грозно воют, а лисицы брешут, кости чуя (пер. Л. А. Дмитриева).
Пригов также иронически воспроизводит традицию русской политической оды XVIII века. Ее важнейшая черта связана с диалогом, который автор-одописец ведет с силами природы, зная при этом обо всем, что происходит на земле и небесах. Л. В. Пумпянский отмечал, что оды, написанные Ломоносовым после 1742 года, воспроизводят божественную точку зрения и стилистически отсылают к немецким поэтическим переложениям псалмов [см.: Пумпянский 1935: 103–110]. Так, в одной из од Ломоносова Бог обращается к русской императрице Елизавете Петровне:
Утешил Я в печали Ноя,
Когда потопом мир казнил.
Дугу [т. е. радугу. – М. Л., И. К.] поставил в знак покоя
И тою с ним завет чинил.
Хотел Россию бед водою
И гневною казнить грозою;
Однако для заслуг твоих
Пробавил милость в людях сих…
[Ломоносов 1986: 90]
Пригов переводит всезнание персонажа оды в перформативно разыгранную способность сочинителя – сделать все, «как я заставил».
Однако отдаленность, а вернее, радикальная примитивизация этих «цитат» в тексте Пригова важнее, чем их узнаваемость. Эпические формулы предстают стершимися от частого повторения, упростившимися до тавтологии и потому граничащими с абсурдом. Именно так передается парадокс перформативной цитатности: «цитируется мир, который уже цитатен – т. е. состоит из повторений и перепевов» [Pollock 1998: 92].
Пригов разыгрывает (как на сцене) и тем самым остраняет зависимость поэтического субъекта (находящегося в «мерцательных» отношениях с автором) от классической традиции. При этом вольно или невольно он осуществляет такой принцип перформативного письма, как его «неполнота» или «метонимичность». По словам Д. Поллок, «…перформативное письмо метонимично. Оно осознанно ‹…› подчеркивает различие, а не идентичность лингвистического символа тому, что он должен репрезентировать. Оно драматизирует границы языка…» (ibid., 82). Неадекватность репрезентации эпическому предмету изображения – то, что Поллок обозначит как «метонимичность» перформативного письма, – в этом тексте реализована прежде всего на формальном уровне. Нанизывание тавтологических и нарочито примитивных глагольных рифм производит впечатление навязчивой дидактичности и – ведомой дидактическими целями – примитивизации изображения (см.: Witte 2013: 47).
Пригов драматизирует нарушение границ и гипертрофию возможностей языка. Причем не абстрактного, а вполне определенного: эссенциалистского языка русской героической, воинской или одической традиции. Важнейшим приемом его перформанса в этом случае становится демонстративный разрыв с таким фундаментальным принципом этого дискурса, как недвусмысленная идентификация автора с «нашими», т. е. русскими – или теми, кто считается «русскими». Легендарная история, давно и прочно завершенная эпическим преданием, пересоздается Приговым как незавершенная игра, исход которой зависит от сугубо случайных факторов:
И лица мне их поприятней
И голоса их поприятней
И имена их поприятней
Да и повадка поприятней
Хоть русские и поопрятней
А все ж татары поприятней
[1: 59]
Повествователь в «Куликовом поле» напоминает гомеровского Зевса, помогающего в сражении у стен Илиона то одной, то другой стороне – в зависимости от того, чей жребий окажется тяжелее на его весах:
Долго, как длилося утро и день возрастал светоносный,
Стрелы и тех и других поражали – и падали вои.
Но лишь сияющий Гелиос стал на средине небесной,
Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий троян конеборных и меднооружных данаев;
Взял посредине и поднял: данайских сынов преклонился
День роковой, данайских сынов до земли многоплодной
Жребий спустился, троян же до звездного неба вознесся.
(«Илиада», песня 8, пер. Н. Гнедича)
Но, повторим, Пригов трансформирует историческую предопределенность, или, у Гомера, «волю богов», в незавершенную и незавершаемую игру. Происходящее на наших глазах театрализованное конструирование исторического события сочетается с его «разборкой» и «перечеркиванием»: сначала «мотивируется» победа русских, потом абсолютно в тех же терминах объясняется, почему должны победить татары, – при этом, конечно, сама «логика», стоящая за этим выбором, пародирует всякого рода телеологические подходы к истории. Однако, не довольствуясь этой игрой, Пригов завершает стихотворение еще одним жестом «перечеркивания» всего сказанного: «А впрочем, завтра будет видно».
Другой принцип героического дискурса предполагает причинно-следственную связь между исходом битвы и моральными, а также культурными достоинствами «наших». Пригов его тоже демонстративно нарушает.
Уравнивание врагов с «нашими» тоже укоренено в российской традиции – но более древней и менее влиятельной, чем демонизация врага. На миниатюрах из русских рукописных книг XV–XVII веков противники – в том числе русские и татары – различаются по этническому типу, у них разные латы и стяги, но сами войска расположены симметрично. В изображении «врагов», с точки зрения современного человека, не используются средства визуальной демонизации. Учитывая, что становление Пригова-художника пришлось на 1960‐е годы, когда в СССР была очень влиятельна мода на «доканоническое» русское искусство Средних веков и раннего Нового времени, можно предположить, что Пригов в «Куликовом поле» обыгрывает и эту эстетику.
Разрушение героического нарратива выдвигает на первый план «удовольствие от игры в бесконечно раскрытом поле репрезентации» [Pollock 1998: 82]. Модальность стихотворения – одновременного уморительного и торжественно-серьезного – осуществляет две модели перформативности: детскую игру и ритуал. Они представлены не как конфликтующие, а, наоборот, взаимно дополняющие друг друга:
Пусть будет все как я представил
Пусть все живут как я заставил
Пусть все умрут как я заставил
[1: 59]
Эффект ритуальности подкрепляется, а не подрывается упомянутыми тавтологическими рифмами, в сочетании с синтаксическими параллелизмами и анафорами, напоминающими детские стихи Хармса и взрослые стихи Вс. Некрасова. Парадоксальным образом именно примитивность формы придает ей сходство с заклинанием, т. е. не просто перформативным высказыванием, но и сакральным действием, свидетельствующим о присутствии высшей силы, стоящей за событиями истории. Именно эта высшая сила и представлена как субъект текста «Куликова поля», на что явно указывают как строчка «Вот ангелов своих наставил», так и «предвосхищение» дальнейших великих баталий русской истории:
Всех прочих на потом оставил
Поляков на потом оставил
Французов на потом оставил
И немцев на потом оставил
[1: 60]
Однако эта «абсолютная эпическая позиция» (по выражению Бахтина) тут же и подрывается. Ведь созданный текстом перформативный субъект – демиург, высшая трансцендентная сила, – как уже было отмечено, лишен сколько-нибудь убедительных критериев «смысла истории», он руководствуется неопределенными и комически приземленными «соматическими» предпочтениями. Демиург истории вместе с тем совпадает здесь и с автором текста. Божественный субъект является в то же время не-божественным писателем, сочиняющим историю в меру своих (довольно забавных и нарочито примитивных) представлений о ней. Динамическое отношение между этими двумя, в равной мере комическими, ипостасями перформативного субъекта текста и формирует драматургию приговского текста, порождая многозначность его интерпретаций.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































