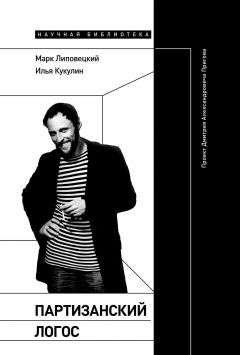
Автор книги: Марк Липовецкий
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
3. Советский субъект
Бесспорно, Пригова интересуют языки истории и культуры, формирующие советского субъекта («подставного автора» стихов) и его политическое бессознательное. Но важно понять, что это языки культуры, уже пережившей катастрофу, в результате которой советский язык поглотил и историю, и экономику, и самого субъекта, превратив их в свои функции. Пригов весело и свободно воссоздает в своем творчестве то, что, например, Мераб Мамардашвили куда драматичнее определял как «„зомби“-ситуации»:
…вполне человекоподобные, но в действительности для человека потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво. ‹…› Такие ситуации инородны собственному языку и не обладают человеческой соизмеримостью (ну, как если бы недоразвитое «тело» одной природы выражало себя и давало бы о себе отчет в совершенно иноприродной «голове»). Они похожи на кошмар дурного сна, в котором любая попытка мыслить и понять себя, любой поиск истины походил бы своей бессмысленностью на поиск уборной» [Мамардашвили 1984].
По мнению философа, именно эти ситуации абсурда и соответствующий им язык, которые он описывал через отсылку к Кафке, являются симптомами антропологической катастрофы:
Продуктом их [этих ситуаций], в отличие от Homo sapiens, т. е. от знающего добро и зло, является «человек странный», «человек неописуемый» ‹…› Этот неописуемо странный человек не трагичен, а нелеп, смешон, особенно в квазивозвышенных своих воспарениях. Это комедия невозможности трагедии, гримаса какого-то потустороннего «высокого страдания». Невозможно принимать всерьез ситуацию, когда человек ищет истину так, как ищут уборную, и наоборот, ищет на деле всего-навсего уборную, а ему кажется, что это истина или даже справедливость (таков, например, господин К. в «Процессе» Ф. Кафки). Смешно, нелепо, ходульно, абсурдно, какая-то сонная тягомотина, нечто потустороннее [там же].
И хотя в докладе 1984 года Мамардашвили не мог прямо связать свою концепцию с советским опытом, эта связь не была скрыта для его слушателей и читателей[103]103
Впоследствии Мамардашвили сам достаточно недвусмысленно характеризовал «советизм» в аналогичных терминах: «Когда господствует советизм, сама жизнь теряет функцию. Советская жизнь – антижизнь. Ни в одном слове, предложении, позе или действии, характерных для советизма, я не узнаю себя как живого, не чувствую жизни. Там, где советизм – жизни нет» [Мамардашвили 1995а].
[Закрыть].
Можно сказать, что именно этот «неописуемый человек» и является субъектом («лирическим героем») «советских» стихов Пригова. Строго говоря, не один Пригов, а весь московский концептуализм работал именно с этим субъектом – причем чаще всего изобразительными средствами. Так, Зиновий Зиник в эссе «Соц-арт» так описывал расщепленное сознание, оформляемое работами В. Комара и А. Меламида:
«Общественное», вылившееся в принудительную идеологию, вмешивается – не проникая, но вламываясь под прикрытием высоких слов (как вежливый стук в дверь часто кончается обыском) – и заселяет «личное», превращая личное в коммунальную квартиру… Свобода истолковывается как безоглядное и бессловесное доверие к начальству. Но та же свобода понимается как и уклонение от общественных повинностей – поскорей сослать двадцать миллионов на каторгу, чтобы начальство оставило в покое и можно было бы выпить рюмку водки под борщ, жену и детишек. Обобществленные личные категории превращают моральные принципы в коммунальную склоку о справедливости в связи с очередностью уборки сортира… Естественно, что это приводит к постоянной напряженной раздвоенности сознания: человек постоянно ощущает себя не совсем дома – или что у него «не все дома». Он всегда отчасти на демонстрации, отчасти на партийном собрании, отчасти – в тюрьме [Зиник 1979: 87–88].
Советское превращение истории в язык, а бессознательного – в сверхсознательное и все те процессы, о которых шла речь выше: деисторизация, смешение времен, де– и ресемантизация, торжество тавтологий, – Пригов переосмысливает в более амбивалентном ключе, чем классический соц-арт. Приговский субъект «расплющен» этим языком, но тем не менее он пытается сквозь этот язык говорить о себе и своем мире. Как поясняет Пригов в предуведомлении к циклу «Личные переживания» (1982): «Это не лирические, не духовные, а личные переживания. Может показаться, что запечатлены они каким-то чуждым, посторонним языком, ходульными фразами, непрочувствованными словами. Но именно встреча этих языков, бродячих фраз, неприкаянных слов и есть мое глубоко личное переживание» [1: 142].
Вот почему так важно подчеркнуть, что приговский «советский субъект» – это не сатирический Другой, отчужденный от авторского сознания строго размеченной стилевой или семантической границей. В предуведомлении к сборнику «Стихи осени-зимы года жизни 1978» (1978) Пригов определяет свой метод как «высокий пародизм», противопоставляя его сатире. По мысли Пригова, «сатира стремится показать отсутствие предмета описания за стилистикой, либо ее полное несоответствие „истинно“ существующему предмету» [4: 246]. «Высокий пародизм» преследует иную цель: используя «чужую» стилистику, этот метод нацелен на то, чтобы
…выявить суть времени, материализовавшегося в стилистике, в точке его прирастания к вечности. И движет пародистом (это я особенно подчеркиваю) любовь к жизнереальности предмета описания (соответственно тому, как мы предмет определили) и к конструктивной определенности и неслучайности стилистики. ‹…› При достаточно верном вживании в структуру взаимодействия данной стилистики с предметом стилистика может быть оттащена столь далеко от предмета, что превратится в самодостаточную систему и сама может стать предметом описания. Здесь пародизм вплотную подходит к идеологическому апологетизму и тону тотальной серьезности [там же].
Разыскивая (или воображая) в чужом дискурсе «точки прирастания к вечности», нагнетая в себе «любовь к [его] жизнереальности», Пригов тем самым добивается «верного вживания» не только в стилистику, но и в «предмет» описания – иначе говоря, в сознание, для которого эта стилистика органична. По принципу актерского перевоплощения Пригов вкладывает свое личное содержание в создаваемую им роль.
C точки зрения «советского субъекта» написаны не только «исторические и героические песни», не только оды Милицанеру или филиппики Рейгану, но и обаятельные «кухонные» стихи, в которых, как отмечал в 1991 году Андрей Зорин,
…Пригов идет на небывалый эксперимент – он отдает своему детищу собственное имя и собственную жизнь: жену, сына, друзей, квартиру в Беляево, привычки и вкусы. Одновременно слепленный таким образом литературный персонаж начинает индуцировать энергию обратно в реальность, и в настоящем Дмитрии Александровиче Пригове, которого интересующийся читатель может увидеть, услышать, а при очень большом желании и потрогать, проступают черты его героя, сумевшего своим творческим гением освоить и отлить в стихи весь речевой массив, созданный коллективным разумом «народа-мифотворца» в его современном государственном состоянии [Зорин 2010: 431].
Иначе говоря, отчужденный, «подставной» советский субъект ранних стихов Пригова в определенном аспекте оказывается достаточно близок к автору, чтобы быть принятым за его двойника.
В более широком смысле в приговском субъекте, говоря словами Мишеля Фуко, «…проступает более глубокая история самого человека. История эта относится к самому его бытию: он обнаруживает, что не только где-то вокруг него существует „некая История“, но что сам он в своей историчности и есть то, в чем прорисовывается история человеческой жизни, история экономии, история языков» (Фуко 1994: 388). Именно это происходит в ряде написанных в 1970–1980‐е годы циклов Пригова, таких как «Дистрофики» (1975), «Стихи осени-зимы года жизни 1978» (1978), «С некоторым сомнением» (1979), «Весьма нищенские утешения» (1980), «Кровь и слезы и все прочее» (1980), «Личные переживания» (1982), «Стихи различной стоимости» (1984) «Лирико-информационные сообщения» (1983), «Мои нежные милые ласковые стихи» (1984), «Стихи для души» (1984), «Превышение истины на один градус» (1985), «Стихи как воля и представление» (1985), «Официально не утвержденные основания жизни» (1985), «Вся власть моим мудрым советам» (1985). «Читая Пригова» (1986), а также несколько других «книжечек», по которым рассеяны стихи, составившие метацикл «Домашнее хозяйство» (1974–1985).
«Монады»: тело, насилие, Бог, тараканВозможно, главным проявлением «глубинной историчности», о которой писал Фуко, становится в поэзии Пригова сама структура субъекта. Эта структура виднее всего там, где в центре внимания не идеологические, а достаточно универсальные или экзистенциальные мотивы. Именно в этой области наиболее отчетливо проступает посткатастрофический характер открытой Приговым субъектности.
В 1975 году Пригов пишет «возможно поэму» (такое жанровое обозначение предпослано тексту) «Кусочики» [4: 625–632], которая состоит из шестидесяти семи нумерованных трехстиший, каждое из которых, в свою очередь, включает повторяющиеся (иногда с небольшими вариациями) фразы. 8 раз повторяются фразы «Советские герои / Советские герои, / Советские герои», 6 раз «Пушкин прекрасен / Пушкин прекрасен / Не правда ли прекрасен», 5 раз троекратное «Все подешевеет». В этих наиболее частотных формулах, безусловно, отпечатался советский авторитетный язык. То же можно сказать и о «Враг подслушивает», «Учиться учиться и учиться», «Смело товарищи / Смело товарищи/ Смело товарищи / В ногу» и «Герой Советского Союза». Но совершенно к другим регистрам принадлежат многие другие фразы: «Геморрой проклятый», «В жизни не до жизни», «Жирная соседка», «Кашляет кошка / Кашляет кошка / Кашляет немножко», «Как там Мао Дзе Дуну», «Зима а тает», «Ногти отросли на ноге», «Потому что надо / Потому что надо / Потому что надо / Надо надонадо», «Родинка на шее / Родинка на шее / Родинка на шее / У самого ушка». Личное измерение придают этому тексту упоминания друзей-художников: «Орлов и Шелковский / Орлов и Шелковский / Орлов и Шелковский / И Лебедев к тому же» и локуса, важного для самого Пригова: «В Абрамцеве летом». Нет сомнений, что перед нами своего рода срез сознания – сознания, состоящего из «кусочиков».
В этом сознании даже наиболее частотные «советские» элементы так и не складываются в подобие единства, представляя собой обрывки полузабытых нарративов и (вновь) тяготея к тавтологии: так, скажем, разница между «советскими героями» и «Героями Советского Союза» – в основном административная: «советские герои» – персонажи мифологизированных нарративов (вроде упомянутых выше Зиганшина и Поплавского), а Герои Советского Союза – граждане, награжденные соответствующим орденом, но в пределах советского дискурса эти две категории тяготеют к максимальному сближению. Что же касается иных элементов, то они существуют автономно друг от друга, воплощая как бы эмбрионы потенциальных нарративов: любовного («Родинка на шее…»), эмоционально-телесного («Геморрой проклятый», «Ногти отросли на ноге»), стоического («Потому что надо…») и т. п. Эти фрагменты можно было бы соединить в некие «цепочки», но Пригов этого не делает, явно имитируя «пейзаж сознания», лишенный какой-либо «внешней» смысловой рамки.
В этой «возможно поэме» действительно возникает новая – во всяком случае, не артикулированная ранее – модель субъекта. У этого субъекта нет доминанты, «сквозного нарратива», и потому он распадается на автономные фрагменты. Советский метанарратив еще существует, но он уже не подчиняет себе всего субъекта.
«Советский субъект» как особый тип самосознания всегда был фрагментарным. Жизнь советского человека была раздроблена между официальными и неофициальными, а часто и нелегальными доменами [Липовецкий 2009; Лейбович 2017], но советский дискурс, или совокупность дискурсов, по-видимому, с 1930‐х до конца 1960‐х годов воспринимался многими в СССР как репрезентация предельных ценностей человеческого существования. По отношению к этим предельным ценностям неофициальные практики выступали как жизнь «грешного», несовершенного человека, который должен «крутиться», чтобы выжить. Пригов показывает картину субъекта, в сознании которого советский дискурс выступает не всеобъемлющим «горизонтом понимания» мира, а одним из фрагментов сознания. Возможно, самым крупным фрагментом, но – не целым.
Можно сказать – одной из монад.
Это слово впервые появляется в стихах Пригова в 1984‐м в сборнике «Мои нежные милые ласковые стихи»:
А много ли мне в жизни надо
Уже и слова не скажу
Как лейбницевская монада
Лечу и что-то там жужжу
Какой-то там другой монаде.
Она ж в ответ мне:
Бога ради,
не жужжи
[4: 158]
В 1994‐м Пригов напишет целую «книжечку» под названием «Монады».
У Лейбница монада является мельчайшей, элементарной и неделимой первочастицей, «энтелехией» всего живого – растений, животных и человека. Каждая монада наделена индивидуальностью (отсюда многообразие мира) и способностью к восприятию и памяти. Неуничтожимые и элементарные лейбницевские «простые субстанции», они же – монады, изолированы друг от друга и связаны только через мировую гармонию, установленную Богом:
51. …в идеях Божьих одна монада с основанием требует, чтобы Бог, устанавливая в начале вещей порядок между другими монадами, принял в соображение и ее. Ибо, так как одна сотворенная монада и не может иметь физического влияния на внутреннее бытие другой, то лишь указанным способом одна монада может находиться от другой в зависимости. 52. И вот почему действия и страдания между творениями взаимны [Лейбниц 1982: 422].
М. Б. Ямпольский рассматривает «монадность», т. е. разделенность субъекта, пространства и времени на изолированные зоны, как основную философскую тему и риторический принцип Пригова. По мнению Ямпольского, монадность сочетается у Пригова с постоянным изучением и созданием «зон транзитности» между изолированными сферами [см.: Ямпольский 2016: 104–156].
Однако понимание монады у Пригова, по сравнению с Лейбницем, очень психологизировано. У Лейбница монада – категория онтологическая. У Пригова монадность совмещена с картиной сознания, освобождающегося от гравитации метанарративов и оттого рассыпающегося на мелкие «автономные зоны». Правда, эти «кусочики» способны функционировать как заместители целого, оставаясь фрагментами. Сами эти фрагменты души напоминают отдельные «микромонады», подрывающие представление о монаде как о целом. Отделенная от других монада, которая состоит из отдельных, тоже изолированных, «кусочиков», в лейбницевской логике является парадоксом.
Приговские монады способны к коммуникации, хотя явно не жалуют друг друга («Бога ради, не жужжи»). Тон этой коммуникации предполагает параллель между состоянием индивидуального субъекта и состоянием общества, лишившегося (или свободного от) мобилизационных метанарративов.
Категория «монады» вообще пережила второе рождение в контексте постмодерной культуры. Так, Жиль Делёз в своей книге о Лейбнице писал о том, что эта категория оказывается чрезвычайно продуктивной для понимания минималистского и концептуального искусства:
Каждая монада ‹…› выражает целый мир, но смутно и темно, поскольку она конечна, а мир бесконечен ‹…› Вне монад мир не существует, монады суть малые перцепции без объектов, галлюцинаторные микроперцепции. Мир существует только в своих репрезентантах – именно таких, какие включены в каждую монаду. Это плеск, гул, туман, танец праха. Это нечто вроде состояния смерти или каталепсии, сна или засыпания, исчезновения, ошеломленности [Делёз 1998: 147].
Славой Жижек описывает монаду как «момент разрыва, разлома, в котором линейное „течение времени“ подвешивается, останавливается, „свертывается“… Это буквальная точка „остановки диалектики“, точка чистого повторения, в которой историческое движение заключается в скобки» [Жижек 1999: 144].
Перенося эти характеристики на открытую в «Кусочиках» модель субъекта, можно сказать, что этот субъект, с одной стороны, лишен истории и даже какой бы то ни было динамики – отсюда «нечто вроде состояния смерти или каталепсии, сна или засыпания, исчезновения, ошеломленности» (Делёз). Отсюда же иллюзия остановки времени: «линейное „течение времени“ подвешивается, останавливается, „свертывается“…» (Жижек).
С другой стороны, у этого субъекта уже есть «готовая», завершенная история, после которой возможна только тавтология – «точка чистого повторения, в которой историческое движение заключается в скобки». «Готовая» история и ее эффекты представлены в «советских» текстах Пригова: текстах, описывающих катастрофу, произведенную в сознании советским метанарративом и созданной им историей. Следовательно, фрагментарность, «монадизированность» сознания – и есть главный эффект катастрофической истории.
Подобная концепция явно вызревала у Пригова давно. См., например, его стихотворение 1974-го, по своей поэтике находящееся еще на пороге концептуалистского письма: «Как Гóсподь Бог я в теле своем / Я в каждой крошечке сразу / Я сразу весь в ней и целиком / И сразу в каждой – все сразу. / И каждая живет меня целиком, / И каждая мрет меня целиком, / Подите, подите и ужас измерьте / Такой ежесмертной смерти!» [Prigov 1: 43].
Сама внеисторичность или безвременность приговского монадного субъекта и воплощает его историчность.
Интересно, что в том же 1975 году, в котором Пригов пишет свои «Кусочики», создает свои первые картотеки Лев Рубинштейн. Более того, «Кусочики» даже своим ритмическим рисунком напоминают о Рубинштейне, о котором Пригов еще не знал, – они познакомятся только в 1977 году. В картотеках Рубинштейна фрагментарность сознания вырастает в новый принцип организации художественного текста, т. е. эстетически концептуализируется, раскрываясь как прием остранения повседневного языка и мира, им создаваемого [см подробнее: Липовецкий 2008: 326–356]. У Пригова же это базовое понимание нового состояния субъекта словно бы растворяется во многих вариациях, зачастую довольно далеко уходящих от «исходника». Тем не менее важно увидеть связь этих мотивов с темой фрагментарного субъекта[104]104
После «монадных» стихотворений Пригова – и, кажется, с оглядкой на них – Дмитрий Голынко-Вольфсон написал цикл стихотворений «Элементарные вещи» (2002), также основанный на отсылках к лейбницевской идее монады.
[Закрыть].
Одна из важнейших форм этой связи – мотивы тела и телесности, которые Пригов разрабатывает уже с начала 1970‐х годов. Подчеркнуто «телесные» мотивы, часто с явственными эротическими обертонами, встречаются и в творчестве других неподцензурных писателей 1970–1980‐х годов: Вен. Ерофеева, Е. Шварц, А. Миронова, Е. Харитонова, И. Холина, Г. Сапгира. Но у Пригова эти мотивы получают очень специфическую интерпретацию. Иногда кажется, что он возрождает на новом уровне древний жанр «сетований души телу». На первый взгляд, за подобными «сетованиями» скрывается традиционная дихотомия бренного тела и бессмертного духа: «Как тело подвержено порче / Вот нос мой до мяса сгорел / И кожа ползет повсеместно / Нарывы на нижней губе / Все ноги в кровавых порезах / И неодолимый понос / Но дух мой, как ангел пушистый / Над ними воркуя парит» («На уровне здравого смысла», 1982 – 2: 153). Но даже в этом псевдоклассическом стихотворении «дух мой, как ангел пушистый», к тому же воркующий, как голубь, выглядит крайне комично – именно в силу своей телесности в сочетании со стереотипной «умильностью» облика. Отметим также лукавое «над ними»: выходит, каждый из телесных «дефектов» существует отдельно, как самостоятельное образование.
И. Ильин справедливо отмечает:
…если классическая философия разрывала дух и плоть, конструируя в «царстве мысли» автономный и суверенный трансцендентальный субъект как явление сугубо духовное, резко противостоящее всему телесному, то усилия многих влиятельных мыслителей современности, под непосредственным воздействием которых и сложилась постструктуралистско-постмодернистская доктрина, были направлены на теоретическое «сращивание» тела с духом, на доказательство постулата о неразрывности чувственного и интеллектуального начал. Эта задача решалась путем внедрения чувственного элемента в сам акт сознания, утверждения невозможности «чисто созерцательного мышления» вне чувственности, которая объявляется гарантом связи сознания с окружающим миром» [Ильин 2001: 298–299].
Трудно сказать, насколько Пригов был осведомлен о классических сегодня исследованиях телесности, осуществленных М. Фуко, Р. Бартом, Ю. Кристевой, Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в 1970‐е – начале 1980‐х; возможно, некоторые идеи были известны ему по пересказам Б. Гройса и М. Рыклина. Однако очевидно, что Пригов предлагает глубоко оригинальное и самостоятельное решение этой проблемы.
Он снимает оппозицию телесного и духовного, превращая тело во внутреннего двойника или даже оппонента «Я». Вот почему во многих стихах Пригова тело обладает своей собственной, соразмерной «Я» субъектностью и даже свободой воли:
Отбежала моя сила
На полметра от меня
Я лежу, ее бессильно
Достопамятно браня:
Ах ты, подлая и рыжья
Ну, чуть-чуточку, едрит
Подойди ко мне поближе!
А она и говорит:
Пшел вон, старый
(«Стихи для души», 1984 – 1: 79)
Вот что-то левое плечо
Живет совсем меня отдельно
То ему это горячо
То ему это запредельно
А то вдруг вскочит и бежать
Постой, подлец! Внемли и вижди
Я тебе Бог на время жизни
А он в ответ: Едрена мать
мне бог
(«Мои нежные милые ласковые стихи», 1984 – 4: 158)
Никто не хочет меня слушать
Кому повем печаль мою
Вот ногу я беру свою:
Послушай ты меня, послушай
Моя печальная нога
Жизнь безутешно высока!
Чего молчишь, пузырь лишайный?
И вот она уж утешает
Склонившись надо мной
(«Официально не утвержденные основания жизни», 1985 – 2: 186)
В этих и подобных стихах нетрудно увидеть связь с «монадизированным» пониманием «Я»: тело в этом контексте предстает гротескным воплощением такой структуры субъекта, при которой составные части личности не поддаются самоконтролю, да и сама целостность субъекта, при таком взгляде на вещи, оказывается весьма проблематичной. Недаром у Пригова тело, при всей его самостоятельности, нередко выступает как своего рода конструктор: оно тоже лишено цельности и единства. Комедийно разыгрывая мифологический мотив смерти/воскресения, Пригов то и дело варьирует ситуацию неверной «сборки»:
Вот ведь холодно немыслимо
Что костей не соберешь
А бывает соберешь –
Что-то кости незнакомые
А одни вот сплошь берцовые
Как у петуха бойцового
Может, оно и полезнее
(«Мои нежные милые ласковые стихи», 1984 – 1: 74)
Жизнь, бывает, соберешь
По кусочкам малым-малым
Одного и не хватает
А он – правая нога
Без него куда пойдешь?
(«Читая Пригова» – 1: 157)
Думается, оборотной стороной этого же мотива являются созданные позднее циклы визуальных работ Пригова «Столпники» (1990‐е) и «Яйца» (2000–2003 годы; хотя одно из первых приговских изображений яйца – вернее, пустой скорлупы от яйца – относится к концу 70‐х). Первый цикл образуют рисунки шаров различной формы (с отверстиями, прорезями и т. п.), висящих над вертикальными столбами. Второй изображает яичные скорлупки, сгруппированные по три. В каждом из трех изображений одно и то же слово написано либо по-китайски, либо по-русски, либо по-английски, причем в двух последних случаях согласные изображены крупными белыми буквами, а красным сверху вставлены гласные, что напоминает манеру письма на греческих и древнерусских иконах: в иконных надписях – титлах – часто пропущены средние буквы слова, а над словом помещен особый знак, иногда в сопровождении одной из пропущенных букв (ил. 3).

Ил. 3. Д. А. Пригов. Графические работы из цикла «Яйца»
Все эти изобразительные циклы только буквально изображают «монады» – недаром слова, «вписанные» в яйца, предполагают некие элементы мироздания: тень, трава, птица, вода, камень, молчание, взгляд, человек и т. п., но и актуализируют мотив тела без органов – философского понятия, придуманного Антоненом Арто (1947) и подробно обсуждаемого в «Шестом плато» книги Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения: Тысяча плато» (1980).
В стихах Пригова нетрудно найти описания тела, соответствующие фазам движения по направлению к «телу без органов»: «ипохондрическое тело, чьи органы разрушены, ущерб нанесен… параноическое тело, где органы непрестанно атакуются какими-то внешними воздействиями… шизоидное тело, доходящее до активной внутренней борьбы» [Делёз и Гваттари 2010: 249–250]. Итогом этого движения и становится мазохистское «тело без органов». Делёз и Гваттари прямо отождествляют «тело без органов» с яйцом, видя в этом символе и связанной с ним практике воплощение чистого желания, свободного и страшного в своей свободе: «Желание идет дальше – порой желать своего собственного уничтожения, порой желать того, что обладает властью уничтожать» [там же, 274]. Вместе с тем «тело без органов» воплощает мечту об освобождении от субъектности: «Речь идет о создании тела без органов, по которому проходят интенсивности, и где нет более ни самости, ни другого – не от имени более высокой общности или более обширного расширения, но благодаря сингулярностям, о которых уже нельзя сказать, являются ли они личными…» [там же, 260]. Устремленность к «телу без органов» интерпретируется здесь как поиски выхода за пределы репрессивных целостностей – того, что Делёз и Гваттари обозначают как «организм»: «Понемногу мы отмечаем, что тело без органов – вовсе не противоположность органам. Его враги – не органы. Враг – организм. Тело без органов противостоит не органам, но той организации органов, которую называют организмом…» [там же, 263–264]
С этой точки зрения можно предположить, что приговский «монадный» субъект воплощает скрытый, бессознательный вызов советскому «организму», мифологически воплощенному Милицанером. Приговское внимание к телесности, таким образом, заряжено подрывным смыслом, выходящим за пределы насмешек над идеологическими нарративами. Образы телесности в приговских стихах подрывают сценарии клишированного мышления – этот мотив получит продолжение в стихах метацикла «Домашнее хозяйство». Однако Пригов не склонен создавать простые оппозиции. Поскольку «тело без органов» – это в первую очередь мазохистское тело, мотив тела как монады или двойника «Я» вводит в поэзию Пригова мотивы насилия, (само)разрушения и смерти.
Тело в его стихах больше сопряжено со страданием, болью, болезнью и смертью, чем с наслаждением и сексуальностью (как правило, «обремененной» разного рода идеологическими коннотациями). Тело находится в постоянной войне с субъектом и потому гротескно интериоризирует социальное и политическое насилие: «Эка пакость внутри накопилась / Коли это повыплюнуть вот / Через задний-передний проход – / Все повыжглось бы тут, задымилось / Ну а я ничего вот – хожу / Как какая нейтронная бомба / На детишек с улыбкой гляжу / Не на них же – на ком бы другом бы / Испробовать» («Мои нежные милые ласковые стихи», 1984 – 4: 160). А в другом стихотворении взбунтовавшаяся кость мизинца отправляется служить в армию:
Вот мой мизинец болевает
В нем кость живет себе хозяйка
Туда-сюда пройдется зябко
А то поднимет страшный вой:
Я не хочу на свете жить!
А то вдруг явится в мундире:
Я в армию иду служить
В защиту мира
(«Явление чудовищев не всегда порождает сон разума», 1984 – 3: 125)
Именно отсюда, от телесности, – заряженность субъекта насилием. Иногда она предстает как «спонтанная» (т. е. монадная): «Что-то крови захотелось / Дай кого-нибудь убью / ‹…› Просто так, для пользы дела / Искромсаю его тело / Память вечная ему» («Кровь и слезы и все прочее», 1980 – 3: 49). Иногда – целенаправленная: «Возьму-ка парочку дейтерия / Под кожу нежную введу / И к людям на люди пойду / Вот бомба атомная теперя я / Лелейте, хольте меня, суки / А то вас всех тут разнесу-ка / В слякоть мелкую» («Следующие стихи», 1984 – 4: 323). Последний случай – особенно примечателен. Заряженность смертью не случайно становится условием социализации («Лелейте, хольте меня, суки»). На насилии и готовности к (само)разрушению у Пригова вообще замешаны самые разные типы отношений.
Само собой, идеологические: «Вот он, Генрих Боровик[105]105
Генрих Боровик (р. 1929) – советский журналист, с 1960‐х годов регулярно публиковал в советской печати статьи, выражавшие официальную точку зрения на политические и общественные события в СССР и других странах.
[Закрыть] / Да на Рейгана набросился / А куда тому бежать – / Всюду, всюду зверь выходит он / А куда же мне бежать – / Там вот Рейган зверем носится / Вот он на меня уж косится / Одним глазом / Беспощадный» («Мои нежные милые ласковые стихи» – 4: 156). Социальные отношения заряжены агрессией в принципе – они и угрожают насилием, и вовлекают в насилие: «Какая мощная природа / Что страшно выйти со двора / Зараз удушит, а за два / Под именем махроть-народа / Немедленно погонит вдаль / Вонзать карающую сталь / Во что-то мягкое» («Мои нежные милые ласковые стихи» – 4: 158). Пронизано насилием и переживание исторического момента – не без помощи Пушкина, конечно: «Есть упоение в бою / С штыком у бездны на краю / Или с ракетой у бездны на краю / С нейтронной бомбой на краю / Как бы уже в раю / Заранее» («Мои нежные милые ласковые стихи» – 4: 156). Не чужды насилию и дружеские отношения: «Сорочку белую надену / Друзей спокойных приглашу / И всех на месте порешу / Они поймут – такое дело / Такого дела-то заради / Они меня бы тоже, бляди / Порешили / Если бы им первым в голову / пришло» («Следующие стихи» – 4: 322). И даже любовные: «Вот жаркая, словно Освенцима печь, / Любовью меня хочет женщина сжечь / Я голый стою перед нею и плачу / Рукою являя стыдливость девичью / Она же, покручивая черный ус: / Не бойся – смеясь говорит мне – / мит унс / Бог» («Жизнь поэта», 1984 – 2: 587).
Особенно детально тотальность насилия как универсальной формы отношений между советским субъектом и миром исследуется Приговым в цикле «Терроризм с человеческим лицом» (1981). Цикл начинается с «предуведомительной беседы» между Террористом и Милицанером, где последний, разумеется, квалифицируется как воплощение закона, а первый – как «все некритериальное, недефинированное и непросветленное, все это вместе». Однако, нарушая эту стройную бинарную оппозицию (космос/хаос), «наш» терроризм, в отличие от «их», западного, терроризма, в одном из стихотворений цикла характеризуется как будничный и бескорыстный, а следовательно почти гуманный:
На Западе террористы убивают людей
Либо из‐за денег, либо из‐за возвышенных идей
А у нас если и склонятся к такому –
Так по простой человеческой обиде или по злопамятству какому
Без всяких там денег, не прикидываясь борцом
И это будет терроризм с человеческим лицом
[3: 284]
В другом тексте того же цикла Террорист и вовсе предстает как идеал, до которого пока никто не дотянулся: «В созерцании пусть отвлеченном, но чистом / Мне открылось, что Милицанеру под стать / В полной мере у нас еще нет Террориста / Чтоб обоим в величье пред небом предстать» [3: 285].
Легкость подобных переходов от гармонии к террору (то есть от космоса к хаосу) программно демонстрируется в первом же стихотворении цикла. Эта «апроприация» – одна из самых эффектных у Пригова:
Склонясь у гробового входа
Не то, что мните вы – язык
Не слепок, не бездушный лик
В нем есть душа, в нем есть свобода
В нем есть любовь, в нем есть язык
Гады!
[3: 283]
Отталкиваясь от четверостишия из стихотворения Ф. И. Тютчева («Не то, что мните вы, природа: / Не слепок, не бездушный лик – / В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык…»), нарушая его тавтологией («не то, что мните вы – язык… в нем есть язык»), добавляя строчку из А. С. Пушкина («Склонясь у гробового входа…» из «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»), а главное – завершая апроприацию «фирменной» короткой нерифмующейся строкой: «Гады!» – Пригов зримо трансформирует классические размышления о мудрости жизни и природы в агрессивный жест злобного поучения и оскорбленного наставления, явный пример «простой человеческой обиды или злопамятства какого» – или, иначе говоря, «терроризма с человеческим лицом». Важно в этом стихотворении и повторение слова «язык» – именно язык, не исключая и высокую культурную традицию, выступает как медиум насилия.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































