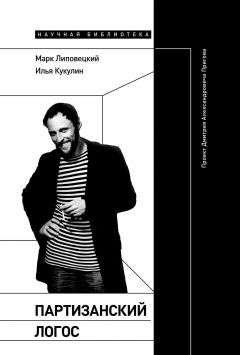
Автор книги: Марк Липовецкий
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Субъект этого стихотворения соединяет черты «простого советского человека», театрального режиссера и пародийного толкователя провиденциального смысла исторических событий. В этом смысле «Куликово поле» одновременно и деконструирует советский исторический нарратив, и предлагает автометаописание приговского перформатизма, занимая в творчестве Пригова особое положение. Не случайно перформативность этого стихотворения отчетливо соотносится с тем, что Пригов в своих теоретических высказываниях называл «назначающим жестом». По сути дела, все это стихотворение может быть прочитано как поэтическая интерпретация этой, важнейшей для Пригова, категории. И изображенная в «Куликово» «нейтральность» демиурга, и перформативность – в понимании Пригова – являются неотъемлемыми характеристиками «назначающего жеста»:
Способность одного и того же художника оперировать различными языками, не отдавая пальмы первенства ни одному из них, не влипая окончательно, не идентифицируясь ни с одним из них, не полагая ни один из них уровнем разрешения своих творческих амбиций, актуализировала поведение и назначающий жест… [5: 194].
Подобно «назначающему жесту», «Куликово поле» разрушает оппозицию между констативным и перформативным высказыванием: описание немедленно предполагает действие. Подобно тому как концептуальный художник трансформирует дискурс в источник изобразительного искусства, демиург в «Куликовом поле» на наших глазах с дивным простодушием превращает историю в язык.
Главный комический эффект приговского стихотворения состоит в том, как легко меняется позиция автора. Собственно, легкость переноса границы и свидетельствует о том, что история как язык унаследована в уже опустошенном, т. е. мертвом состоянии, она не отягощена никакой семантикой. Вместе с тем эта подвижность подрывает границу между «своим» и «чужим»: она отнюдь не онтологична, а предстает как языковой конструкт. Стихотворение обнажает произвольность этой основополагающей для традиционной и советской культуры оппозиции. В этом отношении смысл «Куликовской битвы» более глубок, чем просто насмешка над советскими версиями истории. Одновременно с комедией банализированной власти над историей – власти, вытекающей из представления об истории как языке, которым можно высказать противоположные сообщения, – стихотворение дискредитирует упования на универсальную значимость любого утверждения, понимаемого как историческая правда.
Таким образом, «Куликово поле» может читаться и как пародия на любые (в том числе советские) телеологические версии истории, основанные на эссенциализированных бинарных оппозициях, и как деконструкция модернистского автора, создающего субъективный исторический миф, и как комедийная материализация концептуалистского «назначающего жеста», обнажающего в нем наивную «игру в бога». Наконец, при смене точки зрения (с демиурга на участника событий) нетрудно увидеть в этом стихотворении трагикомическую иллюстрацию к шекспировскому «Мы для богов что мухи для мальчишек, / Им наша смерть в забаву…» («Король Лир», пер. Т. Щепкиной-Куперник).
Есть еще один важный источник «Куликова поля» – исторический. Его присутствие позволяет распознать эвристический смысл приговского перформанса.
В книге Игала Халфина «Сталинистские признания: Мессианизм и террор в Ленинградском коммунистическом университете» (2009), написанной на материале «чисток», судебных процессов и допросов 1930‐х годов, обсуждается особая полусознательная «теология террора». В отличие от историков «тоталитарной школы», считавших советских людей бессловесными жертвами всевластных политических элит, и от «ревизионистов», интерпретировавших террор как результат столкновения различных группировок в аппарате власти, Халфин обращает внимание на язык допросов и признаний, язык, разделяемый следователями, обличителями и жертвами. По логике историка, советский субъект был сформирован этим языком и одновременно участвовал в его формировании. Язык этот был предназначен для того, чтобы оценивать каждое событие – бытовое, политическое, моральное – в контексте мессиански понятой истории. Этот язык, как подчеркивает И. Халфин, строился на тавтологиях и самоповторах, поскольку «в нем едва ли оставалось место для реальных аргументов, политическая борьба порождала тавтологии, которые легко переходили в насилие ‹…› Можно описать сталинистский дискурс как плоский, но его внешняя простота сопровождалась многословием и обсессивными самоповторами – чтобы избежать даже тени недопонимания, одно и то же повторялось снова и снова» [Halfin 2009: 3, 4, 7][92]92
Критики Халфина не раз говорили, что язык, использовавшийся обвиняемыми на сталинских «открытых процессах» или встречающийся в протоколах допросов и пугающий своим сходством с языком обвинителей, не был избран его «субъектами» добровольно. Язык показаний на допросе становился «спрямленным», превращался в дискурс следователей под пытками или как минимум под воздействием психологического давления. «…Реконструируемая ими [Й. Хеллбеком и И. Халфиным] история советского общества оказывается бесконфликтной (так или иначе, все говорят на одном языке), не страшной (смерть и насилие у них дискурсивны, как и ГУЛАГ ‹…›). ‹…› Хеллбек и Халфин предлагают „филологическую“ модель истории советского общества, которая, по существу, сводится к истории дискурса. И что важно, именно дискурса – в единственном числе, поскольку возможность конкурирующих дискурсов отвергается как на теоретическом („советский субъект“ – порождение победившего революционного дискурса), так и на практическом (подбор текстов) уровнях» [Глебов, Могильнер, Семенов 2003].
[Закрыть].
Из языка доносов и допросов, как доказывает Халфин, вытекает особый тип перформативности – неотъемлемо связанной с террором:
Произвольность Большого Террора, его жуткая непредсказуемость, не делает этот феномен мистическим. Наоборот, террор был сверхрациональным, он вытекал из железной решимости вписать всю реальность в коммунистический порядок. Партийная решимость… делала сам язык мессианским. Язык, якобы конгруэнтный реальности, окружал себя внешней стеной; все, что оставалось вне этого языка, было обречено на запрет, осуждение и уничтожение ‹…› Язык сталинизма осуществлял свою перформативность как акт возмездия (with a vengeance): аннигиляция следовала из самого указания на нечто, не поддающееся называнию… [ibid., 8]
Такая функция языка представляется крайним случаем более общих перформативных принципов советского дискурсивного режима. М. О. Чудакова обсуждала эти принципы в терминах «магичности» и «орудийности» советского языка[93]93
См. такие статьи М. О. Чудаковой, как «Язык распавшейся цивилизации (Материалы к теме)» и «Советский лексикон в романе „Мастер и Маргарита“» [Чудакова 2007: 234–348, 351–394].
[Закрыть]. Именно этот язык, сформированный советским террором и бессознательно сохраняющий память о терроре, и превращен в спектакль в «Куликовом поле» и в других «советских» стихах Пригова. Этот язык воспроизводит все процедуры советской карательной риторики, произвольно наделяющей кого бы то ни было свойствами абсолютного зла или добра и соответствующим образом интерпретирующей любую мелочь как способствующую или мешающую прогрессу человечества. Следовательно, воссозданный Приговым «советский субъект» – это субъект, сформированный языком террора, интериоризировавший его и продолжающий на этом языке думать о мире – при отсутствии аппарата террора, который бы мог резонировать с его оценками и суждениями. Даже усвоенный этим субъектом знаменитый приговский «назначающий жест» («Пусть будет все как я представил»), кажется, инверсированно воспроизводит дискурс террора, в котором нежелательное моментально уничтожается.
Главный источник эстетического эффекта «Куликова поля» – как и всей «советской» поэзии Пригова, – таким образом, кроется в перформансе освобождения от этого языка и от воплощенной в нем предзавершенности (истории) и мессианской телеологии (представлений о ней). Это освобождение возникает не только потому, что носитель этого языка в позднесоветскую эпоху уже отделен от механизмов террора и потому предстает смешным. Важнее другое: благодаря суммарному эффекту всех смещений от нарративного к перформативному, происходящих в тексте, и прежде всего благодаря перформативному субъекту текста смешным становился сам этот язык, а вместе с ним – и производимые этим языком метанарративы «большой Истории».
Идеология формы: «Культурные песни» (1974)Вместе с тем в ранних циклах Пригов интуитивно пришел к важнейшему философскому вопросу, который, как становится понятно уже ретроспективно, оказался ключевым как для русского концептуализма, так и, шире, постмодернизма, обозначив развилку внутри неофициальный, а впоследствии – постсоветской культуры. С точки зрения советской лояльной, но умеренно-оппозиционной по настроениям интеллигенции (ее представителей можно условно назвать «советскими либералами»), история не является языком, а является внеязыковой правдой, которую исказила советская идеология. Напротив, понимание истории как одного из языков, а вернее, как важнейшего из языков модерной культуры, к которому Пригов приходит в «Исторических и героических песнях», позволяет ему ускользнуть от основополагающей для всей позднесоветской культуры бинарной конструкции: ложь идеологии / историческая правда. По Пригову, оказывается, что идеологическая ложь и есть историческая правда, потому что это и есть язык истории, оставивший отпечаток в политическом бессознательном.
Интуиции Пригова оказались созвучны развитию западной гуманитарной мысли (в 1974‐м практически неизвестной в СССР) – в частности, идеям М. Фуко, который доказывал в «Словах и вещах» (книга переведена на русский в 1977‐м), что уже в XIX веке «человек оказался лишенным истории и поэтому призван обнаружить в самом себе и в тех вещах, в которых еще мог бы отобразиться его облик… такую историчность, которая была бы сущностно близка ему» [Фуко 1994: 387]. Одной из таких форм историчности, по Фуко, является, язык: «…ныне же имеется некий „внутренний“ механизм языков, который определяет не только индивидуальность каждого языка, но также и его сходство с другими языками: именно этот механизм, будучи носителем тождеств и различий, знаком соседства, меткой родства, становится опорой истории. Именно через его посредство историчность ныне вступает в самую словесную толщу» [там же, 262]. Исторически конкретные культурно-психологические «механизмы», структурирующие язык и сознание, и есть дискурсивные формации или эпистемы, по Фуко.
Мысль о языке, а вернее, о языках культуры как о материале, из которого строится история, выходит на первый план в «Культурных песнях». Но опять-таки парадоксально. Пригов здесь впервые использует прием апроприации, сопоставимый с реди-мейдом, но не совпадающий с ним полностью. В отличие от реди-мейдов, приговский субъект не сохраняет свои «объекты» – классические тексты – в неприкосновенности, а вторгается в них, вступая с ними в комедийный диалог. Это не пародия и не подражание, а особого рода обработка классических – хотя и не обязательно входящих в официальный советский канон – стихов Пушкина (первая строфа «Евгения Онегина», «Пора, мой друг, пора…», «19 октября 1825 года»), Лермонтова («Бородино», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»)), Некрасова («Вчерашний день, часу в шестом…»), Мандельштама («Ленинград»), Ахматовой («Мне голос был…»), Пастернака («Зимняя ночь»), Маяковского («Хорошо!»). Присутствие в этом ряду вариаций на темы романса «Гори, гори, моя звезда», «Песни о Родине» на слова В. Лебедева-Кумача («Широка страна моя родная») и даже фольклорного стихотворения о зайчике, вышедшем погулять, свидетельствует о том, что Пригова в этом цикле интересует, так сказать, культурный пейзаж массового сознания. Иначе говоря, если в «Исторических и героических песнях», «Трех битвах», «Общественных песнях» и подобных циклах Пригов работает с политическим бессознательным, то в «Культурных песнях» на первый план выходит «культурное бессознательное». Но это не самостоятельное явление, а, в соответствии с логикой Джеймисона, уровень «идеологии формы» все того же политического бессознательного – т. е. уровень «символического сообщения, передаваемого через сосуществование различных знаковых систем» [Jameson 1981: 76]. Каковы же эти символические сообщения?
Как видно по стихам этого цикла, вопреки доминирующим в позднесоветский и постсоветский периоды представлениям об автономии великой литературы (и великой классической традиции), якобы неподвластной давлению идеологии, культурное наследие ни в коей мере не противостоит языку советской истории, т. е. дискурсу власти, а осваивается в соответствии с тем же принципами, которые действуют на идеологическом уровне советского политического бессознательного.
Само горизонтальное соседство текстов разных эпох становится мощной формой деисторизации. Эффект деисторизации достигается и путем комической ресемантизации, когда в классический текст вторгается комментарий все того же советского субъекта, осуществляющего перевод поэтических формул на язык повседневного сознания и современных реалий:
Пора, мой друг, пора!
Пора, мой друг, время уже.
Сердце покоя просит.
(Сердце – не камень, не растение же!)
И все уносятся, уносятся
Частицы бытия.
Жизни, значит, частицы.
И нету в жизни счастья, Боря!
Но есть много-много разного другого – покой, воля…
И давно завидная представляется мне вещь,
Событие, что ли.
Давно бы пора бежать куда-нибудь!
Но не в Израиль же!
[2: 500][94]94
Эту методику «перевода» интересно было бы сравнить с методом «конспективных переводов», который выработал Михаил Гаспаров во второй половине 1980‐х годов (он «пересказывал» верлибром русские стихотворения XIX века, изменяя их смысл и сильно сокращая) и методом «переводов с русского», который создал Сергей Завьялов в 2002 году: он тоже «пересказывал» верлибром русские классические стихотворения, но не сокращал их, а изобретал для них дополнительные психологические мотивировки. Так, осуществленный Завьяловым «пересказ» стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» открывается ремаркой: «Молодость уходит, надежды рушатся; / утешение приходит в мыслях о первой любви» [Завьялов 2002].
[Закрыть]
Возможен другой вариант – когда комментарии субъекта обнажают принципиальную «непереводимость» смыслов, вчитанных в классическое произведение. Такой инсценированный восторг перед «великим произведением» маркируется фразой «это что-то неземное». В авторском приложении к составленному А. Монастырским «Словарю терминов московской концептуальной школы» Пригов придает выражению «это что-то неземное» терминологическое значение: «Восклицание, имеющее единственный смысл отстранения, устранения от навязываемой оценки путем ритуального использования пустых, пустотных форм определения степени духовности» [Словарь 1999: 194]:
Друзьям
Друзья мои, прекрасен, великолепен,
неподражаем (это что-то неземное!) – наш союз,
Он как душа – не в религиозном,
а в этом, как его, смысле –
неразделим и вечен,
Неколебим, свободен (это что-то неземное!) и беспечен,
Срастался он – это тоже что-то неземное! – под сенью дружных муз.
[2: 505]
Этот вариант, безусловно, предвосхищает позднейшие обращение Пригова к Пушкину: от «лермонтизованного» «Евгения Онегина» (1992) до перформанса «мантр русской культуры», состоящего в исполнении первой строфы «Евгения Онегина» на буддистский, мусульманский и православный распевы. Показательно, что при работе с классическими дискурсами на первый план у Пригова выходит та же тавтологичность, что и в ритуальном воспроизводстве советских дискурсивных формул. В сущности, эти трансформации демонстрируют такую же, как и при обращении к официальному советскому дискурсу, формализацию и сопутствующее обессмысливание классической – не исключая и модернистскую – литературы, как могло показаться в 1960–1970‐е годы, противостоящую своей «духовностью» советскому идеологическому языку.
Отождествление советского и классического у Пригова не случайно, а программно. В интервью Б. Обермайр он прямо говорил о связи между Пушкиным (символом классической традиции) и советским официальным дискурсом:
…для моего поколения ‹…› Пушкин был официальным государственным поэтом, был почти героем Советского Союза, он был борец за демократию в давние времена – т. е. Пушкин это был Ленин моего времени. Поэтому он входил в нашем понятии в качестве какого-то поп-государственного героя с детских лет – и было немного фигур, так присутствовавших в личной жизни, в общественной жизни, в жизни школьной и институтской. Это были Сталин, Пушкин и меньше – Толстой [Prigov 4: 216, с изм.[95]95
В цитате исправлены опечатки источника.
[Закрыть] ].
Автореферентное воплощение идеологии формы, свойственной советскому политическому бессознательному, находим в самом, пожалуй, известном стихотворении этого цикла, которое Пригов впоследствии часто исполнял:
Долина Дагестана
В полдневный зной в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я,
Я! Я! Я! Не он! Я лежал – Пригов Дмитрий Александрович!
Кровавая еще дымилась, блестела, сочилась рана
По капле кровь точилась – не его! не его! – моя!
И снилась всем, а если не снилась –
приснится долина Дагестана,
Знакомый труп лежит в долине той.
Мой труп. А, может, его. Наш труп!
Кровавая еще дымится наша рана,
И кровь течет-течет-течет хладеющей струей.
[1: 56]
На первый взгляд, Пригов комедийно «овнешняет» универсальный механизм восприятия искусства и особенно лирической поэзии. Действительно, субъект лирического стихотворения всегда в той или иной степени является «полой формой», заполняемой сопереживанием и воображением читателя, который – начиная с романтизма – должен быть вовлечен в процесс эмоционального сотворчества, то есть к тому, чтобы присвоить описываемые в тексте эмоциональные состояния. В сущности, эта коллизия проступает как созвучие душ и в стихотворении Лермонтова, в котором умирающему в долине Дагестана снится «вечерний пир в родимой стороне», на котором девушку посещает видение-сон о нем, умершем в долине Дагестана. У Лермонтова, несмотря на почти буквальное совпадение первой и последней строф, контакт с душой девушки преодолевает смерть, создавая «двойное бытие».
Однако у Пригова лермонтовский текст и предлагаемая им ситуация превращаются в «поле брани», т. е. скандала, затеваемого читателем-соавтором, который буквально отнимает у Лермонтова его тело, его кровь и его рану: «С свинцом в груди лежал недвижим я, / Я! Я! Я! Не он! Я лежал – Пригов Дмитрий Александрович! / Кровавая еще дымилась, блестела, сочилась рана / По капле кровь точилась – не его! не его! – моя!» [там же]. Дискурсивный скандал метонимически уравнивается с насилием и его следами: кровью и раной. Поэтому, по контрасту с оригиналом, у Пригова, казалось бы, достигнутое комическое «перемирие» читателя-соавтора с автором: «Мой труп. А, может, его. Наш труп!» [там же] – в конечном счете оборачивается картиной всеобщего видения смерти: «И снилась всем, а если не снилась – приснится долина Дагестана, / Знакомый труп лежит в долине той. / Кровавая еще дымится наша рана, / И кровь течет-течет-течет хладеющей струей» [курсив наш].
В сущности, эту «аллегорию чтения» можно понять и как метафору более широкого порядка. Говоря словами Пригова, «любой язык, который стремится к господству, поражается раковой опухолью власти» [Шаповал 2003: 95]. Завоевание культурных территорий тем или иным субъектом или дискурсом, по этой логике, неизбежно превращают дискурсивную власть в форму террора и диктатуры, в свою очередь, неразрывно связанную со смертью и разрушением.
В других стихотворениях «Культурных песен» практически осуществляется то, что «Долина Дагестана» описывает метафорически. Вот почему в ряде стихотворений этого цикла классический дискурс поглощается узнаваемо советским языком. В результате первая строфа «Онегина» превращается в брюзжание советского ветерана:
Но ей, нынешней молодежи, видите ли, скука
Учиться, участвовать в общественной жизни,
Или посидеть с больным там день или ночь.
Эх, молодежь, молодежь! – вздыхал старый ветеран. –
Когда кто-нибудь возьмет тебя в ежовые рукавицы.
(«Мой дядя», 2: 500)
Ахматовское выяснение отношений с родиной – в допрос у следователя КГБ:
– Мне голос был.
– Ей голос был!
– Он звал утешно.
– Утешали ее!
– Но он говорил: Иди сюда!
– А он не говорил, мол, оставь свой край
Подлый и грешный?
– Нет, нет, нет! Что вы!
– А, мол, оставь Россию навсегда?
– Да что вы! Я простая советская женщина,
Вот только кровь от рук отмою
И брошу всякий стыд.
– А что он там говорил насчет нового имени,
фамилии, паспорта?
Каких-то там наших поражений, ваших обид?
– Нет, нет! Я ничего не слышала!
Я заткнула уши руками
Чтоб этот голос чужой, не наш
Не смущал меня.
– Так-то будет лучше, красавица.
[1: 56]
Пастернаковская любовная лирика – меняет адресата, становясь стихами о любви к Сталину:
Мело, мело по всей земле,
И свеча горела на столе,
И шуршала по крыше снеговая крупка,
На Спасской башне 12 часов ночи били часы,
И горела знакомая негаснущая трубка,
И ласково улыбались чуть тронутые проседью усы.
(«Свеча горела на столе», 2: 502)
«Бородино» переходит в героическую песню про Гражданскую войну («По долинам и по взгорьям» на стихи Петра Парфёнова), а затем – в перечень достижений 1960‐х годов, напоминающих доклад на советском торжественном собрании любого уровня:
Ведь были ж схватки боевые,
Боевые, то есть, отступления, окружения,
контрнаступления, мешки,
котлы, удары, маневры.
И говорят еще какие!
Пушкин говорил, Толстой говорил,
Ленин говорил, Левитан говорил.
Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях, на галопах, на иноходях,
на тачанках, на броневиках,
на бронепоездах, на танках,
На большие дела.
Помнят польские паны, помнят французские агрессоры,
помнят татарские поработители,
помнят немецкие захватчики,
помнят
Псы атаманы,
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина, и про Куликова день
и про день Бреста, и про день Волочаевский,
и про день Сталинграда, и про Даманский день
Да были люди в наше время –
Невский, Донской, Пожарский, Минин,
Скопин-Шуйский, Суворов, Кутузов,
Багратион, Ушаков,
Нахимов, Корнилов,
Скобелев, Фрунзе,
Колчак, Деникин, Бу –
денный, Чапаев, Ко –
товский, Тухачев –
ский, Жуков, Ста –
лин.
Не то, что нынешнее племя!
Ну, кто у вас там – Зиганшин? Поплавский[96]96
Асхат Зиганшин и Филипп Поплавский – двое из четырех солдат, получивших в СССР шумную известность в 1960 г. Солдаты-срочники несли службу и жили на самоходной барже Т-36, пришвартованной у берега курильского острова Итуруп. В ночь с 17 на 18 января шторм сорвал баржу со швартовов и отнес в Тихий океан, где солдаты и провели 49 дней почти без пищи и с минимальным количеством пресной воды. 7 марта 1960 г. совершенно истощенных солдат нашли и подняли на борт моряки американского авианосца Kearsarge, после чего они были приняты в США как почетные гости и вернулись в СССР. В СССР участники дрейфа на Т-36 были награждены орденами, о них публиковали стихи и исполняли эстрадные песни. Однако Пригов, скорее всего, вспомнил их имена из советской фольклорной песни в ритме рок-н-ролла «Зиганшин-рок», где упоминаются фамилии именно этих двух солдат (https://www.youtube.com/watch?v=JcrxF3VWAIo).
[Закрыть]?
Богатыри не вы!
Нет, позвольте – а Гагарин? а Титов?
а Быковский, а Николаева –
Терешкова, а Николаев,
а Попович,
а Комаров, а Волков[97]97
Советские космонавты.
[Закрыть]?
У нас в жизни всегда есть место для
подвига!
(«Бородино» – 2: 504)
Эффекты этих «реди-мейдов» многообразны. В них устанавливаются если не генетические, то по крайней мере типологические связи между далекими языками культуры. Они создают «культурную карту» Великой Традиции, на которой сознательно и целенаправленно разрушаются границы и проявляются каналы связи между классикой и соцреализмом, между наследниками Серебряного века и современной повседневностью, между героизацией русской военной истории и советским имперским пафосом. Именно в этих метаморфозах и взаимоотражениях культурных языков и разворачивается «идеология формы» как уровень политического бессознательного.
Неудивительно, что открытый в «Культурных песнях» принцип дискурсивного «реди-мейда» становится у Пригова одним из любимых методов деконструкции советского языка, порождая такие циклы, как «Связь времен» (1979; советские открытые письма против «незаконной и наглой деятельности группы Дантес – Гончарова» и т. п.), «Некрологи» (1980), в которых обыгрывается стиль официальных советских некрологов, но о говорится о русских классиках и о самом Пригове. Сходно построены «Малый цитатник» (1981), «Высказывания» (1981, Пригов о Пушкине, Толстом, Блоке, Маяковском и т. п.), «Призывы» (1982) «Премии» (1985, Госпремии Пушкину, Гоголю, авторскому коллективу храма Христа-Спасителя), «Песни советских деревень» (1991, эротизм в духе Серебряного века совмещен здесь с интонациями и образностью псевдонародных песен из советских кинофильмов) и мн. др. Аналогичные методы апроприации Пригов применяет и к товарищам по неподцензурной литературе: скажем, сборник «ситуативных стихов» «Болевые точки» (1978) явно отсылает к карточкам Рубинштейна, а стихи, вошедшие в сборник «Шкурки стихов» (1984), сам Пригов определяет как «айзенберговские». Это показательный ход: так реализуется принцип критики высказывания – и собственного, и близких по духу авторов. Верный себе, Пригов анализирует языки неподцензурной поэзии, словно бы проверяя их на способность к экспансии.
Немало подобных апроприаций разбросано и по таким циклам, как «Ну, бля, обще!» (1981), «Хаотический сборник» (1982), «Лирико-информационные сообщения» (1983), «Стихи переходного периода» (1983), «Стихи различной стоимости» (1984), «Песни стихи и стихоидные потоки» (1985). Среди этих «реди-мейдов» встречаются подлинные шедевры:
Хочу как будто между делом
В своем существованье кратком
И не тайком и не украдкой
Хочу быть сильным, хочу быть смелым
И заодно с правопорядком
Хочу
(«Лирико-информационные сообщения» – 4: 142)
Я детства не любил овал
Я с детства просто убивал
Просто убивал
Убивал
Просто
(«Лирико-информационные сообщения» – 4: 141)
Один еврей на свет жил
Красивый и отважный
И это очень важно
Что он евреем был
А то вот русским, скажем
Или б китайцем был
Но он евреем был
И это очень важно
Очень
(«Стихи различной стоимости» – 2: 176)
Мой голос слаб
Да и дар убог
Да и вообще – ослаб
Но видит, видит Бог! –
А чего видит Бог? –
А он все видит, бляди!
(«Читая Пригова», 1986 – 1: 157)
Во всех этих случаях узнаваемые цитаты вместо того, чтобы указывать на определенную зону культурного канона и эстетической иерархии, превращаются в броуновские частицы коллективного политического бессознательного, без особого смысла и без всякой иерархии перетекающие друг в друга. Собственно, так и осуществляется контркультурная революция Пригова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































