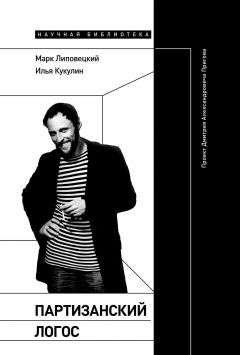
Автор книги: Марк Липовецкий
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
4. Жизнетворчество и перформанс культурных практик
К модернистской и авангардной версиям Gesamtkunstwerk примыкает широкий круг более частных феноменов, направленно разрушающих автономию искусства: от символистского жизнетворчества до лефовского жизнестроительства и конструктивизма с его стремлением превратить искусство в инженерию индивидуальных и социальных практик. С этой точки зрения и приговский перформатизм может быть понят как оригинальная версия модернистских представлений об искусстве как о «творческом раскрытии и преобразовании форм жизни», при котором «художник сознает себя собственной художественной формой, а свою жизнь – творчеством» [Белый 1994: 5]. Не чуждо «стахановцу» Пригову и конструктивистское представление об искусстве как об «интеллектуально-материальном производстве» [Ган 2016: 894], противостоящем «духовному» искусству, взыскующему трансцендентальных ценностей.
Пригов настаивал на том, что описываемый им феномен является специфически современным. Однако даже у такого рефлексирующего автора, как Пригов, насколько можно судить, не было концептуального аппарата для того, чтобы объяснить, чем и почему «художественное поведение» его самого или его современников отличается от жизнетворчества символистов или футуристов. Не было его и у других. Так, Алексей Парщиков в своей магистерской диссертации 1992 года писал о концептуалистах: «…государственному мифу они противопоставляли антимиф, а из собственной жизни творили миф реальный» [Парщиков 2017: 195]. Словно бы невольно столь образованный и тонко рефлексирующий поэт стал использовать терминологию, больше подходящую к посетителям «Башни» Вячеслава Иванова.
При попытке объяснить историческую новизну своего авторского самосознания обычно очень четко формулирующий Пригов словно бы не может довести мысль до конца: «…Ключевой проблемой является проблема авторства. Автор как переводчик с одного текста на другой – вот самое интересное в новой культурной ситуации. Оказалось, что ТЕКСТ – случайная, частная вещь в деятельности АВТОРА. Автор перестал быть видимым. Он стал неразличим – и визуально, и вербально, и поведенчески» [5: 66]. Почему, если автор «перестал быть видимым», он оказывается «самым интересным» «как переводчик с одного языка на другой»? Как соотнести эти мысли?
На наш взгляд, вопрос о том, чем отличается приговский перформатизм (или «художественное поведение») от модернистского жизнетворчества, является одним из важнейших при обсуждении новаторства Пригова, а затруднительность для самого художника исторически контекстуализировать свою работу является глубоко неслучайной[47]47
Показательны работы филолога и авангардной писательницы Екатерины Нечаевой, в которых обсуждение жизнетворческих стратегий Пригова стало основанием для пересмотра имеющегося методологического инструментария истории культуры: Нечаева 2018 и 2018а.
[Закрыть].
Жизнетворчество – это реализация индивидуального эстетического и этического проекта в последовательно реализуемых поведенческих практиках. Идея жизнетворчества предполагает, что его автор приписывает своему поведению двойственное значение: демонстративности и необычности (такое поведение резко отличается от практик большинства) и одновременно – новой нормы (психологические качества, проявленные в новых практиках, в идеале должны стать достоянием большинства людей). Акцент в разные периоды истории культуры ставится либо на первой, или на второй элемент этой семантической пары.
Вопрос о жизнетворчестве в русской культуре как общую проблему начал изучать Ю. М. Лотман [см.: Лотман 1975, 1981, 1987, 1992а, 1992б, 1995в], а вслед за ним – во многом пересматривая его результаты – А. Л. Зорин [2016] и Шамма Шахадат [2017][48]48
Немецкий оригинал этой книги вышел в 2004 году.
[Закрыть]. Все они говорили прежде всего о том, как известные или неизвестные люди в XVIII–XIX веках использовали те или иные программы, коды или модели, уже существующие в культуре, для трансформации своего поведения и через переприсвоение этих моделей делали себя историческими акторами, субъектами социального действия.
Жизнетворчество символистов и футуристов много раз становилось предметом изучения [см.: Богомолов 1993; Paperno and Grossman 1994; Matich 2005; Шахадат 2017]. От предыдущих периодов их жизнетворчество отличается тем, что в нем встречаются различные, если не противоположные, модели. Если символисты вслед за романтиками стремились подчинить собственные биографии и авторские «имиджи» тем представлениям о красоте, которые разрабатывались в их творчестве, то футуристы, напротив, разыгрывали в жизни «антиэстетику» (в виде нарочитых эпатажных выходок), а их последователи, лефовцы называли «жизнестроительством» подчинение творчества требованиям практических и идеологических нужд социалистического строительства. Поэтому изучение жизнетворчества модернистов – по сравнению с аналогичными практиками предшествующих двух столетий – требует более акцентированного внимания к идее сотворения или разыгрывания нового «я». «В искусстве жить подвергается пересмотру граница между телом и текстом. Она нарушается, стирается или прочерчивается заново» [Шахадат 2017: 11], – пишет Шамма Шахадат, автор единственной монографии, в которой центральным предметом исследования сделана эволюция стратегий жизнетворчества на большом хронологическом отрезке, от XVI до начала XX века. Однако большинство исследователей русского модернизма, обсуждавших проблему жизнетворчества, рассматривали ее словно бы на периферии повествования, включая ее в иные контексты[49]49
Среди исключений – авторы уже указанной коллективной монографии Creating Life [Paperno and Grossman 1994], а также Зара Минц и Михаил Лотман: в их статье «Модернизм в искусстве и модернист в жизни» есть специальный раздел «Жизнетворчество» [Минц и Лотман 1989: 86–110] См. также: Максимов 1972; Иоффе 2005; Ioffe 2006.
[Закрыть].
Стратегии жизнетворчества, выработанные в советской и постсоветской ситуации, при попытке изучить их вызывают серьезные методологические проблемы – по-видимому, говорить о них гораздо сложнее, чем о стратегиях, сложившихся на предшествующих этапах развития культуры. Ш. Шахадат доходит до обсуждения «жизнестроительства» – проекта, сформулированного в работах марксистского критика и теоретика искусства Николая Чужака в 1920‐х, но завершает свою книгу словно бы многоточием:
На этом я обрываю свою работу, хотя она могла бы быть продолжена на другом материале – с привлечением ‹…› других эпох (постсоветский концептуализм, искусство перформанса), других национальных культур ‹…› Именно в современную эпоху постпостмодерна, в условиях господства над жизнью медиальных средств, границы между искусством и не-искусством становятся особенно прозрачными и искусству жизни угрожает опасность превратиться в явление, лишенное твердых очертаний ‹…› Все искусство становится сегодня, кажется, искусством жизни [Шахадат 2017: 258].
Согласно Шахадат, в современную эпоху жизнетворчеством становится всё, при этом исследовательница специально обращает внимание на «постсоветский концептуализм». Однако, согласно Пригову, которого Шахадат все же не упоминает, только сегодня художник и становится автором не отдельных произведений, но автономного «типа художественного поведения». По сути, финал книги Шахадат является признанием того, что методологические инструменты, которые она использовала для глубокого и разностороннего описания жизнетворческих стратегий в русской культуре на протяжении огромного временного интервала – с середины XVI века (Иван Грозный) до 1920‐х годов, для описания нынешней ситуации не работают – или, как минимум, требуют некоторого усовершенствования.
Один из возможных вариантов такого усовершенствования может быть произведен на основании работ французского философа, социолога и историка культуры Мишеля де Серто, который предложил различение между тактиками и стратегиями. По его словам, это две принципиально разных логики действия. Первая – это комбинирование различных элементов повседневных практик (предметов, действий и впечатлений) в ассамбляжи, которые реализуют личные цели «простых» людей, не имеющих прямого доступа к институтам власти. Примером тактик являются выбор продуктов в магазине, приготовление пищи или путешествие по городу. Стратегия же «…утверждает [социальное] место, которое может быть очерчено как собственное… ‹…› По этой стратегической модели конструируется политическая, экономическая и научная рациональность» [де Серто 2013: 50]. Стратегия так или иначе имеет отношение к власти: «тактика определяется отсутствием власти, точно так же, как стратегия организуется утверждением власти» [там же, 112].
В современной ситуации – исторически следующей за эпохой «после 1968 года», когда де Серто написал свой труд (он был завершен в 1980 году), – тактики очень часто используются людьми для ежедневного пересоздания и контроля образа «я», например с помощью собственного письма, лайков и перепостов в социальных сетях, выбора интересующей музыки, скачанной из интернета, выбора места и облика для селфи и так далее – все это превращается в формы «менеджмента идентичности». Иначе говоря, различение «своего» и «чужого» и создание «своего» из «чужого» становится практической задачей для очень широкого круга людей. «Стратегами» в создании «самости» считаются прежде всего медийные фигуры, которые именно благодаря своей публичности наделены «местом, которое может быть очерчено как собственное». Современные художники же в этой ситуации оказываются между тактиками и стратегиями или по ту сторону этой дихотомии[50]50
При том, что, насколько можно судить, де Серто опирался на опыт французских ситуационистов.
[Закрыть]: они могут помещать тактики в новые контексты, переосмысливать и проблематизировать их.
Если вспомнить многочисленные стихотворения Пригова 1970–1980‐х годов о домашних заботах, в которые погружен его лирический герой, – в рамках концепции де Серто они будут выглядеть как раз намеренным обыгрыванием повседневных тактик ассамбляжа, доступных советскому интеллигенту. Пригов ничего не знал об исследованиях группы де Серто, но шел в похожей логике понимания повседневности и показал, что те тактики, которые де Серто назвал ассамбляжем, «строительством из чужих кусочков», могут быть объективированы, описаны и – что самое для нас ценное – эстетизированы и поэтизированы.
А в чем состоит приговская стратегия? Об этом он говорил настойчиво и с педагогическим упорством.
В беседе с Сергеем Гандлевским (1993):
Я так понимал, что вообще у искусства основная задача, его назначение в этом мире – явить некую со всеми опасностями свободу, абсолютную свободу. На примере искусства человек видит, что есть абсолютная свобода, не обязательно могущая быть реализованной в жизни полностью. ‹…› Я хотел показать, что есть свобода. Язык – только язык, а не абсолютная истина, и, поняв это, мы получим свободу [5: 65].
В речи по случаю присуждения Пушкинской премии (1993):
…Миссией художника является свобода, образ свободы, тематизированная свобода не в описаниях и толкованиях, но всякий раз в конкретных исторических обстоятельствах, конкретным образом являть имидж художника, инфицировавшего себя свободой со всеми составляющими ее предельности и опасности. ‹…› …именно артикуляция свободы (во всяком случае в наше время) является точкой, стягивающей на себя все остальное и являющей через себя все остальное [5: 15].
В другом интервью, уже во второй половине 1990‐х (данном Оксане Натолоке), Пригов повторяет ту же мысль, вводя, возможно, важнейшее для понимания его проекта определение актуального искусства, а вернее, того, как актуальное искусство воздействует на социальные и культурные практики: «Актуальное искусство занимается поиском конституированного нового типа поведения художника в обществе. Вот, скажем, каждое время художник являет запредельную свободу, он, собственно, для этого и поставлен – являть ту свободу, которая в жизни опасна и которой нужно показать предел» [5: 85; курсив наш. – М. Л., И. К.].
Таким образом, стратегической целью приговского жизнетворчества – его перформатизма – является манифестация свободы. Пригов говорит о «демонстрации» свободы поведения, и о ее «артикуляции» и «тематизации», и об обнажении ее пределов. В этом смысле его проект, в сущности, мало чем отличается от модернистских образцов жизнетворчества. Отличие начинается там, где Пригов говорит о «конституированных» и «типизированных» формах запредельно свободного поведения художника. Пригов подчеркивает, что его интересуют не индивидуальные или эксцентрические манифестации свободы, а только те, которые в конечном счете могут быть нормализованы:
ДАП: Скажем, в пределах языка какой-то человек являет свободу, но через уже десять лет эта свобода языкового поведения становится нормой и культурным этикетом.
Натолока: Некое элитарное становится популярным?
ДАП: Ну, просто оно становится культурой. Все художники соотносятся друг с другом одной интенцией – явить свободу поведения. И на их вещах это запечатлевается. Все, что воспроизводится, этикетно – видно, что оно этикетное. [5: 85]
Иначе говоря, запредельная опасная свобода, проявленная поведением художника, интересует Пригова как особого рода язык, «грамматику» которого он формулирует в своем творчестве. И дальней стратегической целью для него является культурная нормализация явленной им свободы как практики. Таким образом, по сравнению с историческим авангардом, Пригов изменяет «модальность» жизнетворчества: речь не идет ни об утопическом моделировании новых социальных отношений, ни о революционном разрушении всего того, что представляется абсурдным, а о нормализованных практиках «запредельной свободы», которые в конечном счете могут оказать воздействие на культуру в целом.
Правда, сам Пригов считает, что он следует примеру исторического авангарда, а именно – Малевича.
И в визуальном творчестве Пригова, и в его манифестах постоянно присутствуют отсылки к Малевичу. Так, в частности, в предуведомлении к своей выставке «Вагина Малевича» (Русский музей, 2000) Пригов писал:
В европейской культуре (да и не только европейской) два имени, вернее, два произведения стали как бы символами высокого, почти божественного искусства – Мона Лиза и Черный квадрат. ‹…› Именно они, претерпев наибольшее количество масс-медийных и художнических манипуляций, до сих пор сохраняют свое нетронутое величие, метафизическую мощь и магическую таинственность. ‹…› Помимо визуального образа давно уже бытует их словесный вариант, род некой отдельной и самостийной магической заклинательной вербальной формы – МОНА ЛИЗА и ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ [5: 678].
Для Пригова Малевич был одновременно и символом максимальной апроприации искусства консюмеристской культурой, и родоначальником актуального искусства.
Пример Малевича важен для Пригова именно потому, что в нем соединились два, по его мнению, контрастных типа эстетического высказывания. При этом оба связаны с выходом за пределы автономии искусства. Унаследовав от исторического авангарда представление о воздействии искусства на культурную, а шире – социальную среду (представление, заметим, нехарактерное для нонконформистских художественных кругов в целом[51]51
Ср. самоописание В. Сорокина: «Сформировался как литератор я в московском андерграунде, где хорошим тоном считалась аполитичность. Я помню притчу, которая ходила из уст в уста: когда немецкие войска входили в Париж, Пикассо сидел и рисовал яблоко… Такой была и наша позиция: сиди и рисуй свое яблоко, независимо от того, что происходит вокруг. И так я жил, пока мне не исполнилось 50 [т. е. до 2005 года]» [Сорокин 2007].
[Закрыть]), Пригов различает два противоположных способа вторжения эстетической деятельности в практическую жизнь. В приговской терминологии это «актуальное искусство» и «культура». Под последней он понимает рутинизацию, трансформирующую былую трансгрессию в норму и этикет. Апофеозом превращения актуального искусства в «этикет» становится то, что Пригов называет «художественным промыслом» (см. выше). Однако сам Пригов свое актуальное искусство создает из материала «культуры» (или «художественного промысла»):
…я-то пытаюсь работать внутри не традиции вообще, а в сугубо отрефлектированной литературной традиции, причем именно русской, в которой зафиксировано очень немного типологически чистых поэтических поведений. Предположим, можно выделить «пушкинское», «тютчевское», «блоковское», «женское» лирическое поведение. Ошибка в том, что пытаются разгадать: а кто это? Я иногда работаю на смеси имиджей, не обязательно знать: вот это чистый Тютчев. Действительно, я работаю с рифмой, у меня есть внутреннее чутье ритма, размера, конечно, – практически я пишу стихи. Но в той же малой зоне, где и живет различие, там моя работа полностью отличается от поэтической деятельности [Зорин 2010: 436].
Более того, он стремится к тому, чтобы, подобно Малевичу, вторгаться в зону «культуры», чтобы закрепить свой дискурс в виде узнаваемо-рутинизированных жестов – чтобы с первых слов было понятно, что это – Пригов.
Логика Пригова становится понятнее в контексте современных теорий (дискурсивных) практик, разработанных наряду с де Серто Пьером Бурдье, а также Б. Латуром, Л. Болтански и Л. Тевено и другими авторами[52]52
См. обзор этих теорий в кн.: Волков, Хархордин 2008.
[Закрыть]. Теории практик противостоят как семиотике, придающей верховный смысл надличным культурным моделям, так и постструктуралистскому «текстоцентризму». В центре внимания исследователей социальных, культурных и дискурсивных практик оказывается область «рутины», которая обеспечивает «символическую организацию реальности» [Reckwitz 2002: 251]. Как продемонстрировал Бурдье, практики представляют собой «полуосознанную грамматику», реализуемую через «настоящее искусство перформанса» [Bourdieu 2010: 20].
В целом концепции практики так или иначе могут быть возведены к представлениям позднего Людвига Витгенштейна о том, что элементы языка приобретают смысл только в процессе употребления; практики как раз и могут быть описаны как процессы, в ходе которых отдельные элементы человеческой деятельности, в том числе и языковой, наделяются конкретным смыслом[53]53
Благодарим за консультации Виктора Вахштайна.
[Закрыть]. Неслучайно, говоря о теориях позднего Витгенштейна, М. де Серто обосновывает практическую деконструкцию универсальных (метафизических) категорий, происходящую в обыденной жизни:
«Будучи пойман» внутрь обыденного языка, философ больше не имеет собственного или присваиваемого себе места. Для него недоступна любая позиция господства. Анализирующий дискурс и анализируемый «объект» имеют один и тот же статус: тот и другой организуются деятельностью, свидетелями которой они являются, определены правилами, которые они не устанавливают и не могут четко осознать, в равной мере рассеяны в различных способах функционирования (Витгенштейн хотел, чтобы самое его произведение состояло только из фрагментов)… Философская или научная привилегия теряется в обыденности. Следствием этой потери является упразднение истин. Из какого привилегированного места они могли бы получить свой смысл? Таким образом, мы имеем факты, которые больше не являются истинами [де Серто 2013: 76].
Переводя свободу на уровень практик, Пригов лишает ее метафизического смысла. Его перформатизм, таким образом, парадоксальным образом утверждает свободу, не придавая ей значение истины (но и не снимая ее ценности!) и не манифестируя позицию власти. Перформатизм, понятый как систематическая практика свободы, оказывается глубоко постмодернистским феноменом. Свобода, реализованная как практика, воплощает прежде всего свободу от метанарративов, от авторитетных дискурсов и истин: «Язык – только язык, а не абсолютная истина».
Стратегия, как полагает Серто, всегда связана с отношением к власти. Но при таком стратегическом жизнетворчестве это отношение не может быть ничем, кроме критики, – и Пригов прямо об этом и говорил:
…интеллектуал (пусть в моем, скажем, конкретном виде и образе он выйдет что и поглупее вышеназванных) – это не просто умная и образованная человеческая личность, но некое такое специально выведенное существо для проверки и испытания на прочность всевозможных властных мифов и дискурсов. Как, скажем, собака, натасканная на наркотики. В этой должности нет никакой ущербности и никаких преимуществ перед другими. Просто должно быть понятие добровольно принятого на себя служения, культурная вменяемость и соответствующие нормы профессиональной или, вернее, корпоративной этики, если такая существует и может существовать в наше время. И, скажем, переход на службу во власть или добровольное служение ей (не будем судить, хорошо это или плохо, во многом оно зависит еще от сути самой власти) при всей твоей неземной образованности и бесподобном уме выводит тебя за страту интеллектуалов. Их судьба – испытывать социокультурные проекты. А ты уже подрядился обслуживать какой-то один из них [ «Постовой», 1: 597][54]54
Это высказывание Пригова очень близко к идеям классической книги Жюльена Бенда «Предательство интеллектуалов» (1927), вышедшей по-русски уже после смерти художника – в 2009 году. Возможно, Пригов знал о концепции Бенда из пересказа в одной из прочитанных им книг или из английского перевода этой работы.
[Закрыть].
Другой этический принцип, связанный со стратегией практической свободы, предполагает у Пригова «проблематичность личного высказывания, его невозможность» [Балабанова 2001: 119]. Так Пригов определял «основной пафос постмодернизма» (там же), но смысл этого принципа явно шире. Говоря о круге близких ему художников, Пригов использует тот же критерий: «…у нас была принципиально другая установка. Она была очень релятивистская, и мы, невольно критикуя чужие дискурсы и Большой советский дискурс, пришли к тому, собственно, что характеризует постмодернизм, – к сомнению в собственном высказывании… То есть критика любого дискурса естественно ведет к сомнению в собственном высказывании» [там же, 87]. В другом месте он добавляет, явно имея в виду свое собственное творчество: «…ощущение необязательности собственного высказывания для другого, нетотальность его. Поэтому на границах перехода одного высказывания в другое возникает тип иронии, которая есть знак относительности высказывания» [там же, 28]. По этому признаку Пригов, например, различает концептуалистский круг и «шестидесятников», однако при этом вводит характерную оговорку о Всеволоде Некрасове, одном из признанных лидеров литературного концептуализма[55]55
Подробно вопрос о сходствах и расхождениях между Приговым и Некрасовым обсуждается в главе 1 Части III.
[Закрыть]. Объясняя причину их расхождений, Пригов говорит: «Проблема в том, что он не понимает и [не] предполагает, что его язык – это его язык. Он убежден, что он говорит на всеобщем правильном истинном языке» [там же].
Нет ли противоречия между этими этическими принципами и практиками свободы со всеми опасностями? Думается, нет, поскольку Пригов выводит эти принципы как последовательное развитие именно идеи свободы – как обеспечивающих «чистоту» его жизнетворческого эксперимента.
Итак, перформатизм Пригова – это особый вид жизнетворчества, который ориентирован на производство практик свободного поведения и самоопределения и который вбирает в себя и подчиняет себе все формы творчества автора. Перформатизм преследует стратегические цели и стремится размыть границу между эксцентричным и типичным, вписывая эксцентричные жесты в «грамматику» культурных практик.
Что дает взгляд на все творчество Пригова как масштабный перформанс культурных практик? Приведем несколько примеров.
Оперируя «отрефлектированными литературными традициями» или формализованными идеологическими конструкциями, Пригов также понимает их как дискурсивные практики[56]56
Практики организованы как язык, хотя «в теории практик ‹…› дискурс и язык теряют свое всевластие. Дискурсивная практика – всего лишь одна из многих. ‹…› Дискурсивные практики также включают в себя язык тела и рутинизированные ментальные жесты – способы понимания, технологии (сюда входят грамматические и прагматические правила языка), мотивации – а также связанные с этими практиками объекты (от звуков до компьютеров) ‹…› Концепция дискурсивных практик не предполагает „передачи значений от я к другому“ – каждая практика уже заключает в себе рутинизированный, несубъектный способ понимания, так, передавать попросту нечего…» [Reckwitz 2002: 254, 255].
[Закрыть], со своими бессознательно воспроизводимыми грамматикой и стратегией, которые он комически обнажает. Или, как говорит сам Пригов в предуведомлении к «241 платоническому диалогу» (1977): «Я пишу не отдельные стихи. Я пишу поэтическое пространство» [Prigov 3: 5]. Теория практик также объясняет, почему он так настойчиво стремится выйти за пределы традиционно понимаемого словесного искусства: во-первых, потому что дискурсивные практики принципиально не отличаются от иных культурных практик, во-вторых, потому что, как и любые иные практики, они в принципе могут быть реализованы только перформативно. Отсюда – приговские «кричалки» и «оральные кантаты», «гробики» отвергнутых стихов, сборники «вырванных, выдранных, выброшенных, измятых, истертых и поруганных стихов». В этом смысле, безусловно, его стихотворчество было для него не поэзией как представлением сугубо индивидуального, уникального мировосприятия, а методом письма (ср. близкий по смыслу термин l’ecriture, который использовали Ж. Деррида и Ж. Лакан) – процесса, выявляющего бессознательное, скрытое в практиках языка и культуры.
Одна из приговских перформативных практик состояла в том, что он и самого себя, и большинство знакомых всегда называл по имени и отчеству. В 1970‐е такое именование ассоциировалось с формальными правилами в научной, школьной или советско-бюрократической среде и резко противоречило речевой норме большинства интеллигентов, которые именно для демонстрации неформальности и приватности предпочитали называть себя и знакомых не просто по именам, но и в их уменьшительной форме. Эта норма была описана в известном стихотворении Александра Кушнера 1986 года:
Эта манера Пригова имела смысл не только нарушения конвенций – она проблематизировала любое интеллигентское представление о «неформальности», скрыто отсылающее к представлению о том, что называющие друг друга по именам входят в «публики своих», как их впоследствии описал Алексей Юрчак [Юрчак 2014: 248–254]. Тем самым реализовывалось стратегическое значение его жизнетворчества – так осуществлялась свобода даже от «своего круга».
Еще более отчетливо и еще более демонстративно превращение литературы в перформанс культурных практик было осуществлено Приговым в его монументальном проекте ежедневного письма, ежедневного создания одного или нескольких стихотворений – т. е. в буквальном превращении актуального искусства в совокупность практик, состоящих, с одной стороны, из рутинных жестов, а с другой – из колоссального, не поддающегося освоению количества текстов-манифестаций. Причем в том глобальном контексте модернистски-авангардной культуры, в котором Пригов себя и мыслил, различия между литературой и «жизнью» незначительны, и потому «перформанс литературности» – это в равной степени перформанс существования, в первую очередь социального. Огромное количество стихотворений, которые написал Пригов, создавая их в ежедневном режиме, важно именно не как тексты, а как практика, которая и должна быть ежедневной (или, по крайней мере, регулярной) и состоять из в принципе неисчислимого количества однородных, но не идентичных феноменов. «Пригов называл творчество „убиением времени жизни“, – замечает М. Рыклин, – и расшифровывал это определение следующим образом: посредством многолетней художественной практики творческий организм приучается „реализовывать себя в узком диапазоне жизнепроявлений“. Никакой другой цели у практики нет» [Рыклин 2010: 84]. Радикальность этого проекта «олитературивания повседневной жизни», аукающегося и с Розановым, и с Хармсом, не вызывает сомнений.
Таким образом, одной из центральных задач актуального искусства в концепции Пригова становится перформативная критика культурных и дискурсивных практик, формирующих общество и обусловливающих неосознаваемые, скрытые нормы и репрессии. Перформанс дискурсивных практик – это наиболее близкий к самим практикам, изоморфный им, способ их художественной репрезентации и критики. В творчестве Пригова перформатизм становится не «концом постмодернизма», как интерпретирует его Рауль Эшельман [см.: Eshelman 2008], а новой ступенью в развитии постмодернистской культуры.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































