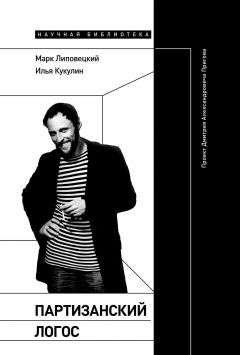
Автор книги: Марк Липовецкий
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Со второй половины 70‐х Милицанер стал узнаваемой эмблемой Пригова: недаром он сам нередко выступал в милицейской фуражке, часто и охотно исполнял стихи о Милицанере, с ощутимой самоиронией помещая этот образ рядом с классическими эмблемами поэзии:
Где с ласточкой Катулл
Со снегирем Державин
И Мандельштам с доверенным щеглом
А я с кем? – Я с Милицанером милым
Пришли, осматриваемся кругом
Я легкой тенью, он же – с тенью тени
А что такого – всяк на свой манер
Так все – одно! Ну, два!
Там просто все мы – птицы
И я, и он, и Милицанер
[2: 250]
Первые стихи о Милицанере появляются у Пригова в 1976‐м и сохраняются в его поэзии до 1985 года. Помимо «титульных» сборников «Апофеоз Милицанера» (1975–1980), «Милицанер и другие» (1978), «Пятая тысяча, или Мария Моряк Пожарный Еврей и Милицанер» (1980), стихи с этим персонажем встречаются и в таких сборниках, как «Кровь и слезы и все прочее» (1980), «Ну, бля, обще!» (1981), «Рождение стиха из духа диалога» (1981), «На уровне здравого смысла» (1982), «Стихи о высоком и печальном» (1982), «Одна тысяча дробящихся мелочей» (1982), «Апокалиптические видения внутри стиха» (1983), «Фантасмагории обыденной жизни» (1983), «Искусство принадлежать народу» (1983), «Лирико-информационные сообщения» (1983), «Стихи переходного периода» (1983), «Звери и люди» (1983), «Хвостатые стихи» (1984), «Превышение истины на один градус» (1985), «Стихи как воля и представление» (1985).
В предуведомлении к сборнику «Милицанер и другие» Пригов называет образ Милицанера в уже сложившемся корпусе текстов «как бы» мифологическим героем:
…мы имеем дело с героем как бы мифологическим. И они даже предпочтительны, эти как бы мифологические герои, и вовсе не потому, что необычное для искусства вроде бы предпочтительно (мы ведь не гении, которые парадоксов други). Как раз наоборот – этими героями полны любые культуры, а идеологически преизбыточные так и вовсе актуализуют любого мало-мальского потенциального мифологического героя, основных же воздвигая до небес. Собственно, таким и предстает мой Милицанер, являющийся символом государственности, соединяющий «чистое», «небесное» с его земным, увы, не всегда совершенным воплощением (в наукообразной литературе подобных героев именуют медиаторами, назовем и мы его так). Один вполне реальный милиционер на моем выступлении сначала имел ко мне претензии по поводу своих сослуживцев, но после моих подобного рода объяснений перестал держать на меня обиду [2: 237].
В «Словаре терминов московской концептуальной школы» Пригов уже придает Милицанеру значение термина: «МИЛИЦАНЕР – носитель идеи небесного государства и государственности и медиатор между государством земным и небесным, поскольку идеи земного государства невоплотимы, он есть герой культурный, страдающий» [Словарь 1999: 194].
Именно мифологический герой, сконструированный по образцу героев советской «идеологически преизбыточной» культуры, превращает весь комплекс «советских» текстов Пригова в символический акт – как наиболее явный уровень политического бессознательного (Джеймисон описывает любой литературный нарратив именно как «символический акт», говорящий о политическом бессознательном). Вместе с тем обращает на себя внимание приговское «как бы» по отношению к Милицанеру. Оно указывает на перформативный характер приговского мифа – это именно перформанс мифологии, подтверждающий и одновременно подрывающий основания политического бессознательного. Поэтому стихи о Милицанере в гротескной форме обобщают символический смысл других аспектов приговской модели советского политического бессознательного и в то же время предлагают глубокую деконструкцию советского мифологического универсума. «Зеркальным» двойником Милицанера становится Рейган из цикла «Образ Рейгана в советской литературе» – как советский образ дьявола[98]98
О соотношении цикла стихов о Милицанере, а также цикла «Москва и москвичи» с советским дискурсом см.: Добренко 2010.
[Закрыть].
Исполняя стихи о Милицанере, Пригов неизменно начинал со стихотворения «Когда здесь на посту стоит Милицанер…» (1976) – очевидно, центрального для всего квазимифа о Милицанере:
Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внуково простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер
И пустота за ними открывается
И центр, где стоит Милицанер –
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милицанер
С Востока виден Милицанер
И с Юга виден Милицанер
И с моря виден Милицанер
И с неба виден Милицанер
И с-под земли…
Да он и не скрывается
[2: 238]
Слово «здесь» в первой строке в сочетании с «Внуковым» указывает на точку, из которой смотрит наблюдатель: это московский район Беляево, конкретно – тот микрорайон, где жил Пригов, недалеко от Ленинского проспекта. За Московской кольцевой автодорогой Ленинский проспект переходит в Киевское шоссе, прямо ведущее к аэропорту Внуково. Однако после указания на эту характерную для Пригова «домашнюю семантику» в стихотворении появляются Восток и Запад, море, небо и, наконец, загробный мир («с-под земли…»). Беляево оказывается не столько конкретным районом Москвы, сколько центром мифологической вселенной[99]99
Эта метафоризация конкретного локуса напоминает пародийное развитие традиции неомифологической модернистской прозы, для которой было характерно придание универсального смысла конкретным хронотопам: «Во всем мире не найдешь городка ближе к Бучачу, чем Язловиц…» (Ш. Й. Агнон, «В сердцевине морей», пер. И. Шамира). Город Бучач и село Язловец и сегодня существуют в Тернопольской области Украины.
[Закрыть]. Но, кажется, это единственное внутреннее противоречие, которое обнаруживает это стихотворение.
Перед нами словесная статуя или фреска Милицанера как символа власти. Он возвышается, как сказано в другом стихотворении того же цикла, «как столп и символ Государства» («Какой убыток Государству» – 2: 247). Однако в этом стихотворении заключено и неявное противоречие: 13-строчное одическое описание посвящено не солидному милиционеру, а фонетически (разговорно) деформированному «Милицанеру» и написано почти целиком на две рифмы – причем обе тавтологические: «Милицанер» (строки 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11) и «открывается» (строки 2, 4, 6). Вторая рифма чуть изменяется в последней строке, которая разбита на две короткие. В 13‐й «открывается» превращено в «не скрывается». Это сбой, но странный – ожидается парадокс, предполагается сдвиг, способный расшатать монотонность описания, однако он отсутствует, и монотонность лишь укрепляется. Тот же принцип повторяется и на уровне композиции. Стихотворение кажется симметрично разбитым на два сегмента: о том, что видит Милицанер, и о том, откуда он виден. Однако вместо оппозиции перед читателем – тавтология, обнажаемая как раз последней строчкой: «да он и не скрывается».
Таким образом, композиция этого текста парадоксальна: скрытое противоречие состоит именно в том, что высказывание о центральной позиции фигуры, олицетворяющей власть, исключает, а вернее, скрывает всякую противоречивость и в объекте описания, и в самом высказывании, которое в итоге оказывается тавтологичным. Власть занимает центральную позицию, потому что она ее занимает. Примитивность этого умозаключения и подчеркнута тавтологическими рифмами. Именно таким образом происходит в стихотворении Пригова «воображаемое разрешение реального противоречия… [порождающее] чисто формальные модели как символическое воплощение социального внутри эстетического» [Jameson 1981: 77].
Победа тавтологии над противоречием обнажает важнейший парадокс советского политического бессознательного: власть и государство воспринимаются здесь не в политических (социальных, исторических), а в метафизических/мифологических (небо и преисподняя) и природных категориях. Образ власти в лице Милицанера вынесен за пределы политического и социального: он расположен в зоне чистого мифа.
Потому-то и в других стихотворениях цикла встречаем такие характеристики главного героя: «Милицанер же представляет / Бессмертное самим собой» («Солдат – он мертвый по определенью…» – 2: 161); «константен меж небом и землей» («Вот, говорят, Милицанер убийцей был» – 2: 163), «…Встает равнодостойным Римом / И даже больше – той незримой / Он зримый высится пример / Государственности» («Теперь поговорим о Риме» – 2: 244); «И суток вечное вращенье / И лета в осень превращенье/ На нем не оставляют мет…» («А вот стоит Милицанер» – 2: 158).
Милицанер, таким образом, представляет высший космический порядок, а пустота – хаос; однако к хаосу, по логике стихотворения, относится все, что не Милицанер. Эта логика с комической прямотой развернута в другом знаменитом стихотворении:
Вот придет водопроводчик
И испортит унитаз
Газовщик испортит газ
Электричество – электрик
Запалит пожар пожарник
Подлость сделает курьер
Но придет Милицанер
Скажет им: Не баловаться!
[2: 248]
Показательно, что здесь представитель каждой профессии, кроме милицейской, портит именно то, за чем должен следить. Поэтому порядок, представленный водопроводчиком, газовщиком и электриком, неотличим от хаоса. И лишь Милицанер выполняет свою функцию, выступая единственным взрослым по отношению к непослушным шалунам: «Но придет Милицанер / Скажет им: Не баловаться!» По отношению к самому Милицанеру «взрослым» оказывается только Бог:
Фуражку с головы снимает
И смотрит вверх и сверху Бог
Нисходит и целует в лоб
И говорит ему неслышно:
Иди, дитя, и будь послушным
(«А вот Милицанер стоит…», 2: 241)
Ось мифологического мироустройства, воплощенная Милицанером, предполагает функции медиатора. Как об этом пишет сам Пригов в предуведомлении к сборнику «Милицанер и другие»: «Бросается в глаза, что при выполнении своей функции медиатора Милицанер на вертикали, соединяющей небо и землю, встречает всяческих врагов (иногда просто не ведающих, что творящих). Это есть, так сказать, динамика, драматургия раскрытия, становления его образа» [2: 237]. И действительно, на первый взгляд Милицанер соединяет Восток и Запад, небо и загробный мир, море и сушу. Однако все эти миры оказываются пустыми: «На Запад и Восток глядит Милицанер, и пустота за ними открывается». Вместо того чтобы наделять мир вокруг себя смыслом, Милицанер обнажает его пустоту.
Абсолютный центр, наделенный абсолютной властью, таким образом, воплощает порядок пустоты, в котором угадываются первые шаги по направлению к «пустотному канону» следующего поколения концептуалистов[100]100
«Пустотный канон» – одно из центральных, но так и недоопределенных окончательно понятий в языковых практиках группы «младших концептуалистов» «Медицинская герменевтика». «Пустотный канон» – название двухтомного собрания эссе и записей диалогов «медгерменевтов», вышедшего в 2014 году.
[Закрыть]. Мир, подчиненный такой власти, мир, в котором противоречия подменены тавтологиями, превращается в пустыню.
Скрытая разрушительность беспроблемной власти Милицанера видна и в других стихотворениях этого цикла. Например, «В буфете Дома литераторов», заканчивающемся известной строфой:
Он представляет собой Жизнь
Явившуюся в форме Долга
Жизнь кратка, а искусство долго
И в схватке побеждает жизнь
[2: 242]
Комически перифразируя латинский афоризм Vita brevis, ars longa, «автор» стихотворения не замечает, что победа жизни над искусством, якобы явленная Милицанером, оказывается неотличимой от победы смерти. Недаром в другом стихотворении «автор», еще более искажая латынь, называет своего героя «свидетелем момента мори» («Как страсти мучают людей» – 2: 246). В перифразе «Августа» Пастернака строки «В лесу казенной землемершею / Стояла смерть среди погоста» превращаются в «Стояла смерть Милицанершею / Полна любви и исполненья долга» [2: 251], то есть смерть и Милицанерша оказываются метафорическими эквивалентами.
Иначе говоря, в стихотворении «Когда здесь на посту стоит Милицанер…» суммированы многие мотивы «милицейского цикла», поэтому и выводы, вытекающие из его анализа, могут быть перенесены на весь цикл. «Символический акт», воплощенный этим стихотворением – и всем циклом, – уравнивает фигуру власти с тавтологией, метафизической неподвижностью и, в конечном счете, пустотой и смертью. Этот эффект тем более парадоксален, что на первом плане комедийное прославление Милицанера/власти. Александр Скидан указывает на сходство метода Пригова с тем, что в современном искусстве называется subversive affirmation [Скидан 2010: 125] – подрывным утверждением[101]101
Об affirmative subversion см.: Arns and Sasse 2005.
[Закрыть]. Однако важно подчеркнуть, что подрыв, осуществляемый Приговым, идет значительно дальше политической критики режима, поскольку его утверждение носит скорее философский, чем политический характер.
В сущности, Милицанер может быть понят как символ логоцентризма – центра, структурирующего бинарные оппозиции. А следовательно, перед нами деконструкция метафизики центра, осуществленная изнутри метафизического же дискурса. Так писал Деррида – и эта характеристика подходит приговскому Милицанеру:
В функции… центра входило не только ориентировать или уравновешивать, организовывать структуру – на самом деле, невозможно мыслить структуру неорганизованной, – но и, главным образом, добиться того, чтобы принцип организации структуры положил предел тому, что можно было бы назвать ее игрой… В качестве центра он является той точкой, в которой подмена значений, элементов, терминов более невозможна… Понятие центрированной структуры является на самом деле понятием обоснованной игры, установленной на основе неподвижности и успокоительной, от игры уже избавленной достоверности» [Деррида 2000: 352–353].
Именно такой «от игры уже избавленной достоверности» и соответствует пустота, открывающаяся под взглядом Милицанера, и смерть, им в конечном счете репрезентируемая. Таким образом, subversive affirmation Пригова, или, иначе говоря, его игра, состоит именно в утрированно гротескном прекращении игры, и прежде всего игры с бинарными оппозициями, которые предстают застывшими навеки – и оттого пустыми.
Показательно и то, что абсолютный центр – сам Милицанер и репрезентируемая им власть – исключены из зоны ими же охраняемых законов. Например, о Милицанере говорится: лишь «метафизического он достоин наказанья» («Вот, говорят, Милицанер убийцей был» – 2: 163) – то есть воплощая закон, сам находится вне его действия. По мысли Деррида, понимание этого парадокса является ключом к деконструкции любой логоцентрической системы:
…центр, который по определению единственен, составляет в структуре как раз то, что структурой управляя, от структурности ускользает. Вот почему в рамках классического осмысления структуры можно парадоксальным образом сказать, что центр и в структуре, и вне ее. … Центр – это не центр. Понятие центрированной структуры – хотя оно и представляет согласованность как таковую, условие эпистемы… – согласовано весьма противоречиво» [там же, 253].
Аналогом Милицанера как материализованного логоцентризма становится Москва из цикла «Москва и москвичи» (1982). Если, по выражению Е. Добренко, «главной функцией [Милицанера] является пространствообразующая» [Добренко 2010: 362], то Москва и есть пространство, на которое распространяется власть Милицанера. Не случайно пустота, открывающаяся за пределами взгляда Милицанера, упоминается и в связи с Москвой: «Где ж нет Москвы – там просто пустота» («А вот Москва эпохи моей жизни» – 2: 230). Москва в приговском цикле, по определению того же исследователя, – это «метафизический топоним» [там же, 403]. Можно сказать и иначе: Москва в приговском цикле становится носителем всего того, что характеризует метафизику центра, присутствия и истины:
Уж лучше и совсем не жить в Москве
Но просто знать, что где-то существует
Окружена высокими стенами
Высокими и дальними мечтами
И взглядами на весь окрестный мир
Которые летят и подтверждают
Наличие свое и утверждают
Наличие свое и порождают
Наличие свое в готовом сердце –
Вот это вот и значит: жить в Москве
[2: 231]
Жить в Москве в соответствии с этим пониманием невозможно, как невозможно постоянное «пребывание в истине», бытовое совпадение с трансцендентальным означаемым. Можно только знать о наличии истины или (в негативном сценарии) подозревать что истина (т. е. Москва) злодейски спрятана от людей: «Они Москву здесь подменили / И спрятали от бедных москвичей / И под землей / Она сидит и плачет…» (2: 229). Материализованный образ вечной и надысторической истины, Москва вбирает в себя не только русскую историю (вернее, как показал Добренко, советский исторический нарратив), но и «логосы» всех культур и цивилизаций: «Вся в куполах и башенках стоячих / Вся в портиках прозрачных Парфенона / И в статуях прямых Эрехтейона / И в статуях огромных Эхнатона / И в водах Нила, Ганга и Янцзы» (там же). Или:
Когда на этом месте Древний Рим
Законы утверждал и государство
То москвичи в сенат ходили в тогах
Увенчанные лавровым венком
Теперь юбчонки разные да джинсы
Но тоже ведь – на зависть всему свету
И под одеждой странной современной
Все бьется сердце гордых москвичей
[2: 232]
Связь с этой метафизической Москвой – вечной истиной – возможна лишь посредством слова (т. е. опять же логоса), чем и определяется роль поэта, обеспечивающего эту тавтологическую связь:
Бывает, невеселые картины
Ум москвичей зачем-то навещают
Бывает, кажется им, что зима
Что снег кругом, что лютые морозы
Но важно слово нужное найти –
И все опять исполнено здесь смысла
И москвичи потомство назидают
[2: 232]
* * *
Но нет, Москва бывает, где стоим мы
Москва пребудет, где мы ей укажем
Где мы поставим – там и есть Москва!
То есть – в Москве
[2: 231]
* * *
Когда Москва заводит песню
И страшным голосом поет
То кто ее перепоет
Тем более, что в этом месте
Пожалуй я – я не боюсь
В самодовольстве оказаться
Вот в другом месте оказаться –
Пожалуй вот что и боюсь:
Оттуда уж не перепоешь
[2: 228]
Как следует из последнего из приведенных текстов (первого в сборнике), способность поэта быть глашатаем вечной и абсолютной истины, воплощением которой является Москва, в соответствии с логикой тавтологий следует из его нахождения в Москве, в которой находиться невозможно!
О том, что связь между Милицанером, Москвой и логоцентризмом не случайна, свидетельствует и такое стихотворение из «Апофеоза Милицанера»:
Страна, кто нас с тобой поймет
В размере постоянной жизни
Вот служащий бежит по жизни
Интеллигент бежит по жизни
Рабочий водку пьет для жизни
Солдат стреляет ради жизни
Милицанер стоит средь жизни
И говорит, где поворот
А поворот возьми и станься
У самых наших у ворот
И[102]102
Вариант: «А поворот уходит в вечность…».
[Закрыть] поворот уходит в вечность
Народ спешит-уходит в вечность
Ученый думает про вечность
Вожди отодвигают вечность
Милицанер смиряет вечность
И ставит знак наоборот
И снова жизнь возьми и станься
У самых наших у ворот
[2: 240–241]
В этом тексте Милицанер управляет не только «размером постоянной жизни», но и ходом текста, описывающего эти отношения. Если первая часть стихотворения почти полностью строится на тавтологической рифме «жизни», то вторая – симметрично – подчинена рифме «вечность». Но превращение жизни в вечность осуществляется с помощью милицейскогоъ жезла: «Милицанер стоит средь жизни / И говорит, где поворот / А поворот возьми и станься / У самых наших у ворот». В финале стихотворения Милицанер совершает противоположный жест, превращая вечность в жизнь (т. е. повседневность) – и одновременно возвращая к началу стихотворения: «Милицанер смиряет вечность / И ставит знак наоборот / И снова жизнь возьми и станься / У самых наших у ворот».
Милицанер, таким образом, переключает повседневное в вечное и обратно. Казалось бы, таким образом утверждается жесткая бинарная оппозиция между «жизнью» и трансцендентной «вечностью» или, в других терминах, бытом и бытием. Однако по логике стихотворения оказывается, что граница между бытовым и трансцендентным полностью определяется фигурой власти, а значит, целиком зависит от «центра», который сам этой дихотомии, разумеется, не принадлежит. Более того, механическое переключение с одного полюса на другой переводит эту «вненаходимость» Милицанера в игрушечное измерение.
Разница между бытом и бытием оказывается полностью укорененной в языке. В сущности, переход от одного «онтологического» измерения к другому в стихотворении Пригова тождественен смене одного набора идиом на другой: «бежит по жизни», «пьет для жизни», «ради жизни», «стоит средь жизни» заменяется на «уходит в вечность» (дважды), «вперяясь в вечность», «думает про вечность», «отодвигает вечность», «смиряет вечность». Осуществляемое Милицанером переключение синхронно происходит и в тексте стихотворения, что наглядно демонстрирует полное совпадение «означаемого» и «означающего», знака и референта, текста и мира.
Аналогично, в стихах из цикла «Образ Рейгана в советской литературе» (1983) все дьявольские козни Рейгана против советских людей разрешаются комически-беспроблемным переключением из языкового (символического) регистра в онтологический и обратно:
Не хочет Рейган свои трубы
Нам дать, чтобы советский газ
Бежал как представитель нас
На Запад через эти трубы
Ну что ж
Пусть эта ниточка порвется
Но в сути – он непобедим
Как мысль, как свет, как песня к ним
Он сам без этих труб прорвется
Наш газ
[2: 529]
* * *
Не хочет Рейган нас кормить
Ну что же – сам и просчитается
Ведь это там у них считается
Что надо кушать, чтобы жить
А нам не нужен хлеб его
Мы будем жить своей идеею
Он вдруг спохватится: А где они
А мы уж в сердце у него!
[2: 527]
Этот магический жест, в сущности, опирается именно на те свойства советского языка, которые обсуждались выше в связи со стихотворениемы «Куликово поле» и концепцией И. Халфина: подрывая логоцентризм мифологии государства, Пригов деконструирует скрытый, но сохраняющий свою фундаментальную роль эссенциализм, в свою очередь, замешанный на насилии, на риторике энкавэдэшного допроса и выбитого пыткой признания. Они, эти риторические формы, становятся у Пригова не только видимыми, но и гротескными, а в своей гротескности – смешными.
Парадоксально, но именно логоцентризм – т. е. центрированность, структурность, телеологичность и бинарность – обнаруживается в основании советского политического бессознательного, казалось бы, несовместимого ни со структурностью, ни с телеологией. Пригов радикально деконструирует оппозицию между рациональным и иррациональным, сознательным и бессознательным, столь важную и для модернистской и для авангардной культуры. В его эстетике сюрреалистическое освобождение бессознательного заведомо обречено, поскольку во фрейдовской терминологии советское «Оно» полностью совпадает со «Сверх-Я» и высвобождение первого аналогично диктатуре последнего. Наконец, в этом контексте «советская онтология» неотличима от эпистемологии: миропонимание советского субъекта исключает какую бы то ни было критику или проблематизацию со стороны «реального», но автоматически становится реальностью, или, вернее, ее симулякром. Всякое противоречие здесь подавляется механизмом тавтологии, обеспечивая полное совпадение «означающего» и «означаемого».
Этот «сплошной» и неподвижный мир – и есть антиутопия логоцентризма, доведенного до абсолюта. Разумеется, ни о каком влиянии Деррида на Пригова (в 1976 году!) говорить не приходится, но адекватной читательской реакцией на приговское «подрывное утверждение» вполне может стать «мысль о том, что центр не может быть помыслен в форме некоего присутствующего сущего, что центру нет естественного места, что он является не определенным местом, а функцией, в своем роде неуместностью, в которой до бесконечности разыгрываются подстановки знаков» [Деррида 2000: 354].
Такое понимание, рождающееся из идеологии формы приговской модели советского политического бессознательного, оказывалось подрывным не только в сугубо политическом, но и в контркультурном смысле. Объектом покушения здесь становится авторитет «центра» не только в советской, но и в русской культуре – это авторитет традиции, классики, канона. В этом смысле приговский концептуализм (и, шире, его индивидуальная версия постмодернизма) выступал прямым наследником прерванной линии авангарда – как русского (футуризм), так и мирового (дадаизм).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































