Текст книги "История пчел"
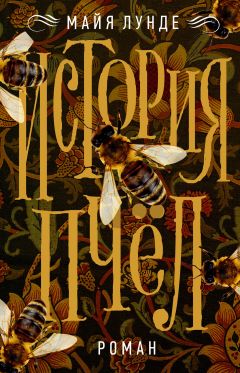
Автор книги: Майя Лунде
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Джордж
Мы подошли к ульям возле фермы Сати, и я принялся за те, что стояли возле дороги, а Рик с Джимми ушли дальше на луг. Я устал, но еще держался, и я представлял, как вернусь вечером домой, повалюсь в постель и через секунду вырублюсь.
Я собирался вскрыть последний улей, когда явился Гарет. Гарет Грин.
С дороги послышалось дребезжанье, потом показался его фургон, а за ним – еще три. Заметив меня, Гарет притормозил, хотя мотор глушить не стал, то есть вроде толком-то и не остановился. Остальные водители тоже притормозили, прямо посреди дороги, на солнце, дожидаясь, когда Гарет изволит поехать дальше. Такие коленца он наверняка не впервые выкидывал.
Гарет вылез из машины. Он широко ухмылялся, на носу у него переливались зеркальные солнечные очки, а сам Гарет уже успел загореть до черноты. Голову его прикрывала ядовито-зеленая бейсболка с надписью Clearwater Beach, Spring Break 2006. Наверняка на распродаже ухватил, на юге где-нибудь. Гарет вообще старался найти чего подешевле, но об этом не распространялся, потому что любил повыпендриваться. Дверцу машины он захлопывать не стал.
– Ну как? Все путем тут? – Он кивнул в сторону моих ульев, расставленных на лугу. Здесь их было довольно мало, так что выглядело все это хозяйство пустовато.
– Да, неплохо, – ответил я, – перезимовали хорошо. Почти все целые.
– Хорошо. Отлично. Рад слышать. У нас тоже морозом почти никого не побило. – Рассказывая о пчелах, Гарет часто использовал это выражение – “побило морозом”. Точно говорил о всходах. Об озимых. Он кивнул куда-то вдаль: – Мы сейчас вон там ульи хотим поставить. Там груши.
– А не яблони?
– Нет. В этом году пусть будут груши. У нас пчел стало больше, им и места больше надо. И фермы Хадсона нам теперь не хватает.
Я не ответил и только опять кивнул.
И он тоже кивнул.
Вот так мы и кивали, вроде как друг дружке, но в глаза старались не смотреть. Как два игрушечных болванчика. У меня были такие в детстве, чуть толкнешь – и они принимаются кивать, а куда при этом смотрят – неясно.
Наконец он кивнул на фургон:
– Выехали черт знает когда. Быстрей бы уже до места добраться.
Я проследил за его взглядом. Улей на улье, все фабричного производства, из серого изопора, связаны вместе и накрыты тонкой зеленой сеткой. Гул мотора заглушал жужжание пчел в ульях.
– Калифорния – вы ведь оттуда сейчас? – спросил я.
– Ты, значит, вообще не в курсе, – рассмеялся он. – В Калифорнии мы были в феврале. Когда миндаль цвел, но сезон давным-давно закончился. Мы из Флориды едем. Лимоны.
– А-а, ну да, лимоны…
– И еще апельсины. Сорта “королек”.
– Ясно.
“Королек”, значит. Обычные апельсины – это не про Гарета, нет.
– Мы уже сутки едем, – продолжал он, – но это ерунда, если вспомнить, какие мы концы делали до этого. От Калифорнии до Флориды. Это тебе не шуточки. Там через один только Техас сутки ехать. Ты вообще представляешь себе, какой этот штат здоровенный?
– Нет. Об этом я как-то вообще не думал.
– Просто гигантский. Самый большой наш штат. Ну, кроме Аляски.
– Ясно.
Гарет и его четыре тысячи ульев круглый год, не зная покоя, колесили по стране. Зимой они разъезжали по южным штатам: сладкий перец во Флориде, миндаль в Калифорнии, потом снова Флорида – апельсины или этот новый “королек”. Оттуда они двигались на север, но по пути делали несколько остановок, которые всегда приходились на лето. Яблоки или груши, черника, тыквы. Сюда, домой, они заезжали лишь в июне. В это время Гарет, как он выражался, оценивал потери, объединял ульи, старался восполнить утраченное.
– А кстати, я там к Робу с Нелли заглянул, – вспомнил он.
– Вон оно что.
– Как там этот городишко называется – Галф-Вилладж?
Так вот как, значит. Везде успел. Даже в раю побывал.
– Галф-Харборс.
– Да, точно! Тебе они тоже рассказывали! Галф-Харборс, верно. Видел их новый дом. Прямо на берегу канала. У них и гидроцикл есть. Том меня прокатил разок. И мы даже дельфинов видели, представляешь!
– А ты уверен, что это дельфины были, а не дюгони?
– Нет… Дюгони? А это кто вообще?
– Роб и Нелли все уши про них прожужжали. Что у них прямо перед домом дюгони плавают.
– Ух ты. Нет. Никаких гоней я не видал. Ну неважно. Им там неплохо живется. Отличное местечко.
– Да, наслышан.
Двигатель у одного из фургонов заревел – видно, кто-то из водителей не выдержал. Однако Гарет и ухом не повел. Очень в его духе. Я переступил с ноги на ногу, но он не сдвинулся с места, словно вообще не собирался уходить.
– Ну а ты-то, – он снял очки и посмотрел на меня, – поедешь куда-нибудь?
– А как же, – ответил я, – много куда. Уже через две недели. В Мэн.
– Черника, как обычно?
– Да, черника.
– Тогда, может, увидимся еще. Я тоже в Мэн собираюсь.
– Ясно. Да, тогда увидимся. – Я попытался растянуть губы в подобие улыбки.
– Ферма Вайт-Хилл – не знаешь, где это? – Он запустил руку под бейсболку и почесал голову. Его кожа под тонкой сеткой бейсболки казалась зеленой.
– Нет, – ответил я.
Это была самая большая ферма в окрестностях. Где она находится, было известно всем, даже собакам и грудным младенцам.
Гарет ухмыльнулся – понимал, что я хитрю. А потом он наконец двинулся к фургону, но по пути повернулся, снял бейсболку, отвесил мне шутливый поклон, залихватски подмигнул и лишь затем залез в кабину.
Они исчезли за поворотом, но облако пыли долго еще застилало солнце.
Мы с Гаретом вместе ходили в школу. Он был самым настоящим размазней – ел много, спорт не уважал, да еще и мучился от экземы. Девчонкам он не нравился. Да и нам, пацанам, тоже. А Гарет почему-то проникся особо теплыми чувствами именно ко мне. Может, потому, что я не опускался до того, чтобы гнобить его. Я вроде как понимал, что он тоже человек. Да еще и мама – она постоянно мне вдалбливала, что, мол, “надо относиться к другим по-доброму, особенно к тем, у кого мало друзей”. Это как раз про Гарета сказано – друзей у него почти не было. Но мама моя свое дело туго знала: когда в голове у тебя постоянно звучит ее голос, не остается ничего, кроме как стать добрым. Мама даже заставила меня пригласить его к нам в гости пару раз. Гарет тогда пришел в дикий восторг. Мой отец повел его показывать ульи, и Гарет все выспрашивал и допытывался, его прямо распирало от любопытства. В отличие от меня. Или, точнее, я этого никогда не показывал. Ну а отец мой, естественно, все ему растолковывал и объяснял.
К счастью, в старших классах наши пути разошлись. Точнее, тогда мне стало легче улизнуть от него. У меня сложилось впечатление, что Гарет с головой ушел в учебу и работу. Он устроился продавцом в скобяную лавку и уже тогда начал копить деньги. Со временем он сбросил вес и купил лампу, как в соляриях, благодаря которой экзема исчезла, а кожа приобрела золотистый оттенок. Должен признать, выглядеть он стал неплохо.
Еще ему удалось найти себе довольно милую жену. После школы Гарет купил клочок земли, и угадайте, чем он занялся? Ну естественно, пчеловодством. Дело шло как по маслу. Видать, у Гарета и впрямь было чутье. Время летело, ульев у него становилось все больше, жена рожала детей, красивее, чем Гарет когда-то, по крайней мере, экземы у них не было. А сейчас он стал большой шишкой. Одной из самых больших в городе. По воскресеньям он сажал свою семью в здоровенный немецкий внедорожник и ехал в загородный гольф-клуб. За возможность топтаться на поле в любую погоду и бить клюшкой по мячу Гарет платил восемьсот пятьдесят долларов в год. Да-да, я узнавал, сколько это стоит.
Гарет отстегнул деньжат и на новую городскую библиотеку. Там даже повесили блестящую латунную табличку, и на ней все желающие – а таких находилось немало – могли прочесть, что местные жители выражают глубокую благодарность “Пчеловодческому хозяйству Грина” за финансовый вклад в строительство библиотеки.
Месть изгоя, вот как это называется. А мы, кто был в школе не изгоем, а обычными подростками, стояли и смотрели, как Гарет с каждым годом богател.
Каждому пчеловоду известно, что настоящий доход идет не с продажи меда. И не меду Гарет должен сказать спасибо за сколоченное состояние. Реальные деньги пчеловоду приносит только опыление. Без пчел сельское хозяйство обречено. Бесконечные ряды цветущих миндальных деревьев или поля черничных кустиков – все это гроша ломаного не стоит, если пчелы прекратят переносить пыльцу с цветка на цветок. За один день пчелы способны продвинуться вперед на несколько миль. Облететь тысячи цветов. Без них цветы были бы такими же беспрокими, как участницы конкурса красоты. Во время конкурса посмотреть на них приятно, но пользы никакой. Когда пчел нет, то и плодов тоже нет, а цветы просто вянут, и все.
Гарет с самого первого дня делал ставку на опыление. И пчелы его вечно путешествовали по стране. Всегда в дороге. Я читал, что они этого не любят и что им все эти разъезды вредны, но Гарет утверждал, что пчелы ничего не замечают и в его ульях царит такое же спокойствие, как и в моих.
В пчеловодстве Гарет был пришлым, чужаком – возможно, именно поэтому он и занялся опылением. Он чуял, откуда ветер дует, понимал, что маленькие семейные пасеки наподобие моей, где уклад не менялся на протяжении многих поколений, золотой жилой не назовешь. Они и прежде-то особой прибыли не приносили, а сейчас и подавно. Инвестиции, даже самые незначительные, ложились на наши плечи неподъемной тяжестью, и мы существовали лишь благодаря снисходительности сотрудников местного банка, которые не всегда строго отслеживали сроки выплаты кредитов и верили, что пчелы и в следующем году не подведут. Они верили, когда я убеждал их, что дешевая китайская дрянь, называемая медом, которой с каждым годом становится все больше и больше, не представляет для нас никакой угрозы и что следующей осенью мы отлично все продадим. Что деньги рекой потекут, прямо как прежде.
Все это было враньем. И поэтому мне ничего не оставалось, как пересмотреть подход. Поучиться у Гарета.
Уильям
– Хочешь, я помогу тебе? – спросила Тильда, остановившись в дверях. В руках она держала бритвенные принадлежности и зеркало.
– Ты можешь порезаться о лезвие, – ответил я.
Она кивнула. Тильда, как и я сам, знала, что проворства ее рукам недостает.
Немного погодя она вернулась и принесла таз с водой для умывания, мыло и расческу. Разместив это все на тумбочке, она придвинула ее к кровати, чтобы мне было удобнее. Последним Тильда поставила на тумбочку зеркало и замерла, когда я взял его в руки. Неужели она боялась, что собственное отражение настолько ужаснет меня?
На меня смотрел незнакомец. Мне следовало бы испугаться, однако этого не произошло. Исчезли припухлости, из-за которых лицо казалось слабовольным. Любезный лавочник исчез, уступив место человеку, немало пережившему. Удивительно, ведь на протяжении нескольких месяцев я не вставал с постели и если что-то и пережил, так это страдания от собственной подлости. Но об этом отражение в зеркале умалчивало.
Смотревший на меня человек походил на морского волка, избороздившего все на свете моря и океаны и вернувшегося на берег, или на шахтера, который отработал долгую смену под землей и наконец поднялся наверх, или на ученого, отправляющегося домой после утомительной работы в джунглях. Потрепанный жизнью, худой, но не лишенный изящества. Как прожитая жизнь.
– Принесешь ножницы? (Тильда с удивлением воззрилась на меня.) Я чересчур оброс – одной бритвой не обойтись.
Она кивнула и сбегала за швейными ножницами.
Ножницы были маленькими и неудобными, сделанными для женских пальцев, тем не менее самые ужасные космы мне все же удалось ими состричь.
Поболтав помазком в воде, я тщательно намылил его, вдыхая свежий, слегка отдающий хвоей аромат.
– Где нож? – Я огляделся. Она замерла, опустив глаза и спрятав руки под фартук. – Тильда?
Вытащив из кармана бритвенный нож, Тильда протянула его мне. Рука у нее слегка дрожала, точно ей не хотелось отдавать мне нож. Я забрал инструмент и принялся за бритье. Затупившееся лезвие царапало кожу.
Тильда стояла и смотрела на меня.
– Спасибо, можешь идти, – сказал я ей.
Однако она не сдвинулась с места. Стояла и глаз не сводила с ножа в моей руке. Я вдруг понял, почему она не уходит и чего страшится. Я опустил руку.
– Ведь я бреюсь – разве это само по себе не признак выздоровления?
Она задумалась, как обычно.
– Мне радостно, оттого что ты нашел в себе силы, – наконец ответила она, но не ушла.
Если бы мне вздумалось сотворить нечто подобное, я постарался бы осуществить это так, чтобы все выглядело как естественная смерть. Я бы пощадил Эдмунда. Я даже все рассчитал – времени на это у меня имелось предостаточно, – но Тильда, разумеется, ничего не знала. Ей лишь казалось, что оставь она меня одного в комнате, да еще и с острым ножом в руках, как я тотчас же воспользуюсь случаем, словно случай этот единственный. Простоты Тильде не занимать.
Если бы я пожелал покончить со всем раз и навсегда, то смерть я принял бы на улице, в снегу, одетый лишь в ночную сорочку. На следующий день меня нашли бы замерзшим, с сосульками в бороде и инеем на ресницах, и о моей смерти говорили бы так: торговец семенами заблудился в темноте и замерз насмерть, бедняга.
Или грибы. В лесу их видимо-невидимо, и прошлой осенью некоторые из них перекочевали оттуда в верхний левый ящик комода, стоявшего у меня в магазинчике. Ящик этот я предусмотрительно запер, а ключ есть только у меня. Яд таких грибов действует быстро. Спустя несколько часов ты делаешься вялым, немного погодя сознание покидает тебя, затем, всего за пару дней, твои органы разрушаются, после чего наступает смерть. Доктор наверняка решит, что причиной смерти стал отказ какого-то жизненно важного органа. И никто не узнает, что ты сам избрал такую кончину.
Или утопление. Река за домом не замерзает даже зимой.
Или псарня у Блейков, где семь диких голодных тварей злобно бросаются на ограду, стоит к ней только приблизиться.
Или тот крутой овраг в лесу.
Возможностей существовало великое множество, но сейчас я сидел на кровати, сбривал бороду и не собирался воспользоваться ни одним из описанных способов, ни ножом у меня в руке. Я воскрес, и больше все эти способы мне не понадобятся.
– Мне не хотелось бы задерживать тебя, – сказал я Тильде, – у тебя наверняка полно забот. – И я махнул рукой в сторону двери, за которой прятался дом с его бесконечными требованиями: уборка, стряпня, стирка, мытье пола, посуды и всего остального, что женщины во все времена считали нужным вымыть и начистить.
Тильда кивнула и наконец оставила меня одного.
Порой мне казалось, что Тильда будет лишь благодарна мне, если я возьму бритвенный или, лучше, разделочный нож и воткну его себе в горло, прямо в сонную артерию, так что вся кровь из меня вытечет и я пустым коконом повалюсь на пол. Вслух Тильда никогда не говорила об этом, однако ясно было, что и она и я – мы оба проклинаем тот солнечный луч, который упал именно на ее нос тогда, семнадцать лет назад. На ее месте могла быть любая другая, а могло вообще никого не оказаться.
Мне было двадцать пять лет, и к тому моменту я прожил в деревушке уже год. Возможно, погода в тот месяц была какой-то особенной, возможно, здесь дули сухие ветра, высушившие ее губы. Хотя, может, она просто втайне их покусывала, подобно другим молодым девушкам, которым хочется выглядеть пособлазнительнее. Впрочем, в тот день я вообще не заметил ее губ. Помню лишь, что увидел ее, когда делал доклад.
Подготовился я изумительно. В первую очередь ради профессора Рахма – мне хотелось произвести на него хорошее впечатление. Я знал, что мне, в отличие от многих моих однокурсников, повезло. Будучи выпускником, ты учился довольствоваться малым, и путь к успеху был обеспечен, только если тебя брал под крыло какой-нибудь уважаемый ученый. В то время не было в моей жизни человека, который значил бы для меня больше, чем Рахм. Едва перешагнув порог его лаборатории, я решил: важнее Рахма для меня никого нет. Ему суждено было стать не просто другом или духовным наставником, но и отцом. Отношения с собственным отцом я давно разорвал и налаживать не стремился – во всяком случае, в этом я себя тогда убеждал. А под профессорской опекой я лелеял надежду расти и процветать. Я верил, что Рахм откроет во мне скрытые таланты.
Отсутствие опыта – вот что еще побудило меня отлично подготовиться. Прежде я никогда не выступал с докладом. Когда Рахм попросил меня помочь ему с организацией зоологического вечера для жителей Мэривилля, то сперва я отнесся к этому как к сущей безделице. Однако шли дни, и во мне росло какое-то удивительное ощущение, над которым я в конце концов почти утратил власть. Каково это – стоять перед толпой людей, где каждый слышит мой голос, где все внимание обращено на меня? Хотя по сравнению с моими товарищами по учебе деревенские жители отличались простотой (чтоб не сказать больше), на меня возложили миссию выступить с научным докладом. Справлюсь ли я с таким ответственным заданием?
Да, я готовил первый в моей жизни доклад, но не от этого, а скорее от осознания того воздействия, которое он может оказать на других, я преисполнился благоговения. О естественных науках сельские жители не имели ни малейшего представления, их картина мира определялась Библией, единственной авторитетной для них книгой. Я вдруг понял, что у меня появился повод показать им нечто большее, объяснить существование взаимосвязи между малым и большим, между творцом и творением, открыть им глаза и изменить их взгляд на мир, на само существование.
Но как это лучше показать? Мне предстояло выбрать из бесчисленного множества тем, и выбор вынуждал меня плутать в лабиринте собственных мыслей. Любой естественнонаучный предмет казался мне в высшей степени увлекательным. Дары земли, открытие Америки, времена года – темы были неисчерпаемыми.
В конце концов решение принял Рахм. Мое рвение позабавило его, и он, положив свою холодную руку на мою, влажную и горячую, предложил:
– Расскажите о микроскопе. О возможностях, которые появились у нас после его изобретения. Ведь большинство местных вообще не представляют себе, что это за прибор.
Это была блестящая идея, которая мне самому никогда не пришла бы в голову. Поэтому я, разумеется, последовал совету Рахма.
В тот день дул сильный сухой ветер, а высоко в небе светило солнце. Сколько придет слушателей, мы не знали. Некоторые местные жители, в основном пожилые, считали нас безбожниками и утверждали, будто кроме Библии никаких книг человеку не требуется. Тем не менее любопытство победило, и вскоре в сельском клубе собралось столько народа, что, хотя на дворе стоял апрель, внутри было по-летнему жарко. Захолустный Мэривилль редко мог похвастать событиями такого масштаба.
Я выступал первым – на этом настоял Рахм. Может статься, ему хотелось показать меня миру, словно новорожденного ребенка, а возможно, в то время он еще гордился мною. Несколько бесконечных первых минут мой голос дрожал, а колени тряслись ему в такт, но мало-помалу самообладание вернулось ко мне. Я находил успокоение в словах, которые со всей тщательностью подготовил заранее, я открыл для себя всю их прочность, осознал, что, покидая бумагу и разлетаясь по залу, слова эти не утрачивают достоверности и достигают слушателей.
Начав с короткого дискурса в историю, я рассказал о появившемся еще в шестнадцатом веке увеличительном объективе, на смену которому пришел более сложный оптический микроскоп, описанный, в частности, в 1610 году Галилео Галилеем. Чтобы наглядно продемонстрировать значение микроскопа, я прибег к примеру конкретной исторической личности, выбрав для этого голландского зоолога Яна Сваммердама, жившего в семнадцатом веке. Сваммердам так и остался непризнанным современниками и умер в бедности и одиночестве, однако именно он определил дальнейшее развитие натурализма – он смог доказать взаимосвязь между созданием и созидающей силой.
– Сваммердам, – сказал я, окинув взглядом собравшихся. – Запомните это имя. Его труды раскрывают нам тайну метаморфоза насекомых, благодаря ему мы знаем, что яйцо, личинка и куколка – различные формы одного и того же насекомого. Сваммердам самостоятельно создал микроскоп, позволявший ему рассматривать насекомых. Результатом этой работы стали рисунки, подобных которым в мире не существует. – Отрепетированным движением я потянул за шнур и развернул висевшее за мной большое полотно с иллюстрациями. – Дамы и господа, перед вами – анатомия пчел, описанная и проиллюстрированная Сваммердамом в труде Biblia naturae. – Я театрально умолк и оглядел публику, всматривавшуюся в невероятно подробные иллюстрации.
В эту самую секунду солнце, медленно двигавшееся по небу над крышей клуба, заглянуло в окно слева от меня, одинокий луч скользнул внутрь, выхватил из темноты заляпанный жиром стакан, позолотил висевшую в воздухе пыль – убирались здесь явно реже, чем следовало, – растянулся над рядами и уперся в лицо девушки, сидевшей слева, с самого края, рядом с двумя подружками. Тильда.
Впоследствии я понял, что для нее наше знакомство было куда менее неожиданным, чем для меня. Разумеется, я давно уже стал объектом пристального внимания со стороны местных девушек: молодой ученый-натуралист, из столицы, элегантно одетый, с хорошо поставленной речью, правда, невысокий и не очень подтянутый (говоря начистоту, уже в ту пору я начал страдать от лишнего веса). Однако все изъяны внешности с лихвой окупались благодаря интеллекту. Одни очки чего стоили! Я сдвигал их на кончик носа и многозначительно смотрел на собеседника поверх очков. Когда очки у меня только появились, я целый вечер вертелся перед зеркалом, пытаясь примостить их наиболее удобным для меня образом. С одной стороны, вогнутые стекла зрительно уменьшают глаза, а мне хотелось, чтобы собеседник видел мои глаза в натуральную величину. С другой стороны, я предпочитаю смотреть другим прямо в глаза, а не таращиться исподлобья. Мне было известно также, что многим молодым женщинам нравилась моя буйная шевелюра, и я немного отращивал волосы, чтобы окружающие могли оценить их по достоинству. Возможно, Тильда уже давно за мной наблюдала, оценивала, сравнивала с другими мужчинами. Заметила обходительное отношение, которого я удостаивался, адресованные мне низкие поклоны и внимательные взгляды, видела, насколько я отличаюсь от всех остальных мужчин ее круга – грубоватых и небрежных как в одежде, так и в манерах, к которым окружающие и относились соответствующе.
В тот воскресный день на Тильде было что-то голубое, платье или, возможно, блузка, – что-то, подчеркивавшее грудь. По обе стороны лица штопорами закручивались завитые пряди – в те времена эта прическа была обычной для ее ровесниц и даже для молодых замужних женщин, хотя, казалось бы, у них уже не было необходимости следовать подобным капризам моды. Впрочем, в то мгновение внимание мое привлекли не одежда и не локоны. Одинокий солнечный луч выхватил из полумрака зала невероятно прямой и отлично вылепленный нос, словно просившийся на картинку в учебнике анатомии. Мне тут же захотелось нарисовать этот классический нос, рассмотреть его поближе, – этот нос, чья форма полностью соответствовала его функции. На самом же деле, как выяснилось впоследствии, нос у Тильды совершенно не справлялся со своей функцией: он быстро краснел, и из него вечно текло. Но в тот день он сиял передо мной, внимал каждому моему слову, не блестел и красным тоже не был.
Мое театральное молчание затянулось. Слушатели беспокойно заерзали, а из-за спины послышалось деланое покашливание Рахма. Рисунок медленно покачивался, а ведь я еще ни словом о нем не обмолвился.
Я поспешно показал на рисунок:
– На изучение жизни внутри пчелиного улья Сваммердам потратил пять долгих лет. Обитателей улья он рассматривал в микроскоп, благодаря которому смог разглядеть все до последней крошечной детали… Вот, смотрите… это пчелиная матка, откладывающая яйца. Исследования Сваммердама доказали, что одна и та же матка откладывает три различных вида яиц, из которых потом выводятся трутни, рабочие пчелы и новые матки.
Слушатели растерянно взирали на меня. Некоторые ерзали, и, похоже, смысл сказанного ни до кого из них не доходил.
– Это открытие было эпохальным, ведь в те времена многие считали, что во главе улья стоит пчелиный король. Но наибольший энтузиазм Сваммердам проявил, изучая органы самцов пчелы, – это увлекало его, как ничто иное. И вот перед вами плоды его трудов. – Я поставил новую иллюстрацию: – Это гениталии трутня.
Посмотрев на публику, я наткнулся на полные равнодушия взгляды.
Слушатели заерзали энергичнее. Некоторые, опустив глаза, рассматривали торчавшую из платья нитку, других больше интересовали причудливые облака, ползущие по небу за окнами.
Меня вдруг осенило, что никто из них, скорее всего, вообще не знал, что такое оарионы и гениталии, и меня охватило желание объяснить им. О следующем фрагменте моей речи Тильда никогда не рассказывала нашим детям. Впрочем, в наших с ней беседах мы тоже старались об этом не упоминать. Одно лишь воспоминание о том вечере многие годы вгоняло меня в краску.
– Оарионы – это то же самое, что и яичники… То есть репродуктивная система, где откладываются яйца… которые потом превращаются в личинок.
Произнеся это, я внезапно понял, что ступил на скользкую дорожку, однако остановиться был уже не в силах.
– А гениталии – это то же самое, что… э-э… репродуктивные органы самцов. Пчелам они необходимы, чтобы… э-э… в семье появлялись новые пчелы.
Разобравшись наконец, что именно изображено на рисунке, слушатели заахали. Почему же я сам не предусмотрел, какое впечатление произведет на них эта тема?
Для меня она была лишь частью науки, для них же – чем-то греховным, о чем не болтали. Моя страсть к этому аспекту науки была в их глазах порочной.
Тем не менее никто не ушел и никто меня не прервал, и лишь звуки свидетельствовали о надвигающейся катастрофе – шорох трущейся о деревянную скамью одежды, шарканье сапог, тихое покашливание. Тильда потупила взгляд. Неужели она покраснела? Ее подружки, с трудом сдерживая смех, переглянулись, а я, болван, продолжал говорить, надеясь, что мои пространные объяснения отвлекут внимание публики от только что сказанных мною слов.
– Этому Сваммердам посвятил целых три страницы своего главного труда под названием Biblia Naturae, то есть “Библия природы”. На этих невероятно подробных иллюстрациях изображен трутень, то есть пчела-самец, и его гени… гениталии (это слово будто застряло у меня во рту), и различные стадии: как они открываются, разворачиваются… и э-э… полностью реализуют заложенный в них потенциал.
Я действительно это произнес? Бросив быстрый взгляд на собравшихся, я понял, что именно так оно все и было. Я снова уткнулся в текст и продолжил читать, хотя это лишь усугубляло положение.
– Сваммердам описывал их как… удивительных морских чудовищ.
Подружки захихикали.
Не отваживаясь поднять глаза, я схватил книгу Сваммердама и процитировал те чудесные слова, над которыми сам неоднократно размышлял. Я вцепился в книгу, надеясь, что слушатели наконец-то поймут и осознают, что такое истинная страсть.
– Если читатель вглядится в рисунки, позволяющие оценить невероятную структуру этих органов, то поймет, что перед ним – изысканное искусство и что чудеса Господни таятся даже в самых мельчайших организмах и самых крошечных насекомых.
Я заставил себя поднять голову и со всей ясностью увидел – да, у меня не оставалось ни малейших сомнений, – что проиграл, потому что на обращенных ко мне лицах я прочел испуг и даже гнев, и я окончательно осознал, что наделал. Мало того, что мне не удалось посвятить их в тайны природы, – я затронул самый грязный из всех возможных предметов и, ко всему прочему, приплел сюда Бога.
Я так и не рассказал до конца историю о несчастном Сваммердаме, который ничего большего и не достиг. Его карьера оборвалась, исследование пчел загнало его в ловушку религиозных дилемм: совершенство пчел вызывало у него страх. Сваммердам постоянно напоминал себе, что именно Бог, и только Он является единственным достойным объектом изучения, любви и внимания, а вовсе не эти крошечные создания. Пчела казалась бедняге существом совершенным, превзойти которое было не под силу даже Господу. Проведя пять лет почти что в улье, ученый так и не смог вернуться к человеческой жизни.
Впрочем, в тот момент я знал, что, если расскажу об этом, меня не просто осмеют – меня возненавидят, ведь со Всевышним шутки плохи.
Чувствуя, как меня заливает краска, я сложил записи и спустился со сцены, вдобавок еще и споткнувшись, совсем как мальчишка. Рахм, чьего признания я искал как никакого другого, с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться, и лицо его застыло в какой-то странной гримасе. Он напомнил мне отца – моего настоящего отца.
После доклада я перекинулся парой слов с некоторыми из присутствующих. Многие не знали, что сказать, и я слышал, как вокруг перешептываются – некоторые весело, а некоторые сердито. Краска перекинулась с лица на шею, потом на спину, разлилась по ногам и нашла выход, обратившись в дрожь, которую я тщетно пытался скрыть от окружающих. Видимо, от глаз Рахма это не укрылось, потому что он положил руку мне на плечо и тихо проговорил: “Вы должны понять, что они заперты в мире тривиальностей и никогда не станут такими, как мы”.
Его слова меня не только не утешили, напротив, лишь подчеркнули, насколько огромна пропасть, отделяющая меня от Рахма: сам профессор никогда не выбрал бы тему, которую публика могла счесть оскорбительной. Он знал меру их терпению и ловко балансировал между “ними” и “нами”, понимая, что научный и обывательский миры не пересекаются. Словно желая подкрепить свои слова чем-то более основательным и еще раз напомнить мне о том, насколько я далек от публики, он вдруг рассмеялся. Тогда я впервые услышал его смех – отрывистый и тихий, но он заставил меня вздрогнуть. Я отвернулся, не в силах смотреть на профессора, его смех словно придавил меня, лишил слова утешения всякого смысла. Я шагнул в сторону.
И столкнулся с ней.
Возможно, в тот день я лишился ореола загадочности и не был больше таинственным чужаком, занимавшимся вместе с профессором чем-то непонятным. Возможно, тогда я казался особенно слабым и уязвимым. Возможно, именно поэтому у Тильды хватило смелости сделать первый шаг. Она не смеялась. Протянув мне руку в перчатке, Тильда поблагодарила меня за “э-э… интересный доклад”. Подружки за ее спиной то и дело хихикали, но их смех вдруг куда-то исчез, как и они сами. Даже Рахма я вдруг перестал замечать и видел только ее руку. Я долго сжимал ее в своей, впитывая тепло, чувствуя, как эта рука возвращает мне силы. Тильда не издевалась и не смеялась надо мной, и я был бесконечно ей благодарен. Ее широко расставленные глаза блестели – такие открытые миру и жизни, но прежде всего мне. Подумать только – мне! Еще никогда молодая женщина не смотрела на меня так, и этот взгляд поведал, что она готова отдать себя, отдать все свое – мне, и только мне, потому что так она ни на кого больше не смотрела. От этой мысли колени у меня вновь задрожали, и я наконец отвел взгляд, словно перерезал нерв; меня пронзила боль, мне хотелось лишь вновь смотреть ей в глаза, а мир вокруг – да провались он пропадом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































