Читать книгу "Цена утопии. История российской модернизации"
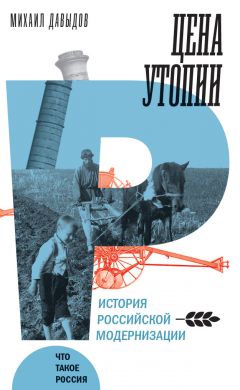
Автор книги: Михаил Давыдов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Правосознание
Мы, холопи твои, волочимся за судными делами на Москве в приказех лет по пяти и по десяти и болше, и по тем судным делам нам, холопем твоим, указу [решения] нет. И мы, холопи твои, с московские волокиты вконец погибли…
Коллективная челобитная дворян царю Михаилу Федоровичу 3 февраля 1637 года
Нам сие велми зазорно, что… и у бусурман суд чинят праведен, а у нас вера святая, благочестивая, а судная росправа никуды не годная
Иван Посошков
Дореволюционная русская мысль была пронизана антиправовыми идеями, совокупность которых известна под не совсем точным названием «правовой нигилизм». Право очень часто понималось в России как нечто специфически западное, привнесенное извне, и отвергалось по самым разным причинам: во имя самодержавия или анархии, во имя Христа или Маркса, во имя высших духовных ценностей или материального равенства.
Анджей Валицкий
Низкая ценность права в русской истории, слабая правовая культура населения нашей страны и его правовой нигилизм, унаследованные от Московского царства, – вещи очевидные и притом банальные.
Это вполне понятное и естественное следствие всеобщего закрепощения сословий. Читатели этой книги, полагаю, уже имеют представление, в каком юридическом поле веками жила наша страна.
Р. Уортман пишет, что, в отличие от Европы, где положение судов и юриспруденции – при всех их изъянах – было в известной степени почетным,
самодержавие в России, всегда отстаивавшее превосходство исполнительной власти, пренебрегало отправлением правосудия, и это пренебрежение разделялось чиновничеством и дворянством.
Презрительное отношение к суду вполне устраивало чиновников, не желавших придерживаться рамок законности, и дворян, привыкших лицезреть власть в руках величественных правителей, воплощавших собою государственную мощь, которым они могли подражать в своих поместьях.
Проблема, конечно, несколько шире простого нежелания чиновников жить не по закону и стремления дворян подражать верховной власти.
В известной мере всеобщее закрепощение сословий было своего рода мобилизационной моделью, пусть и архаичной. И читателям не нужно объяснять, как мало эта модель, построенная, по модному выражению, на «ручном» управлении страной, сочетается с правопорядком и насколько для нее исполнительная власть важнее законодательной: царям были нужны послушные воеводы и губернаторы, а не самостоятельные судьи и прокуроры. У дворян же издавна была привычка решать свои проблемы неформально, привычка так или иначе договариваться.
Отсюда восприятие права как чуждой западной прививки к нашей привычной жизни; частный случай такого восприятия – характеристика славянофилами римского права как «жестокого» – ведь там «dura lex sed lex».
Сказанное, разумеется, не означает, что в стране не было законов, не было судебной системы и правосудие отсутствовало по факту. Это далеко не так. Есть даже мнение, что, например, в XVII веке отечественная система уголовного наказания была вполне сопоставима с западными образцами, что Россия в этом плане – один из вариантов нормы.
Эта система по множеству объективных причин работала скорее плохо, чем хорошо – достаточно сказать, что даже в первой половине XIX века встречались неграмотные судьи.
Власть вполне осознавала эти недостатки и пыталась проводить судебные реформы. Однако ни Петр I, ни Елизавета Петровна, ни Екатерина II, ни Павел, ни Александр I не смогли, хотя и пытались, составить новое Уложение законов. Только в 1830-х годах появился, наконец, Свод законов – кодификация русского права определенно затянулась. Определенный прогресс был, но явно недостаточный.
Мы знаем, что государственный механизм в очень большой мере был поражен коррупцией, которая нередко затрагивала и высших чиновников.
Так, военно-интендантская система была целым огромным миром беззакония и воровства, в который так или иначе были вовлечены сотни тысяч людей – от рядовых до генералов, а также гражданские лица. Все они были причастны к добыванию и дележу («распилу», как сейчас говорят) громадных сумм, на которые должна была функционировать победоносная армия, то есть трижды в день питаться, обмундировываться, кормить лошадей и т. д. А кроме того – воевать. Эта четко отлаженная противозаконная система была довольно органично встроена в государственный механизм, будучи его важной частью.
Результаты ревизии государственной деревни 1836–1840 годов несложно экстраполировать на остальные сферы жизни страны. Иногда источники и литература рисуют такие картины тотального, повсеместного беззакония и воровства, которые не сразу умещаются в голове.
А потом в памяти всплывают восторги Николая I по поводу «Ревизора». Затем вспоминаешь, как император отреагировал на информацию о том, что из примерно полусотни его губернаторов лишь ковенский А. А. Радищев и киевский И. И. Фундуклей не брали взяток, причем даже с винных откупщиков, что тогда как бы и не считалось за взятку: «Что не берет взяток Фундуклей – это понятно, потому что он очень богат, ну а если не берет их Радищев, значит, он чересчур уж честен».
И это сразу очерчивает «пейзаж» эпохи – «что охраняешь, то имеешь!».
Конечно, мы не можем считать повесть А. С. Пушкина «Дубровский» историческим источником о судебной практике конца XVIII – начала XIX века, однако в источниках есть немало реальных историй такого рода. О том же писал и К. П. Победоносцев в «Курсе гражданского права».
Какой там «Дубровский» с его несправедливостями уездного разлива! Уездов в России уже тогда были сотни…
В сущности, о чем говорить, если сам министр юстиции граф Панин дал взятку в 100 рублей судейским, разбиравшим дело о приданом его дочери!
Совершенно очевидно, что у жителей страны не могло быть иного правосознания, кроме нигилистического. Русские дворяне, не говоря о представителях простого народа, в принципе не могли вынести из реальной жизни пиетета к праву как феномену.
Напомню две известные и, увы, всегда актуальные для нас мысли родоначальника левого народничества А. И. Герцена:
1. Мы повинуемся по принуждению; в законах, которые нами управляют, мы видим запреты, препоны и нарушаем их, когда можем или смеем, не испытывая при этом никаких угрызений совести.
2. Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школою. Вопиющая несправедливость одной части законов вызвала в нем (русском народе. – М. Д.) презрение к другой. Полное неравенство перед судом убило в нем в самом зародыше уважение к законности. Русский, к какому бы классу он ни принадлежал, нарушает закон всюду, где он может сделать это безнаказанно; точно так же поступает правительство. Это тяжело и печально для настоящего времени, но для будущего тут огромное преимущество.
Пока заметим, что эти хрестоматийные мысли Герцена настолько верны, точны и так категорично сформулированы интонационно, что кажется, будто его не устраивает положение, при котором народ и власть как будто соревнуются в наплевательском отношении к закону.
Однако такое предположение было бы неверным. Герцен был законченным правовым нигилистом. По его мнению, «преимущество» беззакония для будущего состоит в том, что, находясь на почве законности, невозможно совершить вожделенный прыжок из крепостного права в социализм. Ведь Запад именно из-за «привязанности» к правовому началу никогда не сможет перейти к социализму.
Развивая мысль о том, что в отсутствии уважения к правопорядку есть позитивные моменты, Герцен тут же проговаривается:
На первый взгляд совершенно ясно, что уважение к закону и его формам ограничило бы произвол, остановило бы всеобщий грабеж, утерло бы много слез и тысячи вздохнули бы свободнее… но представьте себе то великое и то тупое уважение, которое англичане имеют к своей законности, обращенное на наш свод.
Представьте, что чиновники не берут больше взяток и исполняют буквально законы, представьте, что народ верит, что это в самом деле законы, – из России надо было бы бежать без оглядки.
Жизнь полна якобы «странных сближений». Через двадцать два года, в 1881 году, И. С. Аксаков заметит:
Нас обыкновенно упрекают в недостатке чувства легальности, но если бы можно было себе представить такую губернию, в которой бы строго-настрого, безукоризненно честно стали бы применяться все тысячи статей всех 15-ти томов Свода законов, то, конечно, от такого навождения легальности – все население бежало бы вон, куда-нибудь в Азию, в безлюдную, безчиновную степь.
Нас спасает именно то, что вся эта казенщина претит нашей русской природе; что трудно даже найти между штатскими чиновника, который бы имел культ своего мундира, верил благоговейно в букву закона и в формальную правду; обыкновенно так: мундир нараспашку, а из-под мундира халат!
Все это, конечно, безобразно, исполнено внутреннего противоречия, но казенное благообразие было бы едва ли не хуже. Это уже благообразие смерти.
Весьма забавно наблюдать у двух выдающихся интеллектуалов тождественный импульс – бежать из России, в которой начнут исполняться законы, которая, не дай бог, станет превращаться в правовое государство!
Словом, прав был поэт-юморист Б. Алмазов, характеризуя правовые взгляды славянофилов (и не только) таким восьмистишием:
По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
За этими шутливыми строками – огромная тема.
Ведь натуры действительно широки, кто будет спорить?
И во множестве случаев это громадный плюс, тут тоже спору нет.
Но в других ситуациях широта натуры оборачивается своей противоположностью.
Закон эту широту в рамки не ставил – а только произвол вышестоящих, позволяющий барину, который, по словам Сперанского, был рабом царя, чувствовать себя царем в отношении своих рабов – крестьян или солдат.
Многие образованные люди страны не желают жить в правовом государстве, и можно ли их за это упрекать? Ведь они, выросшие в другом мире, просто не понимают, что это такое.
Тут огромная психологическая проблема, нерешенная доселе.
От славянофилов и Герцена идет непрерывная традиция пренебрежительного отношения большой части русского общества к зафиксированным в законе правам человека, к политической борьбе и конституционализму.
Характерно замечание Герцена (1853) о том, что уже в начале 1830-х годов под влиянием Июльской революции 1830 года и восстания в Польше «в России потеряли веру в политику; там стали подозревать бесплодие либерализма и бессилие конституционализма». Не исключено, однако, что он задним числом приписывает русским людям чрезмерную прозорливость – ведь на этих идеях в большой мере строилась пропаганда уже раннего социализма, твердившего о мнимом правовом равенстве людей при капитализме и иллюзорном избирательном праве.
Конечно, удивляет, что люди, жившие в России в 1820-х годах, воспринимают либерализм и борьбу за конституцию как нечто беспомощное. А с другой, оно и понятно – волевые командирские методы решения главных проблем бытия для них были куда привычнее. После 1861 года подобный скепсис станет банальностью и для правых, и для левых народников.
Проблема была в том, что великую державу во второй половине XIX века на таком правовом «фундаменте» было не построить. Непонимание этого элитами обошлось России очень дорого.
Вместе с тем сказанное не нужно воспринимать упрощенно.
Не все русские дворяне обкрадывали казну и мыслили в категориях правового нигилизма. Многим из представителей «непоротых» поколений хотелось походить на спартанцев и римлян, а не на персонажей Гоголя.
Уже тогда были такие люди, подобные М. С. Воронцову и П. Д. Киселеву, понимавшие, что равнодушное отношение к праву и правопорядку является системной угрозой для будущего страны. И уже подрастали и взрослели не только будущие неподкупные юристы пореформенной поры, но и такие личности, как Б. Н. Чичерин.
Как зарождалось новое общественное настроение
Нам стыдно было бы не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою.
А. С. Хомяков
Сама по себе идеологема «особого пути» – вещь не оригинальная… Порой это не лишено комизма. В странах Латинской Америки одно время пользовались популярностью клише, звучащие для нашего уха забавно и узнаваемо: «аргентинская державность», «особая чилийская всечеловечность», «перуанский народ-богоносец».
А. В. Оболонский
После победы над Наполеоном русское общество дозрело до получения ответов на вопросы: «Кто мы?», «Зачем мы?», «Куда мы идем и для чего?»
Филолог П. Н. Сакулин точно заметил, что «вся николаевская эпоха в своем внутреннем содержании представляет один непрерывный процесс национального и общественного самоопределения». Но такое самоопределение могло произойти только в соотнесении с Европой, и опиралось оно на исключительное положение, обретенное Российской империей в 1812–1815 годах.
Идея уникальности и могущества России, что называется, разлитая в воздухе, во всей атмосфере постнаполеоновской эпохи, была прямым следствием потрясающего взлета национального самосознания в 1812–1814 годах, потребовавшего переосмысления роли и места России в окружающем мире. Этот патриотический подъем, эта национальная гордость сообщили иное качество привычному русским людям (не только дворянам) чувству непобедимости России, ставшему уже в XVIII веке неотъемлемым компонентом их мироощущения.
Оборотной стороной этого мироощущения было нарастающее отторжение Запада, иногда дифференцируемого, но чаще выступавшего в коллективной ипостаси как нечто однородно-враждебное. Антиевропеизм во многом вырастал из чувства превосходства над европейцами и осознания того, что именно Россия своей кровью, по Пушкину, искупила «Европы вольность, честь и мир».
Конечно, сказанное не нужно понимать буквально – в источниках немало восторженных строк об успехах европейской цивилизации. Однако в мейнстриме со временем оказывается именно глубокая антипатия и критика, часто перерастающая в ту самую ненависть, без которой не бывает определенного вида любви.
Для характеристики настроений той эпохи весьма характерны мысли Д. В. Давыдова (1818) из письма князю П. А. Вяземскому:
Ты мне пишешь о сейме[1]1
Вяземский в 1818 году сопровождал Александра I в Варшаву, где на открытии сейма царь произнес речь о том, что конституция Польши – как бы пролог русской «вольности».
[Закрыть] … Народ конституциональный есть человек отставной в шлафоре, на огороде, за жирным обедом, на мягкой постели, в спорах бостона.Народ под деспотизмом: воин в латах и с обнаженным мечом, живущий за счет того, кто приготовил и огород, и обед, и постель; он войдет в горницу бостонистов, задует свечи и заберет в карман спорные деньги.
Это жребий России, сего огромного и неустрашимого бойца, который в шлафоре и заврется, и разжиреет, и обрюзгнет, а в доспехах умрет молодцом.
Поздравляю тебя и княгиню с сыном.
Дай Бог вам видеть его не на сейме, а с миллионом русских штыков, чертившего шпагою границу России, с одной стороны, от Гибралтара до Северного мыса; а с другой, – от Гибралтара же чрез мыс Доброй Надежды до Камчатки.
Не всегда поэты так ярко мыслят прозой.
Конечно, в каждой шутке есть доля шутки. Однако Денис Давыдов – тонкий камертон настроений русского дворянства. Поэтому и высказанный с такой интонацией масштаб претензий к карте мира – вся Евразия с Африкой в придачу – не только весьма впечатляет, но и проясняет многое в изучаемой теме.
Например, происхождение армейской поговорки николаевской поры «Не ваше дело, господа прапорщики, Европу делить. Смотрите-ка получше за своими взводами». Понятнее становится и восприятие дворянством определенных характеристик «деспотизма».
Через двадцать лет историк М. П. Погодин, называвший Пруссию «нашими пятидесятыми губерниями», напишет:
Россия! Что это за чудное явление на позорище мира!
…Какое государство равняется с нею? С ее половиною?
Россия – поселение из 60 млн чел… А если мы прибавим к этому количеству еще 30 миллионов своих братьев, родных и двоюродных, славян, рассыпанных по всей Европе…
Мысль останавливается, дух захватывает! – Девятая часть всей обитаемой земли, и чуть ли не девятая всего народонаселения. Пол-экватора, четверть меридиана!
…Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами, и кого не принудим мы к послушанию?
В наших ли руках политическая судьба Европы и следственно судьба мира, если только мы захотим решить ее?
…Сравним теперь силы Европы с силами России… и спросим, что есть невозможного для русского государя?
Непосредственность Погодина у современников вошла в поговорку: «Что другой только подумает – Погодин скажет», и можно не сомневаться, что подобные мысли в то время были распространены достаточно широко. Вот датируемое 1848 годом стихотворение Тютчева «Русская география»:
Москва, и град Петров, и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? и где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам их судьбы обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.
Потому удивительно не появление во второй четверти XIX века русского мессианизма: было бы странно, если бы он не возник, – на фоне такого-то мироощущения и мировосприятия.
Рост антизападных настроений – продукт действия многих факторов, которые давно и подробно расписаны в литературе, посвященной зарождению славянофильства. Его принято трактовать как русский вариант общеевропейского процесса отторжения либерализма и капитализма, не приемлющего индивидуализм и рационализм западной цивилизации. Славянофилов справедливо связывают, в частности, с романтизмом, отвергавшим рационалистическое Просвещение, и с влиянием немецкой философии. Однако ровно те же факторы формировали умонастроения и многих других мыслящих русских людей.
Эпоха после падения Наполеона и Венского конгресса 1815 года стала временем активного пробуждения национального самосознания у народов Европы.
Весьма энергично и точно обрисовал тот нерв, те настроения, которые двигали значительной частью русского общества, в том числе и славянофилами, Анненков:
Люди озлобились против вековечного, нескончаемого учения, на которое присуждались этой [западной] литературой, и против послушничества, неизбежно с ним сопряженного.
Носить одно прозвание ученика европейской жизни и цивилизации всю жизнь, на бессрочное и неопределенное время, сделалось уже невмоготу русскому образованному миру. Неодолимая жажда повышения, выхода в иное, более высшее и почетное звание, на каких бы то ни было основаниях и резонах, почувствовалась всем обществом сразу.
Движение имело… свою законную причину и свою долю необходимости. Оно было вызвано отчасти надменностью, нестерпимым самохвальством ближайших наших учителей из немецкой братии, которая и не скрывала своего презрения к обществу, опекаемому им на всех пунктах.
Сюда присоединилось еще и влияние кровной ненависти Европы к государству, которое никогда не жило с ней общей жизнью, вошло, как проходимец, в ее состав, помимо ее воли и гаданий, и располагает остаться на своем месте, не слушая ругательств и проклятий».
Ученичество плохо сочеталось с мироощущением русского общества после 1815 года.
Еще при Александре I, то есть до прихода социализма, в России начинается критика европейских экономических порядков, которые еще не осознаются как капиталистические, но по факту являются таковыми. С одной стороны, она часто сопрягалась с апологией крепостничества, а шире – с апологией российского статус-кво – по контрасту, от противного. С другой – она быстро стала самоценной: капитализм отвергался как вариант развития, уже апробированный человечеством, и вариант заведомо порочный, аморальный и т. д.
Капитализм воспринимался как продукт эгоизма разобщенных личностей, которым революции дали слишком много прав. Этот строй разорил крестьянство, породив миллионы нищих пролетариев, ставших горючим материалом для социальных потрясений. И это то, чего Россия должна избежать.
Ухудшение положения простого народа в Европе – одна из главных тем русской публицистики. Общим местом стало сопоставление «ложных вольностей» Запада, породивших, как думали в России, неразрешимые социальные противоречия, с нашей якобы пасторальной патриархальностью, сравнение жизни западного пролетария и русского крепостного, который неизменно оказывался в более завидном положении.
Так, в 1817 году в «Духе журналов» говорилось, что в Англии народ «называется вольным и имеет право дышать и говорить беспошлинно», однако нигде нет большего числа нищих и нигде народ не отягощен в такой степени налогами, как в этом «просвещенном государстве».
В тексте английские крестьяне уподобляются «вольному зайцу» в лесу, о котором никто не заботится, а русский крестьянин – «домашней лошади, которая хоть на привязи стоит и на нас работает, но зато хозяин о ней печется, кормит, поит, чистит и холит ее: она и тогда сыта бывает, когда поле покрыто снегом».
Столь же жалким оказывается положение крестьян в Германии, для которых «доля русского крепостного» – недостижимый идеал.
О нещастное слово вольность! – Здешние (рейнские) мужики все вольны. – Вольны, как птицы небесные; но так же, как они бесприютны и беззащитны, погибают от голода и холода. Как бы они были счастливы, если бы закон поставил их в неразрывную связь с землею и помещиками… Могут ли такие люди пламенеть любовью к отечеству. Его нет у них…
В сущности, критика Запада во многом была борьбой с подступающим чуждым миром, где, в частности, у простолюдинов есть права.
Весьма обычны были замечания о том, что «житье наших мужиков есть самое беззаботное и счастливое». Сейчас иностранцы в восторге от «природного ума» русского мужика, но он потеряет его, став «батраком, как иностранный».
Скопища сотен или тысяч «мастеровых, живущих и работающих всегда вместе, не имеющих никакой собственности, питает в них дух буйства и мятежа. Частые мятежи в английских мануфактурных городах служат тому доказательством». В то время как наши крестьяне якобы благоденствовали, даже уходя на фабрику – но русскую, патриархальную.
В журналах подсчитывали число нищих и батраков в Англии, писали о плохом питании, высокой смертности, росте преступлений и т. д. Вместе с тем в сознании русских людей, весьма поверхностно знакомых с Европой, «ужасы» и «бедствия» Запада часто преувеличивались и приобретали неадекватный масштаб. При этом критика капитализма имела отнюдь не абстрактный характер. События в Европе прямо влияли на принятие правительством важных решений.
С 1837 года Киселев вопреки всей предшествующей традиции начал реформу положения государственных крестьян на основе общины, потому что был уверен в том, что она – реальное препятствие их возможной пролетаризации. До этого была популярна идея создания частной крестьянской собственности в казенной деревне.
Прекрасно сознавая производственную неэффективность общины, он убедил Николая I, что община – это проблема прежде всего политическая. Да, душевое землепользование с переделами вредит хозяйству, но имеет в то же время свои плюсы, ибо устраняет возможность появления пролетариев.
Поэтому политический выигрыш от сохранения общины, по Киселеву, превышает ее хозяйственные изъяны.
Так в общинном вопросе политика впервые была поставлена выше экономической целесообразности.
Европа 1830–1840-х годов давала все новые доказательства опасности пролетариата, ставшего главным фактором роста революционного движения. Отсюда понятно удовлетворение, с которым «Журнал МВД» замечал, что такие «зловещие» вещи, как «пауперизм» и «пролетариат», не имеют в нашем языке соответствующих слов.
Конечно, критика капитализма не исчерпывала список претензий к Западу, причудливо сочетавшихся с идейными исканиями русского общества.
Катализатором этих исканий во многом стало «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (1836), в котором за Россией отрицалось и прошлое, и настоящее, и будущее – главным образом по причине принятия православия от «растленной Византии». Собственно говоря, после этого письма и появились западники и славянофилы.

Итак, многими интеллектуалами той эпохи Россия и Запад воспринимаются как две если не прямо, то потенциально враждебные силы, причем в характере претензий к оппоненту русские люди вполне солидарны:
1. Кризис веры и духовности.
2. Господство нацеленной на материальные блага капиталистической, «вещественной цивилизации», которая забыла, для чего живет человек. Это привело к торжеству эгоизма и корыстолюбия и отодвинуло на задний план идеалистические компоненты бытия – религию, культуру и искусство, что оценивалось как явный симптом деградации. Олицетворяла эту цивилизацию в первую очередь Англия, однако схожие процессы фиксируются и во Франции, и в Германии.
Не зря Анджей Валицкий уделяет столько внимания антикапиталистическим утопиям славянофилов, Герцена и других видных представителей русской общественной мысли.
3. Политическая нестабильность Европы, воспринимаемая как очевидный признак ее близкого крушения. Мечущийся в тщетных попытках решить свои социальные проблемы Запад противопоставлялся России, стоявшей незыблемо, «яко гора Сион среди всемирных треволнений».
Пока Европу раздирали социальные противоречия, Россия безмятежно вкушала величавый покой, обладая самой сильной армией и патриархальными нравственными устоями, которые призваны были устыдить погрязших в эгоизме европейцев и дать им пример настоящих взаимоотношений между людьми.
При этом нередко звучит мысль о желательности изолировать Россию от тлетворного влияния Запада, о разрыве культурных контактов.
4. В разных вариантах оформляется тезис об усталости, апатии, упадке и близкой смерти «старой Европы», на смену которой неизбежно придет «молодая» Россия. Не Турция же и не Америка со своим рабством негров!
Подход тут был антропоморфный: дескать, да, европейцы добились всего, чего могли, все уже совершили – и теперь медленно, но неизбежно будут угасать.
Эти идеи вкупе с «геополитическим» осмыслением окружающего мира во многом объясняют появление русского мессианизма. Он мог быть религиозно-мистическим, как у бывших любомудров, славянофилов и Чаадаева, а мог быть атеистическим, как у Белинского и Герцена.
Выражалось это мироощущение у всех по-разному. Тот же Белинский стал автором одного из штампов советской пропаганды:
Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году стоящею во главе мира, дающею законы в науке и искусстве и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества.
Кульминации эти настроения достигли у славянофилов, которые дали наиболее развернутое обоснование противоположности России и Запада в виде более или менее законченной системы. Не имея возможности остановиться на этом сколь-нибудь подробно, коснусь лишь некоторых тезисов, важных для нашей книги.
Напомню лишь, что для славянофилов Россия и Запад – это два противоположных мира, две принципиально отличных друг от друга цивилизации.
Первая при этом превосходит второй, поскольку в России возвышенное доминирует над земным, духовное над материальным, чувства над расчетом, эмоциональное над рассудочным, цельность восприятия мира над его аналитическим разложением на компоненты, «вера и предания» над «формальным разумом», а в конечном счете – коллективизм над индивидуализмом.
В каком-то смысле, упрощая, можно сказать, что для славянофилов Россия и Запад соотносятся как брак на небесах и брак по расчету, с контрактом.
Противоположность цивилизаций заложена историей и проявляется буквально во всем. Россия избежала действия трех ключевых факторов, сформировавших Европу, – католицизма, греко-римского наследия (в первую очередь римского права) и германского завоевания.
Поэтому мы, благодаря православию как истинному христианству и его воплощению – крестьянской общине, в целом избавлены от таких пороков Запада, как эгоизм отдельной личности, рационализм, расчетливость, рассудочность, корыстолюбие, беззастенчивое господство сильных над слабыми и т. д. – всего того, что породило гибельный «социальный вопрос» (то есть противоречие между трудом и капиталом), поставивший Европу на грань крушения.
Соответственно, Запад отрицается славянофилами как мир индивидуализма и конкуренции и, напротив, утверждается первенство России как носительницы культуры, основанной на общинном, коллективистском начале, а значит, более высокой в морально-нравственном отношении.
Как правило, более или менее подробным изложением взглядов славянофилов на отличия между Россией и Западом рассказ о них и заканчивается.
Однако не говорится, на мой взгляд, главного: славянофильство было формой «национального русского христианского утопического социализма», по определению историка С. С. Дмитриева. Между тем только в этом контексте все подчеркиваемые ими различия между Россией и Европой обретают, как кажется, настоящий смысл.









































