Текст книги "Цена утопии. История российской модернизации"
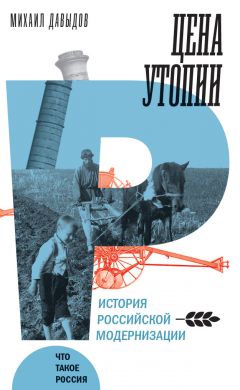
Автор книги: Михаил Давыдов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Впрочем, тому же Хомякову не хуже ревизоров Киселева было известно, что реальная община – вовсе не тот гармоничный идиллический мир, который он рисовал в своих текстах. Ведь он был практическим хозяином и еще в 1842 году писал, что «строгое устройство мира приводит крестьян небойких и плохих в тяжелую зависимость от крестьян расторопных и трудолюбивых», что бедные крестьяне в общине зависят от богатых, что в общине встречается «чрезмерная глупость или неисцелимая лень», а среди крестьян есть «ленивые и негодяи».
Но это знание, так сказать, внутреннее, для себя, а община как парадная витрина идеологии – совсем другое дело.
Такого рода двойственность, весьма похожая на лицемерие, была характерна и для Герцена. Возьмем его идею социалистического потенциала общины, который волшебным образом должен быть превращен в полноценный социализм, на чем 60 лет стояло левое народничество.
Вот типичный образчик рассуждений Герцена, в котором он соотносит перспективу развития России с опытом человечества:
Серьезный вопрос не в том, которое состояние лучше и выше – европейское, сложившееся, уравновешенное, правильное, или наше, хаотическое, где только одни рамы кое-как сколочены, а содержание вяло бродит или дремлет в каком-то допотопном растворе, в котором едва сделано различие света и тьмы, добра и зла.
Тут не может быть двух решений.
Остановиться на этом хаосе (российском) мы не можем… но… чтобы сознательно выйти из него, нам предстоит другой вопрос… есть ли путь европейского развития единый возможный, необходимый, так что каждому народу, – где бы он ни жил… – должно пройти им, как младенцу прорезыванием зубов, срастанием черепных костей и пр.?
Или оно само – частный случай развития, имеющий в себе общечеловеческую канву… И в таком случае не странно ли нам повторять теперь всю длинную метаморфозу западной истории, зная вперед le secret de la comedie[3]3
Здесь: развязку (фр.).
[Закрыть].
Звучит красиво – в типично герценовском стиле.
Но что за этим стоит?
Каким образом превозносимый им «коммунизм в лаптях» может обеспечить процветание русского крестьянства, если сейчас оно живет «в каком-то допотопном растворе, в котором едва сделано различие света и тьмы, добра и зла»?
Как можно «сознательно» выйти из такого хаотического состояния, где плохо различаются белое и черное? Тут и ошибиться недолго, приняв одно за другое.
Какой степенью инфантилизма нужно обладать, чтобы, живя в городе, где через четыре года откроется метро, всерьез писать, что западный мир, якобы дошедший до своего предела, спасет «какой-то тусклый свет» «от лучины, зажженной в избе русского мужика»?
И еще с ноздревским фанфаронством смаковать:
…Этот дикий, этот пьяный в бараньем тулупе, в лаптях, ограбленный, безграмотный… этот немой, который в сто лет не вымолвил ни слова и теперь молчит, – будто он может что-нибудь внести в тот великий спор, в тот нерешенный вопрос, перед которым остановилась Европа, политическая экономия, экстраординарные и ординарные профессора, камералисты и государственные люди?
В самом деле, что может он внести, кроме продымленного запаха черной избы и дегтя?
Вот подите тут и ищите справедливости в истории, мужик наш вносит не только запах дегтя, но еще какое-то допотопное понятие о праве каждого работника на даровую землю. Как вам нравится это? Положим, что еще можно допустить право на работу, но право на землю?.. А между тем оно у нас гораздо больше чем право, оно факт.
В этом фрагменте есть все – и воздетые руки, и театральный пафос зазывалы, и горделивое поглядывание в сторону тупой европейской профессуры и государственных людей – «Знай наших!».
Нет только здравого взгляда на окружающий мир. Судя по тексту (не факт, что он так думал на самом деле), Герцен искренне не понимает, о чем пишет.
Он, повторюсь, не осознает, что приводящее его в восторг «право на землю» – это не право на свободу, на собственность и достаток, а лишь «право на тягло», на равное с другими тяглецами «право» вкалывать на барщине либо платить оброк казне или барину.
И не менее поразителен финал рассуждений Герцена, декларирующий, что
задача новой эпохи, в которую мы входим, состоит в том, чтоб на основаниях науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плутая по неизвестным путям, развитие Запада.
Новая жизнь наша должна так заткать в одну ткань эти два наследства, чтоб у свободной личности земля осталась под ногами и чтобы общинник был совершенно свободное лицо.
В голове сразу всплывают строки из гимна СССР о «союзе нерушимом республик свободных».
Тут ведь одно из двух: или республики свободны, или союз нерушим. Третьего не дано.
Либо человек – собственник земли, и тогда она у него точно «под ногами», а он является «совершенно свободным лицом».
Либо он «общинник» в уравнительно-передельной общине, и тогда он получает от общины пайку, как раньше получал ее от помещика, чтобы тянуть тягло, и «совершенно свободным лицом» он быть не может по определению.
Герцену ли, не самым простым путем получившему свое наследство, не знать, что истинная свобода обеспечивается собственностью, а не периодически переделяемой землей, которая неизвестно кому принадлежит? Это удел рабов и крепостных.
И как можно обосновывать идеалы свободы и справедливости на нормах, выросших из крепостных отношений? Ах да, крепостное право ведь не повлияло на душу народа…
Когда пытаешься понять, каким же чудом будут реализованы герценовские мечтания, на ум приходят только два актора, и оба относятся к низшим водоплавающим позвоночным, прославленным в русском фольклоре, – это Золотая Рыбка и героиня сказки «По щучьему велению».
Здесь закономерно возникает вопрос о мере его искренности.
Позже Ф. Энгельс будет объяснять народникам, что в русской общине, как и в германской марке, кельтском клане, индийской и других общинах «с их первобытно-коммунистическими порядками», за сотни лет существования никогда не возникал стимул «выработать из самой себя высшую форму общей собственности… Нигде и никогда аграрный коммунизм, сохранившийся от родового строя, не порождал из самого себя ничего иного, кроме собственного разложения».
Поэтому коренное преобразование общины возможно только после победы пролетарской революции на Западе, которая поможет России сельскохозяйственными технологиями и деньгами.
Разумеется, народников это не убедило – «у советских собственная гордость».
Возникновение нового общественного настроения
Итак, реальная крепостная община была не очень похожа на романтические конструкции славянофилов, которые просто сочинили красивую сказку, придумав себе народ, как люди иногда придумывают себе возлюбленных, приписывая им все мыслимые достоинства.
Проблема, однако, была в том, что эта сказка адекватно соответствовала внутреннему мироощущению множества русских людей – однако не всех. Оценивая значение славянофилов, Чичерин писал, что в их
учении русский народ представлялся солью земли, высшим цветом человечества. Без упорной умственной работы, без исторической борьбы, просто вследствие того, что он от одряхлевшей Византии получил православие, он становился избранником Божьим, призванным возвестить миру новые, неведомые до тех пор начала… И патриотизм, и религиозное чувство, и народное самолюбие, и личное тщеславие – все тут удовлетворялось.
Чичерин был далеко не единственным, кого это «чистое фантазерство» не устраивало, кто понимал, что это слишком удобная точка зрения. Вместе с тем понятно, что многим трудно устоять от соблазна считать свой народ «солью земли». Трудно равнодушно воспринимать учение, которое тешит «и патриотизм, и религиозное чувство, и народное самолюбие, и личное тщеславие».
Сплав самодовольства с мессианством – сильный наркотик. Мы знаем, что в течение последних 180 лет аргументы славянофилов вовсю использовались и используются в наши дни пропагандистами самых разных направлений, даже враждебных друг другу. И – воспринимаются миллионами людей, живших в Российской империи и в СССР и живущих в современной России. Приятно сознавать свою принадлежность к народу – «Божьему избраннику».
Видный государственный деятель А. Н. Куломзин (1838–1923) пишет о том, что славянофильский
взгляд на нашу общину, как на носительницу чего-то особенного, как на великую панацею от грядущих зол пауперизма… необычайно льстил национальному самолюбию, и не удивительно, что чересчур многие не славянофилы беззаветно поверили этому учению.
У меня взгляд этот так сильно засел в голове, что ни путешествия по Европе, ни созерцание там успехов земледелия в руках частных собственников, ни прилежное изучение политической экономии не изменили моих взглядов. Лишь смутное время 1905–1906 годов, указавшее на тот социалистический путь, который развила община в быту крестьянского сословия, окончательно меня отрезвило.
Нам сейчас непросто понять, насколько указанная выше проблематика была важна и актуальна для людей того времени.
Решался ключевой вопрос реальной политики не очень далекого будущего: куда идти стране?
Новейшая история Запада из России виделась хаосом неразрешимых противоречий, которые должны были непременно погубить его.
Отсюда возникали законные вопросы.
Если развитие Запада полно потрясений, страданий и жертв, зачем России идти его путем?
Если прогресс промышленности чреват ростом числа беспокойных и опасных пролетариев – разоренных крестьян, то зачем нам фабричная промышленность? Мы знаем, что невиданный технический прогресс Запада для русских людей отнюдь не был безусловной ценностью.
Зачем ломать существующий порядок, при котором каждый крестьянин обеспечен землей? Отсюда вытекала не только апология крепостного права, но и отрицание необходимости индустриализации (конечно, звучали и другие голоса).
Очень сильна была идея о том, что Россия должна остаться аграрной страной, а промышленность нужно развивать в форме кустарных заведений и «патриархальных» фабрик. Подобная недооценка индустрии и непонимание ее важности всегда были характерны для отсталых земледельческих стран.
Так или иначе совокупными усилиями славянофилов и близких к ним по взглядам интеллектуалов, а также Гакстгаузена с конца 1830-х годов начинается формирование нового общественного настроения, кристаллизации которого содействовали Герцен и Чернышевский.
Его важнейшими компонентами, заслуживающими отдельных исследований, стали:
1. Идея самобытности русского исторического развития, превратившаяся в своего рода «религию», то есть уверенность в неповторимости, уникальности положения России в тогдашнем мире и в морально-нравственном превосходстве русских над эгоистичными расчетливыми европейцами, живым доказательством чего считалась уравнительно-передельная община.
На практике это оборачивалось высокомерным отторжением опыта человечества и фактическим убеждением, что, условно говоря, действие экономических и других законов развития человечества заканчивается на русской границе.
2. Неотделимое от этого мессианство – Россия понималась как маяк и надежда для всего мира; господствовала уверенность в том, что благодаря общине она решит социальный вопрос лучше и легче, чем Европа.
Православный компонент мессианства атеисты, понятно, не разделяли, но атеистами были не все.
3. Выраженный антиевропеизм, очень сильные антикапиталистические, а шире – антимодернизационные настроения, неявная склонность к автаркии. Будущее России виделось только на контрасте, на противопоставлении Западу.
4. Приверженность различным вариантам социализма – от христианского у славянофилов до атеистического революционного у левых народников, а также политика государственного социализма, проводившаяся Александром III и Николаем II.
Уравнительно-передельная община, лежавшая в основе этого нового общественного настроения, превратилась в миф национального самосознания, символизирующий наше морально-нравственное превосходство над «гнилым» меркантильным Западом.
Она воспринималась как живое воплощение христианских ценностей. Тезис о том, что община – гарантия от пролетаризации деревни, во многом предопределивший конструкцию реформы 1861 года (помимо фискально-полицейских соображений), стал аксиомой, а община «вошла для многих в неизменный инвентарь национальных святынь, подлежащих охранению».
Все перечисленное выше было неотделимо от низкого уровня правосознания русского общества, вполне естественного после веков порожденного крепостничеством правового нигилизма.
Это новое настроение само по себе было программой, оказавшей влияние не только на подготовку и реализацию Великих реформ.
Выросшее из мессианства оно, повторюсь, было как формой самоутверждения, так и одновременно и своего рода самозащитой русского общества от грядущей модернизации.
Поэтому оно во многом предопределило общественное и идейное развитие нашей страны в пореформенную эпоху, став психологической основой антикапиталистической утопии.
Вместе с тем повторю, что превращение общины в национальную святыню имело и другую сторону, о которой не стоит забывать: для власть имущих она была оптимальной формой эксплуатации и контроля деревни. И наивно думать, что данный аспект был на периферии сознания тех, кто принимал решения перед Крестьянской реформой и после нее. Конечно, об этом не принято было говорить вслух, но иногда люди проговаривались.
Всего один пример. Товарищ обер-прокурора Второго («крестьянского») департамента Сената (позже правитель канцелярии МВД) Н. А. Хвостов был одним из главных деятелей, загнавших в конце XIX века деревню в правовой хаос сенатских толкований ее жизни.
В декабре 1904 года в Особом совещании С. Ю. Витте он с пафосом говорил, что «группа истинно русских людей не может никогда помириться ни с упразднением общины, ни с уничтожением семейного быта крестьян», и укорял «космополитов», которые думали,
что здесь, в России, можно сделать все то, что уже сделано в Западной Европе, что земля и у нас может быть распродаваема, как на Западе, что нам нечего бояться пролетариата, потому что в Западной Европе тоже существует пролетариат.
В настоящее время нам – националистам остается только просить о том, чтобы не делали вреда тому, что у нас есть самобытного – тому, что на Западе уже испорчено непоправимо, и в чем нам вскоре вся Западная Европа будет завидовать, то есть нашей общине, нашим обеспеченным неотчуждаемой землей крестьянам и др.
В заключение он ссылался на «гениальные умы» Кавура и Бисмарка, утверждавших, что «вся сила России заключается в общинном устройстве, в ее обеспеченных землей крестьянах».
Что и говорить, принципиальный человек, хотя и с высокой потребностью в чужой зависти.
Между тем хорошо знавший Хвостова К. Ф. Головин характеризовал его как «усердного и зоркого стража полной сохранности общины», убежденного, «что мирское владение – один из верных устоев русского государства», прикасаться к которому «он не позволял» – так как только община, по его мнению, обеспечивает помещикам «полевых рабочих, которых не хватило бы при подворном заселении».
Я не собираюсь строить догадки на предмет искренности апологетов общины, будь то помещики, или революционеры, но убежден, что их славословия в ее адрес весьма часто прикрывали куда более приземленные вещи.
Во всяком случае, очевидно, что социальный расизм задавал рамки восприятия элитами окружающего мира. Прикрываемый разными, даже на первый взгляд совершенно противоположными мнениями, он оказал сильное воздействие не только на Великую реформу и аграрную политику правительства после 1861 года, но и на подходы общественности всего политического спектра к пореформенному развитию страны.
Великая реформа
Крымская война воспринималась в России как
священная война, борьба за православие и славянство, окончательное столкновение между Востоком и Западом, которое должно было вести к победе нового, молодого народа над старым, одряхлевшим миром.
Тютчев еще в 1850 году в стихах призывал Николая I короноваться в Святой Софии «как всеславянскому царю».
В привычном ключе размахнулся и Погодин:
Я спрошу только, обозревая всю нашу историю в продолжении тысячи ее лет, нашла ли Россия центр своей тяжести?
Нет. Она его ищет, но еще не нашла. ‹…›
Представьте себе маятник: его качание было от Новагорода к Киеву, а потом от Киева к Петербургу.
Из Петербурга размах не может остановиться нигде, кроме Константинополя…
Но Константинополь ведь тоже будет на краю, как и Петербург?
А славяне-то, которые простираются до Адриатического моря, до пределов Рима и Неаполя к Западу, а к северу до среднего Дуная и Эльбы? Соответственна ли эта почтенная окружность для нового нашего центра Константинополя?
Однако сражения при Альме, Инкермане, Балаклаве, Черной речке и Евпатории показали, что закидать шапками наспех собранные войска «гнилого Запада» не так просто, как это представлялось. Череда поражений после десятилетий самовлюбленной трескотни о нашем могуществе стала шоком – не меньшим, чем в свое время Аустерлиц и Фридланд.
Но в 1854–1855 годах речь шла не о военном гении Наполеона, а о технической отсталости России от передовой Европы, которую не могла компенсировать храбрость солдат и офицеров.
В Крыму индустриальное общество одержало победу над «феодальным». Наши парусники не могли сражаться с англо-французскими пароходами, и П. С. Нахимов затопил Черноморский флот. В некоторых боях русскую пехоту с ее гладкоствольными ружьями буквально расстреливали из нарезных штуцеров; англичане проложили от Балаклавы до Севастополя железную дорогу и т. д. и т. п.
Поражения в Крыму и героическая, но безуспешная оборона Севастополя показали принципиальную несостоятельность николаевского режима, который, подавляя живые силы страны, подрезал собственные корни. Прозрела даже часть записных оптимистов.
В феврале 1855 года Николай I скончался, и на престол взошел Александр II.
Настроения тех месяцев Чичерин описывает так:
Жившие в то время помнят то сладкое чувство облегчения, которое охватило русское общество, когда последствие 30-летнего гнета, вдруг, с высоты престола, послышались кроткие и милостивые слова: «Простить, отпустить, разрешить!» ‹…› Полные надежды, все взоры устремились к новому монарху. Никто в то время не мечтал о конституции, но все ожидали реформ.
Началась постепенная либерализация режима, которая, впрочем, шла очень непросто. Обновлялся высший эшелон власти, из которого удалялись наиболее одиозные фигуры прошлого царствования. Немного расширилось пространство свободы мысли и слова, смягчилась цензура, хотя обсуждать политические вопросы, в частности эмансипацию, разрешили не сразу.
Особый резонанс вызвало прощение декабристов[4]4
Цесаревич Александр Николаевич еще в 1837 году просил отца помиловать декабристов, с которыми он познакомился в Сибири.
[Закрыть] и петрашевцев, амнистия участников Польского восстания 1830–1831 годов, ликвидация ненавистных народу военных поселений.
Неверно думать, что русское общество дружно бросилось освобождать крестьян. Да, Крымская война показала «гнилость и бессилие царизма». Однако не всем было очевидно, что в основе поражения лежало крепостничество, пропитавшее ткань и все поры государственного организма. Для большинства помещиков это не было достаточной причиной, чтобы лишаться привычного образа жизни.
Тем не менее проблема освобождения крестьян властно выдвинулась на первый план. Это была задача колоссальной важности и сложности, перед которой самодержавие долго пасовало.

Мыслящая часть элиты понимала, что вернуть России положение, легкомысленно потерянное в Крыму, могут только коренные реформы внутреннего строя – то, что мы называем модернизацией.
Крепостное право было основой жизни страны, основой самодержавия, экономики, армии, финансов. Оно консервировало средневековое хозяйство и не позволяло начать экономическую модернизацию, тормозило социальную мобильность и внутреннюю миграцию, а значит, урбанизацию и т. д. Кроме того, оно было фактором социальной напряженности, хотя значение этого фактора не стоит слишком преувеличивать[5]5
Впрочем, есть мнение, что каждый дворянин хотя бы раз в жизни подвергался опасности со стороны простолюдинов.
[Закрыть].
Вместе с тем – вопреки мнению советской историографии – крепостничество отнюдь не находилось в состоянии кризиса, и реформа вовсе не была «вырвана у самодержавия» народными волнениями. Строго говоря, не будь Крымской войны, крепостное право могло стоять еще не одно десятилетие.
Главным фактором его отмены стало изменение отношения верховной власти к самой возможности эмансипации. Время для освобождения пришло в середине XIX века, и во многом потому, что общество стало гуманнее, в жизнь вошли новые поколения с иными, чем у отцов, ценностями. Для части дворян крепостничество было не только социальным анахронизмом, но и моральным скандалом, отравлявшим жизнь страны сверху донизу. Однако эти дворяне были в меньшинстве.
Во имя общегосударственных интересов Александр II в непростых для России условиях решился на изменение всего жизненного уклада империи.
Именно его личная добрая воля стала главным двигателем Великой реформы. Его поддерживал младший брат великий князь Константин Николаевич, председатель Государственного совета, и тетка, влиятельная великая княгиня Елена Павловна. К этому времени в истеблишменте появились люди, готовые разработать и осуществить реформу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































