Текст книги "Цена утопии. История российской модернизации"
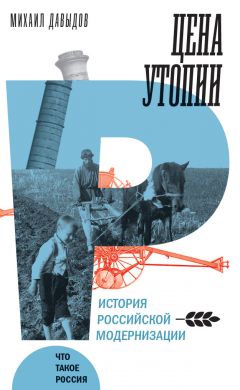
Автор книги: Михаил Давыдов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Антикапиталистическая утопия при капитализме
При Александре II Россия вступила на путь модернизации.
Классической модернизацией называется процесс фундаментального перехода от традиционного аграрного общества к современному индустриальному.
В общем виде принято выделять первичные («органичные», эндогенные) и вторичные («неорганичные», «догоняющие», экзогенные) модернизации. Первые происходили в большинстве стран Западной Европы и Северной Америки, где указанный процесс при всей сложности шел естественно, был закономерным («логическим») следствием предшествующей истории.
Экзогенные модернизации в XIX веке имели место в странах с деспотическим режимом – в России и Японии (позднее – в Турции). Эпитет «неорганичная» подчеркивает тот факт, что история этих стран не предполагала модернизацию как естественный вывод из прошлого, как новую фазу предыдущего развития. Соответственно, модернизация начиналась там в менее благоприятных, чем на Западе, исходных условиях.
Модернизация отнюдь не сводится, как иногда считают, к созданию крупной тяжелой промышленности.
Основными характеристиками модернизированного общества являются правовое государство, гражданское общество, соответствующая уровню эпохи экономика (развитая индустрия, интенсифицированное сельское хозяйство) и формирование рационального автономного индивида.
Ограниченность российской версии экзогенной модернизации особенно заметна при сопоставлении с японским ее вариантом, который начал реализовываться несколько позже.
Напомню, что Япония за 1868–1873 годы, несмотря на гражданскую войну, юридически покончила со Средневековьем, упразднила сословное неравенство, провела аграрную реформу, выкупила землю у феодалов, сделала крестьян собственниками земли и предоставила полную свободу бизнесу, что в сумме создало необходимые предпосылки для быстрого развития капитализма. Была введена всеобщая воинская повинность, принят закон о всеобщем начальном четырехлетнем образовании и т. д. В начале 1880-х годов появились первые политические партии, а в 1889 году – конституция и парламент.
Россия пошла другим путем.
Результаты обе страны сверили в 1904–1905 годах в Порт-Артуре, на полях Маньчжурии и в Цусимском проливе. И Япония, в считаные годы покончившая с долгим Средневековьем, убедительно доказала преимущества своего подхода к модернизации.
Как такое могло произойти? Ведь, скажем, в 1875 году подобная перспектива показалась бы неудачной шуткой.
А случилось это потому, что Япония воплощала в жизнь продуманную программу всесторонних и притом радикальных преобразований, характеризуя которые Уинстон Черчилль заметил, что
за период жизни менее чем двух поколений, не имея никакого опыта, кроме своего далекого прошлого, японцы шагнули от двуручного самурайского меча к броненосцам, нарезным орудиям, торпеде и пулемету «Максим»; такая же революция произошла и в промышленности.
Япония отнюдь не стала среднестатистической западной страной. Она создала не столько либеральное государство, сколько конкурентоспособный государственный организм, не забыв о своих ярких исторических традициях. Она «просто» смогла, опираясь на достижения и опыт Запада, оплодотворить потенциал японского народа, оптимизировав его лучшие качества, значительно повысить уровень того, что сейчас называется «человеческим капиталом», и резко ускорить свое развитие.
Благодаря реформам Япония сумела вдохнуть новую энергию в привычную жизнь, сумела сплотить нацию, дать ей новые цели и смыслы.
Россия же – здесь мне придется повторить то, что сказано в начале книги, – после 1861 года во многом сознательно де-факто реализовывала гигантскую антикапиталистическую утопию – первую в своей истории (и делала это не без успеха – иначе П. Б. Струве, В. И. Ленину и Г. В. Плеханову не пришлось бы тратить столько усилий на доказательство того, что российский капитализм давно стал данностью).
Утопию, согласно которой во второй половине XIX века, в индустриальную эпоху, можно быть «самобытной» великой державой, то есть влиять на судьбы мира, пренебрегая всем тем, за счет чего процветали конкуренты, и прежде всего – общегражданским правовым строем и свободой предпринимательства.
Поэтому Россия лишь модицифировала, пусть и весьма серьезно, многие, но далеко не все ключевые аспекты своего бытия, за пятьдесят лет не отважившись пройти и половины пути, пройденного японцами за пять.
В итоге в начале ХХ века Российская империя была единственной мировой державой, которая обходилась без парламента и не подпадала под определение правового государства, где 80 % населения не имели права собственности на обрабатываемую землю, свободы передвижения и вообще находились вне сферы действия положительного законодательства, где не произошла агротехнологическая революция, отсутствовали полная свобода предпринимательства, всеобщее начальное образование и т. д. И где, в частности, по закону крестьян до шестидесяти лет можно было пороть – вплоть до августа 1904 года. Одним из результатов такой политики стало нарастание кризиса аграрного перенаселения в ряде губерний, ошибочно трактуемого современниками как общий аграрный кризис.
Его причины лежали в неспешных темпах экономического развития после 1861 года, диссонировавших не только с демографическим взрывом, но и с внешнеполитическими претензиями империи.
Поразительный факт: правительство до 1890-х годов последовательно игнорировало многое из того, что позволило бы империи реализовать свой гигантский потенциал. Эти меры не нужно было изобретать, они давно уже стали достоянием человечества, их нужно было лишь адаптировать к российским реалиям, как это сделала Япония.
Увы… Для нас это было неприемлемо.
Поэтому едва ли не главный парадокс пореформенной истории – глубокое несоответствие между уровнем геополитических амбиций элит и теми средствами, с помощью которых они воплощали эти амбиции в реальную жизнь.
Страна, претендующая на роль одного из мировых лидеров, упорно сохраняла вынесенные из эпохи Священного союза представления об основах мировой политики, о том, что такое статус великой державы и каким образом он поддерживается в индустриальную эпоху.
Фактически это говорит о недостаточной квалифицированности и даже некомпетентности правительства империи. Оно оказалось не на высоте положения и стоящих перед ним задач, оно не сумело или не захотело понять, какими средствами во второй половине XIX века борются за мировое первенство. Показательно, что большая часть общественности, включая передовую, разделяла утопический антикапитализм власти.
Даже в тех ограниченных рамках, в которые были поставлены производительные силы страны после 1861 года, можно было сделать намного больше.
Только поражение в Русско-японской войне, ставшее настоящим потрясением для жителей страны, и спровоцированная им революция 1905 года показали цену «самобытного» утопизма – Россия оказалась на грани крушения.
И тогда наиболее дальновидная часть истеблишмента выступила за смену алгоритма развития страны. П. А. Столыпин зафиксировал это в известных словах: «Преобразованное по воле монарха Отечество наше должно превратиться в государство правовое».
Тем самым Россия встала на общемировой путь.
Мы должны понять, почему это произошло так поздно.
Антикапитализм при капитализме
С особенным раздражением мы, рудничные инженеры Донецкого бассейна, относились к той общественной недоброжелательности, которой мы подвергались за якобы эксплуататорское отношение промышленности к рабочим, по существу же за то, что мы занимались промышленным делом.
В наличии рудников, в их быте, в том, что они вносили в местную жизнь, хотели видеть только дурное – сказывалась исконная неприязнь, почти ненависть русского интеллигента к промышленности, к возможному накоплению, подозреваемому богатству. Эта неприязнь связывалась всегда с обязательностью сожалительного плача над меньшим братом. Много было в этом легкомыслия, незнания и нежелания знать.
А. И. Фенин
Мы помним, что в пореформенную эпоху образованный класс страны вступил с новым общественным настроением, в котором антикапиталистические и антибуржуазные представления, нередко густо замешанные на социализме, играли более чем значимую роль.
И основные характеристики модернизированного общества – правовое государство, гражданское общество, адекватная индустриальной эпохе экономика и появление рационального автономного индивида – плохо вписывались в это настроение.
Первая часть этой книги, полагаю, дает представление о том, сколько препятствий стояло на пути создания:
– правового государства в стране с «неопределенным юридическим бытом» (К. П. Победоносцев) и слабым правосознанием жителей;
– гражданского общества людьми, прошедшими школу крепостничества, – от императора до крестьян;
– рациональной личности в стране с минимальной грамотностью;
– современной экономики в стране, где правительство, насаждавшее аграрный коммунизм, не осознавало требований времени и скептически воспринимало мировой опыт.
Перспектива индустриализации по-прежнему отвергалась немалой частью образованного класса, видевшего Россию аграрной, но не промышленной страной. Громадное значение промышленности для укрепления мощи страны и ее обороноспособности адекватно не воспринималось. За рамки выносилась «полуфеодальная» казенная военная промышленность, противопоставлявшаяся «социально чуждым» частным предприятиям.
Подобная недооценка роли индустрии и непонимание ее важности были, повторюсь, характерны для отсталых аграрных стран, но японцы почему-то смогли преодолеть этот стереотип.
Вышесказанное, разумеется, не следует понимать прямолинейно.
Утопия, разумеется, не была неким плановым заданием, зафиксированным в правительственных актах и документах, выполняемым активно и осознанно. Просто поступательное движение капитализма тормозила система мощных институциональных препятствий, со временем лишь укреплявшихся. А многое шло по инерции крепостной эпохи, причем без понимания последствий тех или иных действий.
Тем не менее капитализм, конечно, развивался, строились железные дороги, возникали новые предприятия и т. д. Великие реформы действительно преобразили страну.
Я говорю о том, что эти процессы шли недостаточно интенсивно.
Считается, что главной целью модернизации было возвращение России статуса великой державы, однако велась она весьма специфично. С одной стороны, правительство не могло создать «настоящего» капитализма, а с другой – оно искренне этого не хотело по соображениям морально-нравственного свойства.
Не могло потому, что для этого нужно было отказаться от основы государственной политики – сословно-тяглового строя – и дать подданным общегражданские «буржуазные» свободы, в том числе ввести частную собственность крестьян на землю и юридически уравнять всех граждан вне зависимости от сословной и вероисповедной принадлежности и т. д. К столь радикальным переменам ни правительство, ни общество не были готовы.
А не хотело потому, что капитализм воспринимался едва ли не как абсолютное зло – и в Зимнем дворце, и на явочных квартирах.
Понятно, что Россия не была одинока в своем неприятии капитализма – ведь его критику русские журналы в свое время заимствовали из западных источников. Антикапиталистический, антибуржуазный, антимещанский как бы «интернационал» по факту возник куда раньше организации Маркса и Энгельса.
Достаточно вспомнить, например, Флобера, не упускавшего, по мнению историка Тимо Вихавайнена, случая назвать себя «Гюставус Флоберус Буржуаненавидящий» (Gustavus Flaubertus Bourgeoisophobus). Как-то он написал Жорж Санд: «Аксиома: ненависть к буржуазии – начало пути к добродетели».
Подробный анализ этого сюжета увел бы нас далеко в сторону. Замечу лишь, что такой концентрации антикапиталистических настроений, какая была в России, причем не только в интеллектуальной среде, но и во властных структурах, включая самые высшие, не было ни в одной из ведущих стран того времени.
Мы располагаем тысячами страниц официальных правительственных документов, литературы и публицистики всех цветов политического спектра, художественной литературы и источников личного происхождения, которые в разной форме подтверждают эту мысль.
Из множества мнений за недостатком места приведу пять, но показательных.
В 1885 году С. Ю. Витте (!) опубликовал статью «Мануфактурное крепостничество», в которой призывал бороться с идеологией «манчестерства», то есть свободного развития капитализма, «чтобы не уродовать духовно и телесно русский народ», который «выстрадал терпеливо крепостное право», но может не справиться с «новым рабством… мануфактурным крепостничеством».
В 1896 году один из последних могикан РК Н. П. Семенов писал:
Гнет капитала невыносим для свободного духа человека. В сравнении с этим гнетом бывшая у нас крепостная зависимость крестьян представляется легкою (!!! – М. Д.), и если правительство думало бы когда-нибудь серьезно вести Россию по пути, в конце которого стоит обнищание народных масс, то стоило ли бы поднимать столько хлопот для освобождения крестьян, чтобы променять путавшую их веревку на железные цепи, надеваемые на настоящие рабочие руки эгоизмом и бездушием собирателей капитала?
В. К. Плеве в 1897 году утверждал: «Имеется полное основание надеяться, что Россия будет избавлена от гнета капитала и буржуазии».
Министр иностранных дел М. Н. Муравьев в 1899 году на совещании у Николая II заметил, что вместе с иностранным капиталом «проникают в население идеалы и стремления, присущие капиталистическому строю», и правительство не может смотреть на это равнодушно.
А вот мнение кумира «народолюбивой» интеллигенции Н. К. Михайловского: «Кредит, промышленность, эксплуатация природных сил страны – все это вещи сами по себе прекрасные», однако «если они направлены не ко благу непосредственно трудящихся классов», то «дают прискорбнейшие результаты». В этом случае развитие кредита
даст только средства обирать народ… Всякому понятно, что вся публицистика, ратующая за развитие кредита… за умножение акционерных обществ в России, за развитие отечественной промышленности – ратует за гибель и нищету русского народа.
Показательно и то, что русская классическая литература не дает ни одного положительного образа бизнесмена (исключая Штольца – если, конечно, считать его таковым).
Современник отмечает, что в России
слово «промышленник» сделалось почему-то синонимом слова «мошенник», «кровопийца», «эксплуататор» и прочих, не менее лестных, определений. Такая практика вошла в плоть и кровь нашего общественного мнения.
Не понимавшее государственной важности развития индустрии общественное мнение очень волновали чрезмерные, на его взгляд, доходы предпринимателей. П. Б. Струве писал в 1908 году, что воспитанной на идее безответственного равенства русской интеллигенции не доступна сама суть экономического развития общества, тот факт, что экономический прогресс зиждется на победе более производительной хозяйственной системы над менее эффективной. Интеллигенция
в ее целом не понимала и до сих пор не понимает значения и смысла промышленного капитализма. Она видела в нем только «неравное распределение», «хищничество» или «хапание» и не видела в его торжестве победы более производительной системы, не понимала его роли в процессе хозяйственного воспитания и самовоспитания общества.
Струве говорит о весьма широком круге образованных русских людей, включая адептов крайне правых взглядов. Все они отрицали капитализм и ратовали за общину как олицетворение «равного распределения», но у них и в мыслях не было, что крестьяне не меньше их достойны иметь общегражданские права.
Можно как угодно относиться к капитализму, но настоящий капитализм – это всегда права, в том числе и права человека. Они могут реализовываться в большей или меньшей степени (вопрос места и времени), но это – права.
Антикапитализм – что в мягком варианте 1861–1905 годов, что в жесткой и жестокой версии 1917–1991 годов – это всегда ограничение или отсутствие прав.
Конечно, в России было немало людей, которые, подобно Н. Г. Гарину-Михайловскому, одному из строителей Транссиба, разделяли мысли Струве. Однако не они определяли общественный климат, где отторжение «мира наживы» стало одним из маркеров нашей самобытности.
Общеизвестно, что промышленность после 1861 года развивалась недостаточно для отвлечения из деревни огромного прироста населения, причем об этом говорят как о некой априорной данности, вроде господства континентального климата.
Между тем оба феномена имеют вполне «рукотворный» характер. Слабое развитие промышленности – это закономерное следствие осознанной торгово-промышленной политики правительства. Она, в частности, отрицала полную свободу бизнеса, с подозрением относилась к иностранному капиталу и архаичным законодательством затрудняла создание новых предприятий; при этом община, ограничивавшая – в числе прочего – свободу передвижения крестьян, и после 1861 года продолжала тормозить образование рынка свободной рабочей силы. В то же время демографический взрыв – в большой мере результат действия созданного реформой и искусственно поддерживавшегося до 1906 года общинного режима, прямо поощрявшего рождаемость.
Власть свыше четверти века делала явно недостаточно для развития современной индустрии и вплоть до 1906 года – практически ничего для интенсификации сельского хозяйства, прежде всего крестьянского (в стране, где 80 % населения жили в деревне!).
У российских элит не было сколь-нибудь ясного понимания необходимости осмысления и решения этого пласта проблем. Так, реальная история пореформенной индустриализации демонстрирует отсутствие у власти в течение 1860–1880-х годов должной энергии и стратегического видения в подобных вопросах. Об обществе и говорить не приходится.
В свете данной информации не кажется случайностью, что во время войны 1877–1878 годов Россия, в отличие от Турции, оказалась не только без современного флота, но и без дальнобойных стальных пушек, а из пехотинцев лишь каждый пятый имел усовершенствованную «винтовку Бердана № 2».
Избранный вариант развития страны был бы менее утопическим, если бы империя умерила свои внешнеполитические аппетиты и сконцентрировалась на освоении уже завоеванной гигантской территории, равной 1/6 земной суши.
Однако было весьма наивно, не понимая, за счет чего конкуренты опережают нас, сохранять после 1861 года прежний масштаб претензий к географической карте и реанимировать амбиции образца 1815–1853 годов, имея в качестве государственного базиса общинный вариант неокрепостничества, неграмотное на 80 % население и промышленность, которой не дают свободно развиваться.
Здесь дурную роль – как всегда и везде в подобных случаях – сыграли воспоминания-наркотик о былом военном величии XVIII – первой половины XIX века.
Конечно, описываемая коллизия отчасти вызвана тем, что к 1861 году русское общество эмоционально было перекормлено ужасами раннего капитализма.
Однако глобально подобное отношение – продукт всей русской истории и культуры в самом широком их значении, а его корни в первую очередь следует искать в наследии православия; вспомним, хотя бы С. Н. Булгакова, который в «Очерках учения православной церкви» утверждал:
Православие не стоит на страже частной собственности как таковой, даже в той степени, в какой это еще делает католическая церковь, видящая в ней установление естественного права… Православие не может защищать капиталистической системы хозяйства как таковой, ибо она основана на эксплуатации наемного труда, хотя и может до времени мириться с ним в виду его заслуг в поднятии производительности труда и его общей производственной энергии.
В то же время
мы имеем совершенно достаточное основание для положительного отношения к социализму, понимаемому в самом общем смысле, как отрицание системы эксплуатации, спекуляции, корысти.
Как теперь понятно, в середине XIX века наша страна априори имела немало возможностей для того, чтобы силой вещей стать одним из мировых лидеров не только по размерам территории и количеству солдат, которые могла поставить под свои знамена.
Когда задумываешься о том, почему этого не произошло, на ум поневоле приходит следующая аналогия.
В определенном смысле Россия повторила – конечно, в других условиях, на другом уровне и в другое время – судьбу Испании, которая, казалось бы, после открытия Америки была обречена на роль первой в мире державы, однако довольно быстро угасла, не использовав предоставленный ей шанс.

И в том и в другом случае роковую роль сыграл феномен, который именуется исследователями как цивилизационный или культурный код, имевший выраженную антибуржуазную, антикапиталистическую направленность.
Нам сейчас не столь важны разночтения в терминологии, важно, что речь, в сущности, идет об очень схожих явлениях – о сложнейшем комплексе архетипов сознания, воспитанных всей предшествующей историей и культурой страны.
У них – психология победившей католической Реконкисты, «дух кастильских средневековых воинов, который практически несовместим с капитализмом» и, в частности, подразумевает «презрение… даже к производительной деятельности как таковой».
У нас – ментальность православной страны, выходящей из всеобщего закрепощения сословий.
Тем не менее, невзирая на все вышесказанное, модернизация в России шла относительно успешно, хотя и недостаточно быстро. Если в качестве конечного аргумента власти в стране не фигурирует ГУЛАГ, жизнь всегда берет свое.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































