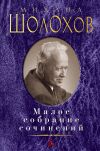Текст книги "Донские рассказы (сборник)"

Автор книги: Михаил Шолохов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
За короткие минуты просветления, вспышками озарявшего сознание, Звягинцев пока еще не успел по-настоящему осмыслить всей бедственности своего положения, не успел пожалеть себя, а девушку пожалел, сокрушенно думая: «Дите, совсем дите! Ей бы дома с книжками в десятый класс бегать, всякую алгебру с арифметикой учить, а она тут под невыносимым огнем страсть терпит, надрывает животишко, таская нашего брата…»
Огонь как будто стал утихать, и чем реже гремели взрывы, мощными голосами будившие Звягинцева к жизни, тем слабее становился он и тем сильнее охватывало его темное, нехорошее спокойствие, бездумность смертного забытья…
Девушка наклонилась над ним, заглянула в его одичавшие от боли, уже почти потусторонние глаза и, словно отвечая на немую жалобу, застывшую в глазах, в горьких складках возле рта, требовательно и испуганно воскликнула:
– Миленький, потерпи! Миленький, потерпи, пожалуйста! Сейчас двинемся дальше, тут уже недалеко осталось! Слышишь, ты?!
С величайшим трудом она вытащила его из воронки. Он очнулся, попытался помочь, подтягиваясь на руках, цепляясь пальцами за сухую, колючую траву, но боль стала совершенно нестерпимой, и он прижался мокрой от слез щекой к мокрой от крови плащ-палатке и стал жевать зубами рукав гимнастерки, чтобы не показать перед девушкой своей мужской слабости, чтобы не закричать от боли, которая, казалось, рвет на части его обескровленное и все же жестоко страдающее тело.
В нескольких метрах от воронки девушка выпустила из потной занемевшей руки угол плащ-палатки, перевела хриплое дыхание, неожиданно проговорила плачущим голосом:
– Господи, и зачем это берут таких обломов в армию? Ну зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя, такого мерина? Ведь в тебе, миленький, верных шесть пудов!
Звягинцев разжал зубы, прохрипел:
– Девяносто три…
– Что – девяносто три? Чего это ты? – спросила девушка, шумно дыша.
– Килограммов столько во мне было… до войны. Теперь меньше, – помолчав и прислушиваясь к бурному дыханию санитарки, сказал Звягинцев.
Ему почему-то снова стало жаль эту небольшую, выбивавшуюся из последних сил девушку, и он сначала отвлеченно подумал: «Вот и моя Наташка лет через шесть такая же будет: дурненькая с лица, а сердцем ласковая…» – а потом, напрасно стараясь придать своему голосу твердость и привычную мужскую властность, с передышками проговорил:
– Ты вот что, дочка… ты брось меня, не мучайся… Я сам… Вот полежу малость и сам попробую… Руки целы – долезу как-нибудь!
– Вот еще глупости какие! И к чему вы, мужчины, всегда всякую ерунду говорите? – сердитым шепотом сказала девушка. – Куда ты годен? Ну куда? Это я только так, устала немного, а как только отдохну – снова тронемся. Я еще и не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен! У меня всякие случаи бывали, даже похлестче этого! Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная…
Она еще что-то говорила бодрящее и немножко хвастливое, но Звягинцев, как ни старался, слов уже не различал. Милый девичий голос стал глохнуть, удаляться и, наконец, исчез. Звягинцев снова впал в беспамятство.
Пришел в себя он уже много часов спустя на левой стороне Дона в медсанбате. Он лежал на носилках и первое, что почувствовал, – острый запах лекарств, спирта, а затем увидел низкий зеленый купол просторной палатки, людей в белых халатах, мягко двигающихся по застланному брезентом земляному полу.
«До трех раз память мне отбивало, а я все-таки живой… Значит, выживу, значит, погодим пока помирать», – с растущей надеждой подумал Звягинцев.
Ему почему-то трудно было дышать, и он с опаской, медленно поднес ко рту черную от грязи руку, сплюнул. Слюна была белая. Ни единого розового пузырька на ладони. И Звягинцев повеселел и окончательно убедился в том, что теперь, пожалуй, все для него сойдет благополучно. «Легкие целые, по всему видать, а если через спину какой осколок в печенки попал – его доктора щипцами вытянут. У них тут небось разного шанцевого инструмента в достатке. Главное – как с ногами? Тронуло кости или нет? Буду ходить или – калека?» – думал он, еще раз внимательно и придирчиво разглядывая слюну на большущей, одубевшей от мозолей ладони.
Рядом с ним два санитара раздевали раненого красноармейца. Один поддерживал раненого под руки, второй, бережно касаясь толстыми пальцами, осторожно распарывал ножницами по шву залитые бурыми подтеками штаны, и, когда на пол бесформенной грудой сползли жесткие, как брезент, покоробившиеся от засохшей крови защитные штаны и бязевые кальсоны, насквозь пропыленные и по цвету почти не отличавшиеся от верхней одежды, Звягинцев увидел на правой ноге красноармейца чуть пониже бедра огромную рваную рану, уродливо выпиравшую из красного месива, ослепительно белую, расколотую кость.
Красноармеец, чем-то неуловимо напоминавший Стрельцова, немолодой мужчина с тронутыми сединой усами над ввалившимся ртом и острыми, одетыми голубоватой бледностью скулами, держался мужественно, не проронил ни одного слова и все время смотрел в одну точку отрешенным, нездешним взглядом, но Звягинцев глянул на его левую ногу, беспомощно полусогнутую в колене, худую и волосатую, дрожавшую мелкой лихорадочной дрожью, и, не в силах больше смотреть на чужое страдание, отвернулся, проворно закрыл глаза.
«Этот парень отходил свое. Оттяпают ему доктора ножку, оттяпают, как пить дать, а я еще похожу. Не может же быть, чтобы и у меня ноги были перебитые?» – в тоскливом ожидании думал Звягинцев.
В это время пожилой лысый санитар в очках подошел к нему, наметанным глазом скользнул по ногам и, нагнувшись, хотел разрезать голенище сапога, но Звягинцев, молчаливо следивший за ним напряженным и острым взглядом, собрал все силы, тихо, но решительно сказал:
– Штаны пори, не жалко, а сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них и месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару? Подошва спиртовая, и вытяжки настоящие, говяжьи. Это, брат, не кирзовый товар, это понимать надо… Я и так богом обиженный: шинель-то и вещевой мешок в окопе остались… Так что сапог не касайся, понятно?
– Ты мне не указывай, – равнодушно сказал санитар, примеряясь, как бы половчее полоснуть вдоль шва ножом.
– То есть как это – не указывай? Сапоги-то мои? – возмутился Звягинцев.
Санитар слегка распрямил спину, все так же равнодушно сказал:
– Ну и что, как твои? Бывшие твои, и не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать?
– Слушай, ты, чудак, тяни… тяни осторожненько, полегонечку, я стерплю, – приказал Звягинцев, все еще боясь пошевелиться и от мучительного ожидания новой боли расширенными глазами уставившись в потолок.
Не обращая внимания на его слова, санитар наклонился, ловким движением распорол голенище до самого задника, принялся за второй сапог. Звягинцев еще не успел как следует обдумать, что означают слова «бывшие твои», как уже услышал легкий веселый треск распарываемой дратвы. У него сжалось сердце, захватило дыхание, когда мягко стукнули каблуки его небрежно отброшенных к стенке сапог. И тут он, не выдержав, сказал дрогнувшим от гнева голосом:
– Сука ты плешивая! Черт лысый, поганый! Что же это ты делаешь, паразит?
– Молчи, молчи, сделано уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу на бок лечь, – примирительно проговорил санитар.
– Иди ты со своей помощью, откуда родился и даже еще дальше! – задыхаясь от негодования и бессильной злобы, сказал Звягинцев. – Вредитель ты, верблюд облезлый, чума в очках! Что ты с казенными сапогами сделал, сукин сын? А если мне их к осени опять носить придется, что я тогда с поротыми голенищами буду делать? Слезами плакать? Ты понимаешь, что обратно, как ты их ни сшивай, они все равно будут по шву протекать? Стерва ты плешивая, коросточная! Враг народа, вот ты кто есть такой!
Санитар молча и очень осторожно разматывал на ногах Звягинцева мокрые от пота и крови, горячие, дымящиеся портянки; сняв вторую, разогнул сутулую спину и, не тая улыбки под рыжими усами, спросил веселым, чуть хрипловатым фельдфебельским баском:
– Кончил ругаться, Илья Муромец?
Звягинцев ослабел от вспышки гнева. Он лежал молча, чувствуя сильные и частые удары сердца, необоримую тяжесть во всем теле и в то же время ощущая натертыми подошвами ног приятный холодок. Но в нем все же еще нашлись силы, и, не зная, как еще можно уязвить смертельно досадившего ему санитара, он слабым голосом, выбирая слова, проговорил:
– Сухое дерево ты, а не человек! Даже не дерево ты, а гнилой пенек! Ну, есть ли в тебе ум? А еще тоже – пожилой человек, постыдился бы за свои такие поступки! У тебя в хозяйстве до войны небось одна земляная жаба под порогом жила, да и та небось с голоду подыхала… Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах!
Это был, конечно, непорядок: строгая тишина медсанбатовской раздевалки, обычно прерываемая одними лишь стонами и всхлипами, редко нарушалась такой несусветной бранью, но санитар смотрел на заросшее рыжей щетиной, осунувшееся лицо Звягинцева с явным удовольствием и к тому же еще улыбался в усы мягко и беззлобно. За восемь месяцев войны санитар измучился, постарел душой и телом, видя во множестве людские страдания, постарел, но не зачерствел сердцем. Он много видел раненых и умирающих бойцов и командиров, так много, что впору бы и достаточно, но он все же предпочитал эту сыпавшуюся ему на голову ругань безумно расширенным, немигающим глазам пораженных шоком, и теперь вдруг и некстати вспомнил двух своих сыновей, воюющих где-то на Западном фронте, с легким вздохом подумал: «Этот выживет, вон какой ретивый и живучий черт! А как мои ребятишки там? Провались ты пропадом с такой жизнью, глянуть бы хоть одним глазом, как мои там службу скоблят? Живы или, может, вот так же лежат где-нибудь, разделанные на клочки?»
А Звягинцев уже не только жил, но и цеплялся за жизнь руками и зубами; все еще лежа на носилках, смертельно бледный, с закрытыми, опоясанными синевой глазами, он думал, вспоминая свои безвозвратно погибшие сапоги и красноармейца с перебитой ногой, которого только что унесли в операционную: «Эк его, беднягу, садануло! Не иначе крупным осколком. Вся кость наружу вылезла, а он молчит… Молчит, как герой! Его дело, конечно, табак, но я-то должен же выскочить? У меня вон даже пальцы на ногах боль чувствуют. Лишь бы, по докторскому недоразумению, в спешке не отняли ног! А так я еще отлежусь и повоюю… Может, еще и этот немец-минометчик, какой меня сподобил, попадется мне под веселую руку… Ох, не дал бы я ему сразу помереть! Нет, он у меня в руках еще поикал бы несколько минут, пока я к нему смерть бы допустил! А этому парню, ясное дело, отрежут ногу. Ему, конечно, на черта нужны теперь сапоги! Он об них и думать позабыл, а мое дело другое: мне по выздоровлении непременно в часть надо идти, а таких сапог теперь я в жизни не найду, шабаш! И как он скоро, лысая курва, распустил их по швам! Господи боже мой, и таких стервецов в санитары берут! Ему с его ухваткой где-нибудь на живодерне работать, а он тут своим же родным бойцам обувку портит…»
История с сапогами всерьез расстроила Звягинцева, окончательно утвердившегося в мысли, что до смерти ему еще далеко. И до того было ему обидно, что он, добродушный, незлобивый человек, уже голым лежа на операционном столе, на слова осматривавшего его хирурга: «Придется потерпеть немного, браток», – сердито буркнул: «Больше терпел, чего уж тут разговоры разговаривать! Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте, а то ведь на вас только понадейся…» У хирурга было молодое осунувшееся лицо. За стеклами очков в роговой оправе Звягинцев увидел припухшие от бессонных ночей красные веки и внимательные, но бесконечно усталые глаза.
– Ну, раз больше терпел, солдат, то это и вовсе должен вытерпеть, а лишнего не отрежем, не беспокойся, нам твоего не надо, – все так же мягко сказал хирург.
Молодая женщина-врач, стоявшая с другой стороны стола, сдвинув брови, наклонившись, внимательно осматривала изорванную осколками спину Звягинцева, располосованную до ноги ягодицу. Кося на нее глазами, стыдясь за свою наготу, Звягинцев страдальчески сморщился, проговорил:
– Господи боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что вы, голых мужиков не видали, что ли? Ничего во мне особенного такого любопытного нету, и тут, скажем, не Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и я, то же самое, не бык-производитель с этой выставки.
Женщина-врач блеснула глазами, резко сказала:
– Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. И вам, товарищ, лучше помолчать! Лежите и не разговаривайте. Удивительно недисциплинированный вы боец!
Она фыркнула и встала вполоборота. А Звягинцев, глядя на ее порозовевшие щеки и округлившиеся, злые, как у кошки, глаза, горестно подумал: «Вот так и свяжись с этими бабами, ты по ней одиночный выстрел, а она по тебе длинную очередь… Но, между прочим, у них тоже нелегкая работенка: день и ночь в говядине нашей ковыряться».
Устыдившись, что так грубо говорил с врачами, он уже другим, просительным и мирным, тоном сказал:
– Вы бы, товарищ военный доктор, – за халатом не видно вашего ранга, – спиртку приказали мне во внутренность дать.
Ему отвечали молчанием. Тогда Звягинцев умоляюще посмотрел снизу вверх на доктора в очках и тихо, чтобы не слышала отвернувшаяся в сторону строгая женщина-врач, прошептал:
– Извиняюсь, конечно, за свою просьбу, товарищ доктор, но такая боль, что впору хоть конец завязывать…
Хирург чуть-чуть улыбнулся, сказал:
– Вот это уже другой разговор! Это мне больше нравится. Подожди немного, осмотрим тебя, а тогда видно будет. Если можно – не возражаю, дам грамм сто фронтовых.
– Тут не фронт, тут от фронта далеко, тут можно и больше при таком страдании выпить, – намекающе сказал Звягинцев и мечтательно прищурил глаза.
Но когда что-то острое вошло в его промытую спиртом, пощипывающую рану возле лопатки, он весь сжался, зашипел от боли, сказал уже не прежним мирным и просительным тоном, а угрожающе и хрипло:
– Но-но, вы полегче… на поворотах!
– Эка, брат, до чего же ты злой! Что ты на меня шипишь, как гусь на собаку? Сестра, спирту, ваты! Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть, в чем же дело? Характер у тебя скверный или что?
– А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут, извините, не то что зашипишь, а и по-собачьи загавкаешь… с подвывом, – сердито, с долгими паузами проговорил Звягинцев.
– Что, неужто очень больно? Терпеть-то можно?
– Не больно, а щекотно, а я с детства щекотки боюсь… Потому и не вытерпливаю… – сквозь стиснутые зубы процедил Звягинцев, отворачиваясь в сторону, стараясь краем простыни незаметно стереть слезы, катившиеся по щекам.
– Терпи, терпи, гвардеец! Тебе же лучше будет, – успокаивающе проговорил хирург.
– Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали, ну чего вы скупитесь на лекарства? – невнятно прошептал Звягинцев.
Но хирург сказал что-то коротко, властно, и Звягинцев, за время войны привыкший к коротким командам и властному тону, покорно умолк и стал терпеть, иногда погружаясь в тяжкое забытье, но даже и сквозь это забытье испытывал такое ощущение, будто голое тело его ненасытно лижет злое пламя, лижет, добираясь до самых костей…
Чьи-то мягкие, наверное, женские пальцы неотрывно держали его за кисть руки, он все время чувствовал благодатную теплоту этих пальцев, потом ему дали немного водки, а под конец он уже захмелел, и не столько от водки – не мог же он захмелеть от каких-то там несчастных ста граммов спиртного! – сколько от всего того, что испытал за весь этот на редкость трудный день. Но под конец и боль уже стала какая-то иная, усмиренная, тихая, как бы взнузданная умелыми и умными руками хирурга.
Когда забинтованного, не чувствующего тяжести своего тела Звягинцева снова несли на ритмически покачивающихся носилках, он даже пытался размахивать здоровой правой рукой и тихо, так тихо, что его слышали только одни санитары, говорил, а ему казалось, что он кричит во весь голос:
– …Не желаю быть в этом учреждении! К чертовой матери! У меня тут нервы не выдерживают. Давай, куда хочешь, только не сюда! На фронт? Давай обратно, на фронт, а тут – не согласен! Сапоги куда дели? Неси сюда, я их под голову положу. Так они будут сохранней… До чужих сапог вас тут много охотников! Нет, ты сначала заслужи их, ты в них походи возле смерти, а изрезать всякий дурак сумеет… Господи боже мой, как мне больно!..
Он еще что-то бормотал, уже несвязное, бредовое, звал Лопахина, плакал и скрипел зубами, как в темную воду, окунаясь в беспамятство. А хирург тем временем стоял, вцепившись обеими руками в край белого, будто красным вином залитого стола, и качался, переступая с носков на каблуки. Он спал… И только когда товарищ его – большой чернобородый доктор, только что закончивший за соседним столом сложную полостную операцию, – стянув с рук мягко всхлипнувшие, мокрые от крови перчатки, негромко сказал: «Ну, как ваш богатырь, Николай Петрович? Выживет?» – молодой хирург очнулся, разжал руки, сжимавшие край стола, привычным жестом поправил очки и таким же деловым, но немного охрипшим голосом ответил:
– Безусловно. Пока ничего страшного нет. Этот должен не только жить, но и воевать. Черт знает, до чего здоров, знаете ли, даже завидно… Но сейчас отправлять его нельзя: ранка одна у него мне что-то не нравится. Надо немного выждать.
Он замолчал и еще несколько раз качнулся, переступая с носков на каблуки, всеми силами борясь с чрезмерной усталостью и сном, а когда к нему вернулись и сознание и воля, он опять стал лицом к завешанной защитным пологом двери палатки и, глядя такими же, как и полчаса тому назад, внимательными, воспаленными и бесконечно усталыми глазами, сухо сказал:
– Евстигнеев, следующего!
* * *
По лесу веером легли и гулко захлопали разрывы мин. За кустами неподалеку от Лопахина кто-то равнодушно, с протяжной зевотцей проговорил:
– Пристреливается, паразит! Ну, теперь он начнет швырять и песок месить минами, пока весь лес не прочешет. Он – такой, он, гад, лишнего кинуть не постесняется…
Но огонь вскоре утих, лишь вдали сухо и зло трещали короткие автоматные очереди да с той стороны Дона, против разрушенного бомбежкой моста, как бы прощупывая обманчивую тишину леса, с ровными промежутками бил немецкий пулемет.
Потом пулемет умолк, и в наступившем затишье отчетливей зазвучали иные голоса войны: приглушенный расстоянием, протяжный гром артиллерийской стрельбы, раскатисто и неумолчно гремевший где-то далеко на востоке, прерывистый рокот самолета – дальнего разведчика, ворковавшего на недоступной глазу высоте, и ровный басовитый гул множества немецких танков и автомашин, двигавшихся по правому гористому берегу Дона в направлении на станицу Клетскую.
Над вершинами дальних тополей, чуть колеблемая ветром, вся пронизанная косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на розовых цветах шиповника, как блестки рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки росы.
Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво сказал:
– Красота-то какая, а?
Лопахин покосился на приятеля, но ничего не ответил. Стиснув зубы, устремив немигающий взгляд воспаленных глаз туда, где за меловым бугром правобережья бурой, зловещей тучей вставала пыль, он молча вслушивался в издавна знакомые, грозные шумы большого наступления.
Лопахин тоже любил природу – и любил ее так, как только может любить человек, долгие годы жизни проведший в тяжелом труде под землей. Иногда даже в окопах, в короткие промежутки затишья, он успевал полюбоваться то белым, как лебедь, облаком, величественно проплывавшим в задымленном фронтовом небе, то каким-нибудь полевым цветком, доверчиво приютившимся на краю старой воронки и казавшимся рядом с грудами мертвой, опаленной земли бессмертным в своей первобытной красоте…
Но сейчас Лопахин не видел ни пленительного очарования омытого дождем леса, ни печальной прелести доцветающего неподалеку шиповника. Не видел ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянувшейся на запад.
Там, на западе, в синеющих степях Придонья, полегли его убитые в боях товарищи, далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский домик и чахлые клены, посаженные руками отца, круглый год припудренные угольной пылью, жалкие на вид, но неизменно радовавшие глаз, когда по утрам они с отцом, бывало, уходили на шахту. Все, что было в жизни дорого и мило сердцу, все осталось там, под властью немцев… И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в бою. Но тогда он видел вражеских солдат и эти проклятые темно-серые танки с крестами на броне, и не только видел, но и уничтожал их огнем своего оружия. Тогда ненависть, мертвой хваткой бравшая его за горло, находила выход в бою. А сейчас? Сейчас он – только праздный зритель, солдат разгромленной части, в бессильной ярости издали наблюдающий за тем, как победно пылят по его земле враги и неудержимо движутся все дальше на восток, все дальше…
Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал: «Николай, я в тыл не пойду. Дела наши, по всему видать, дрянь. Не могу я сейчас отсюда уходить! Думаю остаться на передовой, прибьюсь к какой-нибудь части. Оставайся и ты со мной, Коля!»
Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз, проговорил:
– Я сам такого же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь… Мне проще: я пока за медсанбатом числюсь.
– Да я что же, на побывку к жене прошусь? Как это он меня не отпустит? Хотел бы я поглядеть на эту кинокартину, как он будет меня не пускать! – возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит, но, глянув в лицо друга, внимательное и исполненное, как у глухонемого, напряженного и пытливого выжидания, с досадою умолк, размашисто написал «пустит» и поставил в ряд несколько восклицательных знаков столь внушительного размера, что, казалось, один вид их должен был бы рассеять всякие сомнения Стрельцова.
На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка. Закуковала и смолкла, словно убедившись в том, что неуместно звучит ее раздумчивый и немножко грустный голос в этом лесу, заполненном вооруженными людьми и обвальными раскатами доплывавшей издали артиллерийской стрельбы. И почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского:
– Ужасно умная птица кукушка! До Петрова дня она тебе и кукует и шкварчит так приятно, будто сало на сковородке, а после хоть не проси – как ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал: сколько проживу на свете? А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже, раздобрилась, паскуда длиннохвостая! Но, между прочим, я на нее не в обиде: выходит так, что два года могу смело воевать, ни черта не убьют? Очень даже прекрасно! Мне больше ничего и не надо. За два года должна же война прикончиться? Должна. Ну, а после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто!
– Ловко у тебя, парень, получается! – восхищенно сказал простуженным баском автоматчик Павел Некрасов. – Значит, сейчас ты веришь кукушке, а после войны побоку ее предсказания?
– А ты как хотел? – рассудительно ответил Копытовский. – Мне, милый мой, утешение только теперь нужно, а после войны я как-нибудь и без утешениев проживу, своими силами…
Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. На круглом, мясистом лице его расплылась недоумевающая, глупая улыбка. Он шлепнул себя по голой ляжке, как раз в том месте, где причудливо изорванная штанина спускалась от пояса до самого колена, громко воскликнул:
– Стрельцов? Вот это номер!..
А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь полчаса назад:
– Вернулся, Николай? Вот и хорошо. А то уж больно негусто нас тут осталось. За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как на частое сито.
О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю, проводил по усам сложенными в щепоть пальцами левой руки и не видел подошедших товарищей.
Лопахин бегло взглянул на его тихо подергивавшуюся голову, на руку, дрожавшую мелкой, старческой дрожью, и, почти с ненавистью воззрившись в пышущее здоровьем лицо Копытовского, сказал:
– Не ори! Все равно он не слышит. Оглох.
– Вовсе не слышит? – еще более удивился Копытовский и снова хлопнул себя по ляжке.
– Не слышит. Дальше что? – медленно багровея, повысил Лопахин голос. – Что ты тут по своему голому мясу шлепаешь, как в театре? Тоже мне, артист нашелся! Он контужен, и нечего тут удивляться и всякие балеты разыгрывать! Вон лучше бы штаны залатал, щеголь, а то ходишь, как святой в раю, срамом отсвечиваешь…
– Запекли тебе душу мои штаны! – обиженно проговорил Копытовский. – В какой раз ты мне про них замечание делаешь? Надоел уже! И как их станешь латать, когда не за что хватать? Ты погляди серьезней, что от них осталось-то, от штанов! В целости спереди одна мотня, сзади – хлястик, а все остальное сопрело и сквозь пальцы бредет. Тут поневоле святым сделаешься и даже еще хуже… И ниток нету. Нитки теперь с военторговской палаткой знаешь где? Небось аж за Саратовом пылят, а ты знай одно долбишь: залатал бы, залатал бы!
Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал:
– Николай, здравствуй!
Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. Заросший мелким черным волосом кадык его редко и крупно вздрагивал, неясные, хриплые звуки бились и клокотали в горле.
У Лопахина мучительно сжалось сердце. Как всегда в минуты сильного душевного волнения, у него побелели ноздри, и он, вдруг уставившись на Копытовского округлившимися от бешенства глазами, заорал:
– Убери свои моргалки! Что ты на него вылупился? Он оглох и заикается! Не гляди на него! Ведь ему тяжело, понимаешь ты это? Отвернись же, черт рваный!..
Копытовский растерянно пожал плечами:
– Я же этого дела не знал… И чего ты разорался, Лопахин? Тебе с твоей глоткой только подсолнушки на базаре продавать, товар свой расхваливать. Грубый ты, прямо нахальный человек, а еще тоже, на шахте работал, на вечерний рабфак ходил. В тебе культурности – с гулькин нос, вот столечко!
Возмущенный Копытовский ногтем отметил на кончике мизинца, сколько, по его мнению, было культурности в Лопахине. Но тот не обращал на него никакого внимания. Вцепившись руками в траву, ерзая от нетерпения по песку, он томительно ждал, когда же Стрельцов выдавит из себя первое слово. Он даже слегка порозовел от волнения.
Стрельцов, закрыв глаза с трепещущими от напряжения ресницами, кое-как произнес несколько слов приветствия, и тогда Лопахин вытер проступивший на лбу пот, со вздохом облегчения сказал:
– Главное, ему начать трудно, а потом, как разойдется, он говорит подходяще, не очень резко, но понять можно, что и к чему. Иной оратор на собрании и тот хуже говорит, даю честное слово!
С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил:
– Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке… Не повинуется… Но врач говорил, что это – временно… Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно. Вон мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели, – и указал болезненно сощуренными, но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота.
Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине.
– Та-а-ак, – протяжно сказал он. – Отделали парня на совесть… Окалечили вовсе, вот сволочи, а?
На поляне легкий ветерок лениво шевелил траву, сушил на листьях деревьев последние дождевые капли. Пахло нагретым солнцем шиповником, пресным запахом перестоявшейся на корню травы, а от распарившейся после дождя земли несло, как из дубового бочонка, терпкой горечью прелых прошлогодних листьев.
На правой стороне Дона гулко громыхнули взрывы, выше прибрежных тополей взметнулись в небо черные, медленно тающие на ветру столбы дыма.
– Машины со снарядами и с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро! – ни к кому не обращаясь, сокрушенно забормотал Копытовский.
Еще немного помолчали, а затем Некрасов спросил у Лопахина:
– Как думаешь, на переформировку теперь нас погонят, а?
Лопахин молча пожал плечами.
– Старшина пошел узнавать, куда нам теперь деваться, может, где поблизости наши окажутся. Кто-то из ребят говорил, будто видели здесь в лесу начштаба тридцать четвертого. Пора бы и сматываться нам отсюда, – размеренно говорил Некрасов. – Люди оборону занимают, блиндажи ладят, ходы сообщения роют, каждый при деле, а мы лодыря корчим, болтаемся в лесу, только другим мешаем.
Лопахин упорно молчал. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой.
– А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и останется на всю жизнь заикой, так и будет до самой смерти головой, как козел, трясти.
– Я уже писал, – сухо ответил Лопахин.
– А он что?
– Остается тут.
– Это он самовольно притопал?
– А ты думал как?
– Эх, напрасно! Ты бы его уломал. Вы же с ним приятели.
– Пробовал.
– Ну и что?
– Не соглашается. Он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые другие сукины сыны, – многозначительно сказал Лопахин.
– Скажи, пожалуйста! – сквозь зубы процедил Некрасов, почтительно и в то же время немного иронически взглянув на Стрельцова.
Лопахин знал Некрасова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни зимних боев на харьковском направлении, после в составе одного пополнения пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко, может быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью, но в бою на него всегда можно было положиться. Лопахин это твердо знал, а потому и сказал, испытующе глядя в бледно-голубые, словно бы выцветшие от усталости, глаза Некрасова:
– Мы со Стрельцовым так порешили: мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, немец… Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын! Ты как, Некрасов, по старой дружбе не составишь компании? Один старый боец останется, да другой, да третий – ведь это же сила! По капле и река собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте, верно?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?