Текст книги "Возвращение блудного сына. Роман"
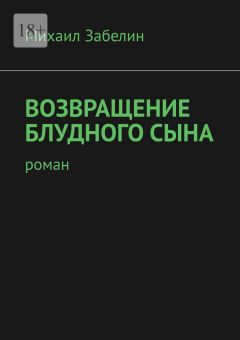
Автор книги: Михаил Забелин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Александр Ильич работал врачом-реаниматологом в одной из московских клиник. Он выходил на сутки через двое и выматывался страшно. Каждый день к нему поступали десятки умирающих людей, и редко смена проходила без новой смерти. Он давно привык к смерти, он знал ее в лицо и различал признаки ее бесстрастной, неумолимой хватки. Она, как ошейник, стягивала шею больного, человек умирал на глазах, и ничего нельзя было сделать. Обычно за дежурство она уводила за собой двух-трех человек. Он давно не радовался победам над ней и смирялся с поражениями. Он делал свою работу и, как говорили, делал ее хорошо, но каждая схватка, на кону которой стояла человеческая жизнь, опустошала до такой степени, будто кто-то пальцем ковырял его внутренности. Он не стал равнодушным, он не представлял себя героем, он сделался циником. Каждый раз, выходя наутро после смены из своей клиники, он чувствовал одновременно и возбуждение, и жуткую усталость, как после марафонского бега. Он выпивал в ближайшем баре бутылку пива и стряхивал с себя, как липкий пот, ночной кошмар работы. За сутки больные, как в адском бесконечном конвейере, поступали в отделение на каталках, перевозились в операционную, лежали в палатах и в коридоре или увозились по холодному лабиринту туда, откуда не бывает возврата. Он старался не видеть их лиц, иначе можно было сойти с ума. Но когда после автомобильной катастрофы привозили совсем молоденькую девушку, невольно выкладывался до предела, чтобы постараться спасти эту юность и красоту. Не всегда получалось.
Смерть любила поиздеваться. Как-то привезли молодого парня с циррозом печени в последней стадии. Он был пьян и возбужден.
– Доктор, вколите мне что-нибудь по-быстрому. Меня друзья ждут. Я еще не догулял сегодня.
Завтра для него не наступило. Он умер через час.
Александр Ильич добирался после работы до дома и засыпал часа на четыре. В этот день ему было трудно говорить и заниматься с детьми. Хотелось забыться на время и очнуться где-нибудь на берегу моря, где много солнца, воздуха и свободы. На следующий день становилось полегче: обычно они с Ольгой брали с собой детей и выезжали подальше от города на природу. Город ассоциировался у него с работой: он представлялся такой же бесконечной и утомительной каруселью, в которой суетились и толкались миллионы. Город был тем же конвейером, эскалатором в метро, засасывающим в свое брюхо новые и новые партии одинаковых, усталых лиц.
В последние два года Александра Ильича стала донимать навязчивая идея: вырваться из Москвы. Ему снилось солнце, река, зеленый луг, и все это сливалось в одно-единственное слово: покой. Душа его просила покоя.
Все чаще его посещали необычные, скорее, приятные сны. Они открывались ему, как отдушина, в которую он мог спрятаться и от больных, и от коллег, и от жены и даже детей. Он любил своих детей, но иногда хотелось отдохнуть и укрыться от них.
Однажды ему приснился странный, удивительный сон. Он вдруг увидел себя на берегу реки в неизвестном ему, но очень красивом месте. Недалеко шли какие-то незнакомые люди, потом они исчезли, и он остался один. Было светло и ярко, но не от солнца, а будто в воздухе разливался свет. На другом берегу, на холме возвышался храм. Он не стоял, а словно плыл в воздухе, как легендарный град Китеж. Его очертания были нечеткими, а от золотых куполов исходило мягкое сияние. Мягкостью, светом и теплотой было пропитано, насыщено до осязаемости все вокруг. Было спокойно и безмолвно. Александр вдруг перестал ощущать свое тело, будто продолжал жить одним сознанием. Его сознание стало безмерным, огромным и бездонным, как глаза мальчика из церковного хора. Смерть скрылась навсегда, даже само понятие конечности бытия исчезло. Сам он был уже не самим собой, а неизвестной, мягкой, созерцательной, эфемерной субстанцией, легкой, как облачко, быстрой, как мысль. Он словно сбросил кокон и превратился в бабочку, и почувствовал, как это прекрасно и бесконечно. Хотя даже это слово, как и множество других, перестало существовать. Ни начала, ни конца, ни времени не было. Все эти вдруг ставшие ненужными слова и понятия вытеснило из духа, в который облачилось сознание, одно лишь единственное слово, даже не слово, а ощущение и понимание – любовь. Любовь была повсюду. Ее не надо было слышать, видеть и осязать, но все обострившиеся органы чувств вкушали ее и знали – это любовь. Объяснить это ощущение было невозможно, да и не нужно было ничего никому объяснять. Все стало ненужным, неважным, лишь глубокая чистота и необъятная любовь стали единственным и бесспорным, вечным, живым и невидимым, как Бог.
Сколько секунд, часов или столетий продолжалось это его состояние неизвестно, но неожиданно дух опять обернулся сознанием, а сознание обрело плоть и ощутило себя. Первое, с чего он начал, это со спора с самим собой.
– Вернуться!
– Зачем? Ты прикоснулся к вечности.
– Не знаю, хочу вернуться.
Он возвратился и проснулся.
Вначале смутное, затем сфокусировавшееся в голове желание уехать из Москвы, зрело медленно, в мыслях, в разговорах с женой, потом показалось возможным и осуществимым и, наконец, сформировалось в реальность после решившего дело разговора с Натальей Андреевной.
Александр Ильич Головин сам не понимал, как так получалось, но все важные решения в жизни и поступки, которые резко меняли его существование и направляли в новое русло, он принимал либо по настоянию, либо с ведома, либо под влиянием своей тети. При этом он считал себя совершенно независимым и самостоятельным в решениях человеком. Непонятно, была ли в этом со стороны Натальи Андреевны какая-то хитрость или интуитивное проявление любви к племяннику, желание подтолкнуть его на жизненных перекрестках к выбору правильной, по ее мнению, дороги, или чувство собственности, не позволяющее не то что оторвать, но даже отодвинуть от себя то, что она считала своим. Последнее обстоятельство, скорее всего, преобладало. В Наталье Андреевне всегда было очень велико чувство собственности на то, чем она хотела бы обладать, и, получив желаемое, уже никогда с этим не расставалась. Она и Сашей руководила исподволь, умнО, но так, как виделось ей самой, как человеком раз и навсегда ставшим ее частью, лепила и формовала свое детище по собственному разумению для его же блага. Саша за долгие годы привык советоваться с ней, но эти, казалось, пустяковые, ничего не значащие советы всегда падали, как семена в ожидающую их по весне почву, и прорастали в голове будто бы сами собой. И хотя Саша всегда о себе думал, как о человеке неординарном и независимом, он всю жизнь оказывался подвластным чужому мнению и чужой воле: будь то тетя или жена. И хотя в последние годы, из-за довольно натянутых отношений между Ольгой и Натальей Андреевной при внешней их любезности и показной добросердечности, они с тетей встречались реже, в переломные, ответственные моменты судьбы Александр, как и раньше, бежал за поддержкой именно к Наталье Андреевне.
Тетя приняла его ласково и приветливо, как всегда.
– Значит, решили уехать из Москвы, – подвела она итог сбивчивому Сашиному рассказу.
– Вот что я тебе скажу. Селитесь-ка вы у меня. С родителями вам будет тесно, хотя твой отец, как я знаю, новый дом строит. Мой дом на Волге ты знаешь, места на всех хватит, да и я там только летом бываю.
В этом Наталья Андреевна лукавила. Жила она в своих огромных каменных владениях на берегу Волги после выхода на пенсию с ранней весны до поздней осени, а в последнее время почти постоянно. Но права была в том, что комнат в доме было предостаточно и для детей, и для Саши с Ольгой. Было в нем и отопление, и вода, и прочие удобства, в общем, всё, что нужно для жизни.
– Ты поезжай для начала один, подготовь комнаты и найди работу. Хотя я думаю, с работой у тебя проблем не будет. Врачи везде нужны.
Так решился вопрос с переездом.
VОторвавшись на время от семьи, очутившись один в большом доме, Александр Ильич почувствовал свободу. Родителей от него отделяло десять километров, но это было так же далеко, как и до Москвы. Повидав их по приезду, он больше о них не вспоминал. Его Рено последней модели стучало копытами, а соскучившееся тело рвалось в бой, на волю, на просторы приключений. Он ощущал себя мальчишкой, сбежавшим из школы, или молодым иноком, оказавшимся вдруг за пределами монастырских стен. На прежнем месте работы он рассчитался, и денег было достаточно, чтобы не чувствовать себя ущемленным в исполнении желаний.
Но прежде надо было найти новую работу. Это, действительно, оказалось не так сложно. Хотя первая попытка была неудачной. Когда главный врач близлежащей больницы, суровый мужчина с каменным лицом, просмотрел бумаги, подтверждающие, что он много лет работал в московской клинике, лицо его подобрело:
– Я готов платить вам даже больше, чем любому другому врачу в нашей больнице, – и назвал такую мизерную сумму, что Александр чуть не рассмеялся ему в лицо.
Вскоре выяснилось, что стоит отъехать двадцать километров, и окажешься уже в другой области. Зарплаты там были в четыре раза выше. «Наверное, меньше воруют», – подумал Саша и договорился о выходе на работу через две недели. Приняли его с распростертыми объятиями, и это, в самом деле, было неожиданно и приятно после московского высокомерия начальников.
«Сделал дело, гуляй смело», – сказал сам себе Александр и в первый свободный день отправился на прогулку по знакомым с детства местам, в которых давно не был, а потом в ресторан. Он чувствовал себя завоевателем и победителем. Он словно сбросил с себя забрало и доспехи и, наконец, освободился от их тяжести.
Александр Ильич был привлекательным мужчиной, черты его лица были будто выточены резцом из камня, а приобретенная за московскую жизнь привычка смотреть на собеседника несколько насмешливо и снисходительно придавала ему некоторую загадочность. Он знал, что нравится женщинам, а чувство раскрепощенности и бесприглядности придавало ему уверенность.
В ресторане он заказал с видом знатока холодную семгу и красную икру на закуску, телячью голень с гречневой кашей на горячее и триста грамм водки. После ужина он довольно откинулся на спинку стула, закурил и огляделся.
За соседним столиком сидела довольно миловидная девушка и, казалось, ждала. Причем было понятно, что она ждет не какого-то конкретного человека, а просто пребывает в ожидании. Александр, как охотничий пес, почуявший дичь, принялся бесцеремонно ее разглядывать. Она несколько раз поднималась с места и проходила через зал, потом возвращалась, но скорее, видимо, для того, чтобы показать себя сзади. Два ее полушария натянулись на юбку, как барабан, и перекатывались колобками, словно приглашая погладить их ладонью. Иногда, будто случайно натыкаясь взглядом на Александра, она вопрошающе глядела на него несколько секунд и отворачивалась. Сашу эта бессловесная игра забавляла. Он неторопливо допил водку, рассчитался с официантом, подошел к ее столику и, наклонившись к самому ее лицу, спросил:
– Вы позволите?
Она молча кивнула, и он присел рядом. Собственно, все было сказано до этого взглядами, все было решено, и говорить больше было не о чем. Но приличия ради он все-таки завел разговор.
– Вы живете в этом городе?
– Нет, приехала на экскурсию.
– Я так и думал.
– Почему? – удивилась она.
Про себя он ответил: «По виду не проститутка, но явно ищешь мужчину. Местные девушки об этом не заявляют во всеуслышание.» А вслух сказал:
– Город маленький, а я здесь часто бываю. Вас бы я узнал. Вас как зовут?
– Лена.
– Я живу здесь недалеко. Хотите ко мне зайти?
Играть в словесную игру больше не хотелось. Последнюю фразу он произнес, не сомневаясь в ответе, будто говорил: «Пойдем».
И она пошла.
Дома они выпили еще водки и легли в кровать. Обычно в постели с Олей Саша бывал нежен, сейчас ему захотелось взять эту девушку грубо, будто насильно.
Наутро ей надо было уезжать, и больше он ее не видел. День он провел бесцельно, попивая пиво из бутылок, одну за одной. Вечером в интернете выбрал проститутку из областного центра.
Все последующие дни были задымлены пьянством и бабами.
VI
Ольга обустраивалась на новом месте основательно. Московскую квартиру она сдала и договорилась о месте в садике недалеко от дома для старших детей. Как и в Москве, она не работала, сидела с Ксюшей, занималась с Ваней и Варей, ходила в церковь. Готовила она плохо, только что-то повседневное. Мясо, курицу или плов обычно приготовлял Саша. Ему это нравилось.
Место для дома было выбрано замечательно. Из окна открывался прекрасный вид на Волгу. В мае сад одевался в белые одежды и благоухал яблонями и вишнями.
Городок был сонным и тихим, воздух чистым и свежим, жизнь размеренна и нетороплива.
К Сашиным родителям они в первое время заезжали ненадолго, потом перестали.
Наталья Андреевна жила в этом же доме, из своей комнаты показывалась редко и старалась им не мешать, хотя иногда и прикрикивала:
– Откройте окна, детям дышать нечем.
Или:
– Что же вы лодку не купите? Живете на берегу Волги, хоть бы порыбачили.
Но Саша был не рыбак, и лодку они так и не купили.
По сравнению с московской огромной клиникой больница, в которой работал теперь Александр Ильич, была маленькой и тихой, больных бывало немного, и работать стало легче. С главврачом и с коллегами он не сдружился, но был с ними ровен и приветлив. Относились к нему уважительно, и самостоятельности стало больше. Так что все ему нравилось, все было хорошо, стабильно и гладко.
Они часто ходили в церковь и опять, как и прежде, пели в церковном хоре. Храм был старинный, еще до конца не отреставрированный, и возвышался над городом на Соборной горке. Служившие в храме батюшка и матушка оказались их возраста, они как-то быстро с ними подружились и часто ходили в гости друг к другу. Батюшка Николай был человеком весьма эрудированным и умным, неплохо рисовал и высоко ценил Сашиного отца, как художника.
Хоть городок был совсем маленьким, и все друг друга знали, Александр Ильич больше ни с кем не сошелся и свободные от работы дни чаще проводил дома. Он стал уравновешеннее, спокойнее, немного обленился и сделался домоседом.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
БЛУДНЫЙ СЫН
IВечерело. По Волге плавали облака. Розовая полоска закатного неба перетекала в реку и расплывалась лиловым пятном на воде. Дарья Степановна сидела на скамейке на берегу и разговаривала с Богом.
Звонко, наперебой защелкали, засвистели, запели, переливисто перекликаясь трелями, райские птички. «Пойди, пойди, пойди», – уговаривали одни. «Иду, иду, иду», – откликались другие. Густые голоса колоколов разносились окрест и возвещали об окончании службы.
Вчера праздновали Николая Чудотворца. Служил митрополит, и народу в храме было много. Как всегда, в первые минуты службы люди еще мысленно оставались на улице, и сутолка в головах передавалась рукам и взглядам и производила, как тихие всплески воды, неспокойное шуршание среди прихожан. Затем всё стихло и обратилось и взором, и мыслью к иконам и к читавшему из Евангелия священнослужителю. Три полоски солнечного света, в которых были видны частички воздуха, проникали сквозь узкое окно под куполом храма и касались серебряных одежд владыки. Запах ладана сладко кружил голову. Женский хор подхватывал слова молитвы и тревожил сердце. «Управь разум наш и укрепи сердце наше», – говорил архирей.
Дарья Степановна принимала эти слова на себя и думала: «Как жаль, что дети их не слышат, а если услышат, не поймут, что они обращены к ним». Дума о детях стучала, как жилка на виске, и никогда не оставляла ее.
Вот и сейчас она говорила с Богом о своих детях. С Ильей они тоже часто говорили о них: он раздражался и будто сплевывал накопившиеся обиды, а она, то соглашалась, то оправдывала их:
– Ты вспомни себя в их возрасте. Молодые они еще, глупые.
Дарья Степановна знала: муж думает о них беспрестанно, и эти мысли, как глубокие занозы, колют и ноют, и нет покоя от них за показным безразличием. Она понимала его, потому что за целую жизнь научилась угадывать его печали даже по тени, промелькнувшей в глазах, и потому еще, что сама сколько раз пыталась завести разговор с младшим и прижать к сердцу старшего, чтобы отогреть его, но и с тем, и с другим спотыкалась о полосу отчуждения, которую была не в силах преодолеть.
После того, как Саша поселился с семьей в доме у Натальи Андреевны и стал словно избегать их, Илья Андреевич тоже заставил себя отдалиться от него и внуков и даже на этюды на Волгу стал выезжать реже, словно избегая повода встретиться с ними. А Дарье Степановне говаривал обычно:
– Что ты все к ним ездишь? Они к себе не зовут и к нам не приходят. Не нужны мы им стали.
Эх, обиды, обиды. Они проглатывают куски жизни, которые никогда не воротишь. Мы сами подбрасываем в ненасытную печку гордыни щепки слов и мыслей, как будто забывая, что наша жизнь не бесконечна, и можно не успеть сказать, увидеть и услышать то, что нам, на самом деле, дорого и близко в жизни. Отпустить бы долги чужие, простить душой, но легко сказать, дать совет, да не получается на деле перепрыгнуть через себя.
Дарья Степановна понимала слова мужа по-своему: «Хоть бы позвонил, хоть бы приехали, посидели бы и поговорили».
А про Сережу он говорил так:
– Если и образумится теперь, то только когда жизнь сама придавит его так, что он поневоле задумается и зашевелится. Свою голову ему не приставишь. Взрослый парень, пусть живет, как хочет.
Дарья Степановна за его раздражением слышала, угадывала другое: «Хоть бы определился, наконец, чего он хочет, что ему нужно в жизни. Трудно плыть одному по волнам, не видя маяка. А мы уже для него не помощники».
Тысячи обрывков мыслей скакали в голове у Дарьи Степановны. Она возвращалась от Саши. Он зачерствел сердцем и закрылся в своей раковине. А внуки согревали эти встречи. Они еще маленькие, они еще умеют быть искренними в словах, слезах и улыбках. В их руках и губах живет радость, и она благодарна им за то, что они есть. Не понимает Саша, что его дети вырастут и отплатят ему той же неблагодарной монетой. Не дай Бог. Помоги, Господи, чтобы такого не случилось.
С Богом Дарья Степановна разговаривала часто: дома одна или в церкви, или, как сейчас, над притихшей, усталой, темнеющей рекой. Думы успокаивались и выстраивались в молчаливую молитву. Бог был мудр. Он ни на кого не обижался и никому не возражал. Он всегда слушал и всё понимал. Всеслышащим ухом внимал Он растерзанным мыслям и невысказанным словам и принимал их. И вездесущим своим присутствием утешал тревоги, утолял печали и дарил надежду.
«Господи, помоги нам. Подскажи, научи, как быть. Знаю: моя, наша с Илюшей вина в том, какие дети у нас выросли. Нет, они не плохие, но есть в них что-то чужое, враждебное. Может быть, зря мы их по себе мерим, они другие, и жизнь другая. Но вот что меня беспокоит, вот что гложет и не отпускает нас с Илюшей – их равнодушие. Даже не к нам, к миру, к людям. Нет в них любви. Да, наверное, это самое главное, что тревожит. Не пойми, Господи, что я дурное о них думаю и говорю. Нет, нет, они хорошие. Ты заступись, помоги им, дай им здоровья и сил, и ума, направь, научи их, не оставь их своей милостью.
Ты же все слышишь и все знаешь, я о другом хочу сказать. Вот Саша. Он же маленьким был таким же, как сейчас Ванечка – умным, добрым, улыбчивым, радостным. А сейчас будто только самому себе улыбнется. И улыбка его какой-то ненастоящей стала. Конечно, он устает, он доктор, на нем семья, ему тяжело, я понимаю. Но что-то провалилось в нем, ушло, как вода в песок, что-то потерялось. Не суди строго, Господи. Я мала и глупа, и трудно мне объяснить словами, но он был, как ручей звенящий и сверкающий, а будто высох, и сам мается от этого. Не могу я понять: и в Бога они веруют, и в церковном хоре поют, и детей своих любят, а чувствую, что есть в нем трещинка, словно царапина на сердце. И царапинка эта ноет и саднит, и не дает ему ни покоя, ни радости от жизни.
Да что это я? Слава тебе, Господи, все у них хорошо. Саша неплохо зарабатывает, Ольга ровна и приветлива, Ванечка – совсем большой, через год в школу, Варенька – красивая девочка и уже неплохо рисует, Ксюша – стрекоза, болтает без умолку, а глазки умненькие, бархатные, как маслины. Слава Богу.
Сама не знаю, что же так томит меня. Илюша на них обижается, страдает, мучается от непонимания, от глухоты их и тоскует по ним. Родные ведь. Он тоже, как маленький, художник мой.
Все у них хорошо, да что-то не все ладно. Я не знаю, я чувствую это.
Сережа другой, он добрый, но будто нет его рядом. Будто он рос, рос, а корня, что держит на земле, так и нет. Он как воздушный шарик: кто дернет за ниточку, туда он и пойдет. Он – как пушинка: куда дунет ветер, туда и полетит. Прости, Господи, он хороший. Но я беспокоюсь за него. Ведь так нельзя жить: не думая, зачем и что будет завтра, без веры и без любви. Нет в нем ни привязанности, ни заботы хоть о ком-нибудь. Даже о себе. От нас оторвался, но так и не прилепился ни к кому. У него есть девушка, но мне кажется, и она мимолетна. Для него она лишь, как цветок для шмеля, да и она, по-моему, не думает о нем серьезно. Жениться ему надо на хорошей девушке. Боюсь я за него. Вразуми его, Господи. Подари ему любовь.
С Сашей они совсем разные. Как странно, ведь они братья. Саша – как уснувший вулкан: сверху благостно, внутри клокочет. Сережа – как на ладони: и гнев, и обиды, и спрятанные слезы, и секундные желания. Саша родился под знаком Скорпиона. Он закрыт от людей и сам себя терзает невысказанными страстями. Сережа – Весы. И хорошее, и дурное тут же выплескивается наружу, как в переполненной чаше. Саша нашел себя в жизни. Он – хороший врач. Он гордится собой, мы все им гордимся. Сережа не знает еще, чего он хочет, к чему стремится. Он берется за одно дело, потом за другое, загорается желанием высказать себя, но так же быстро остывает. Нет в нем ни стержня, ни царя в голове. У Саши семья, у Саши все хорошо. А я почему-то беспокоюсь о нем, о них. А за Сережу боюсь. С ним ничего неизвестно и поэтому страшно.
Господи, научи их любить. Вот чего у них у обоих нет: они не умеют любить. Дай им, Господи, всего, чего они хотят, всего, что им нужно для счастья».
Дарья Степановна вдруг подумала, как перекликаются характеры и судьбы разных поколений, отцов и детей. Илюша и его сестра так же непохожи и далеки друг от друга, как Саша и Сережа.
«Жаль, что Саша редко рисует. Илюше нравился его лик Христа. Этот образ больше не притягивает его. Иногда пишет натюрморты, и все. Сережа тоже не захотел учиться живописи, но сделал как-то наброски наших портретов, всей семьи. Илюша сказал, что у него есть талант. Да разве Сережу убедишь, что надо учиться? Ничему он не хочет учиться.
Илюша сильно постарел. Так и ездит в Москву. Не хочу даже думать и говорить об этом. Меня он любит, я чувствую это, спокойнее, ровнее, чем раньше, но ведь любит. Это главное. Почет и деньги не испортили его, слава Богу. Хотя той, былой известности уже нет. Может быть, это к лучшему. Будто мы оба с ним вернулись к истокам, в Поддубное, где все начиналось, в наш старый дом.
Помоги нам, Господи. Дай нам и детям, и внукам нашим здоровья. Дай нам пожить вместе подольше и радоваться жизни.
Мы с Илюшей счастливые люди. Мы умеем радоваться. Благодарю Тебя, Господи, что соединил наши дороги.
Дай, Господи, и детям нашим умения радоваться и любить. Подай, Господи».
II
По своему складу характера Сергей Ильич Головин относился к тому довольно распространенному на Руси типу людей, в которых все перемешано: и доброе, и злое, и сила, и детская наивность, и задор, и лень, и вера, и безверие, в которых все запредельно: если пить и гулять, то до упаду, если работать, то до пота, если любить, то до смерти, если ненавидеть, так хоть в тюрьму. А если есть искра Божия в таком человеке, то или взорвется она немереным талантом, или потухнет в грязи – уж куда изломанная, кривая дорога поведет, как Бог и судьба распорядятся.
Недавно ему исполнилось двадцать пять лет. К своим годам он успел без особых отличий окончить школу, отслужить два года в армии и поменять несколько мест работы – подмастерьем на стройке или разнорабочим, не имея ни специальности, ни желания к какому-либо мастерству.
Он был статен, силен и дерзок взглядом. Волнистые русые волосы и карие глаза – в мать, привлекали взоры девушек. Он об этом знал и отвечал взаимностью, подолгу не задерживаясь с очередной подружкой.
С Катей, своей одноклассницей, они встречались, ночевали иногда у друзей или подруг, но в дом он ее не приводил и серьезных намерений не высказывал.
Жил он, по-прежнему, в родительском доме и с родителями обычно бывал приветлив, но без тепла, не сердцем, а рассудком, словно отодвинулся когда-то от них, да так и остался: не близко, не далеко, на расстоянии.
За любое новое дело он брался охотно, будто пробуя свои силы, а потом оказывалось, что дело это ему неинтересно, и он его бросал и сам затухал на время, как будто ждал, что придет кто-то и скажет: «Возьми, это твое», – хотя и не понимал толком, что это будет, но непременно особенное и привлекательное. Он был ленив – в отца, но у того было дело, которому он отдавал и разум, и душу, а у него нет, и он втайне завидовал отцу.
На двадцатилетие Илья Андреевич подарил ему машину, и Сергей понял, что хочет стать профессиональным водителем. Через полгода он ее разбил, благополучно избежав травм, в мечте своей разочаровался, но от мысли о новой, своей машине не отказался, и в разговорах с отцом нет-нет и проскальзывали робкая просьба или завуалированный намек. Правда, Илья Андреевич больше и слышать об этом не хотел.
В периоды безденежья, когда с одной работой было покончено, а другая еще не подвернулась, он обращался за не очень крупными суммами к матери и очень обижался, если она отказывала.
Дарья Степановна была женщиной спокойной, сдержанной и разумной, но иногда ее терпение источалось, и с языка срывались слова, о которых она жалела потом.
– Сергей, я не могу до тебя докричаться. Ты слышишь только то, что хочешь услышать. Нельзя только брать и просить. Надо и самому что-то делать, хотя бы для себя. Чтобы получить нечто в жизни, надо научиться отдавать. Чтобы получать, нужно отдавать. Тебе нечего отдавать, потому что нет у тебя ничего за душой: ни знаний, ни умения. Ты ничего не умеешь и, самое ужасное, не хочешь ничего. Ни учиться, ни делать самому, а только получать. Подумай, наконец, о себе подумай. Нельзя так жить.
После этого обычно Сергей исчезал из дома на несколько дней, ночевал у друзей, не звонил и не отвечал на звонки, а когда возвращался, показывал всем своим видом, насколько он уязвлен таким отношением и напоминал мальчика из первого класса, несправедливо получившего двойку за выученное стихотворение.
Он не ставил перед собой цели, как старший брат, и не добивался ее, возможно, потому, что цели, которые маячили где-то далеко впереди, виделись ему довольно расплывчато и неясно. Сам бы он ответил так, если бы не мать и не отец, а кто-то посторонний спросил его задушевным голосом:
– Скажи, Сережа, чего ты хочешь? Я тебе помогу.
И Сергей ответил бы, доверчиво глядя в глаза этому постороннему:
– Я хочу денег, много денег.
– А зачем тебе деньги, Сережа? – продолжал бы допытываться этот неизвестный.
– Как зачем? Я куплю себе квартиру и буду жить отдельно, без оглядки на родителей. Я куплю себе машину. Я буду ужинать в ресторанах и пить дорогое вино. Самые красивые женщины станут желать близости со мной. И вообще, я уеду отсюда. Будут деньги, и все изменится, все тогда будет, и счастье будет.
Но незнакомец не отставал бы и, улыбаясь простодушно, продолжал:
– Если я правильно тебя понимаю, милый Сережа, деньги тебе нужны, чтобы получать удовольствие от жизни. Но представь себе: ты получаешь желаемое, но этого мало, нет удовлетворения от того, что получил, или оно быстро проходит. Тогда хочется еще чего-то нового, и опять ты не получаешь удовлетворения. Это как еда: ты поел, но проходит время, и ты снова проголодался. Ты получаешь удовольствие, но оно мимолетно, а морального удовлетворения нет. И так бесконечно. Ты хочешь этого?
Может быть, Сергей и не задумывался никогда о разнице между получением того, что пожелаешь, и удовлетворением от полученного, о котором так настойчиво нашептывал его мысленный собеседник, но он ответил бы, ни секунды не сомневаясь:
– Да, хочу.
Сергей метался по городу и метался душой. Он, как Иванушка из сказки, искал по жизни то, не знаю что, и шел туда, не знаю куда. Ему вдруг стало тесно и скучно жить в этом маленьком городе. Он ощущал себя зверем, рвущимся из клетки на свободу, туда, где настоящая жизнь, и эта чужая, истинная жизнь все чаще складывалась в прекрасную картинку, которую он сам себе рисовал, под названием Москва. Тогда про себя он упрекал мать и отца за то, что они не остались жить в столице, и завидовал брату за то, что он там жил, а потом, дурак, сбежал оттуда. Все настойчивее Сергей убеждал себя в том, что стоит ему туда приехать, и все переменится, все станет по-другому. Все навязчивее стучалась в голову мысль – уехать в Москву. Эта мысль превратилась в идею фикс, в страсть.
Он готовился к разговору с отцом, без которого эту страсть осуществить было бы невозможно, как к экзамену, и страшился, что не сможет объяснить то, что для него самого казалось теперь очевидным, зримым и простым и выражалось в четырех словах: «Хочу жить в Москве».
Как ни странно, Илья Андреевич к довольно невнятным, полу просительным, полу вызывающим словам сына отнесся серьезно и даже с пониманием.
Он не сказал: «Денег я тебе не дам. Сиди дома». Он сказал так:
– Давай-ка мы все вместе с матерью хорошенько обдумаем и решим.
Вечером того же дня Илья Андреевич и Дарья Степановна обсуждали эту новость вдвоем. Сергей ушел гулять, и это оказалось на руку: сначала надо было посоветоваться и всё обговорить.
– Как ты себе это представляешь? – подхватила разговор Дарья Степановна. – Где он жить будет и на что? Где и кем будет работать? Он же ничего не умеет. Кому он там нужен?
Казалось, их роли поменялись местами. Илья Андреевич Сергея защищал и оправдывал, Дарья Степановна нападала.
Но она была права в одном: жить Сереже в Москве было негде.
После того, как родительская квартира перешла Саше с Ольгой, прошло совсем немного времени, и Илья Андреевич понял, что их с Дашей присутствие в ней оказалось нежелательным и невозможным.
В Москву они вдвоем выезжали редко, но иногда Дарью Степановну охватывали ностальгические чувства, воспоминания о молодости, и она говорила:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































