Текст книги "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году"
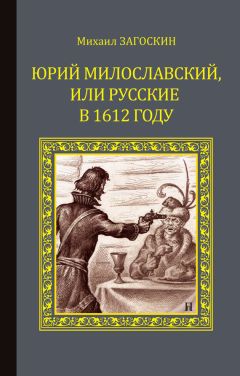
Автор книги: Михаил Загоскин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
IV
Проехав версты четыре на рысях, Кирша приказал своим казакам остановиться, чтоб дать отдохнуть Милославскому, который с трудом сидел на лошади, несмотря на то что с одной стороны поддерживал его Кирша, а с другой ехал подле самого стремя Алексей.
– Отдохни, боярин, – сказал запорожец, вынимая из сумы флягу с вином и кусок пирога, – да на-ка хлебни и закуси чем бог послал. Теперь надо будет тебе покрепче сидеть на коне: сейчас пойдет дорога болотом, и нам придется ехать поодиночке, так поддерживать тебя будет некому.
Юрий, не отвечая ни слова, схватил с жадностью пирог и принялся есть.
– Ну, Юрий Дмитрич, – продолжал Кирша, – сладко же, видно, тебя кормили у боярина Кручины! Ах, сердечный, смотри, как он за обе щеки убирает! а пирог-то вовсе не на славу испечен.
– Душегубцы! – сказал Алексей. – Чтоб им самим издохнуть голодной смертью!.. Кушай, батюшка! кушай, мой родимый!.. Разбойники!
– На-ка, выпей винца, боярин, – прибавил Кирша. – Ах, господи боже мой! гляди-ка, насилу держит в руках флягу! эк они его доконали!
– Басурманы! антихристы! – вскричал Алексей. – Чтоб им самим весь век капли вина не пропустить в горло, проклятые!
Утолив несколько свой голод, Юрий сказал довольно твердым голосом:
– Спасибо, добрый Кирша; видно, мне на роду написано век оставаться твоим должником. Который раз спасаешь ты меня от смерти?..
– И, Юрий Дмитрич, охота тебе говорить! Слава тебе господи, что всякий раз удавалось; а как считать по разам, так твой один раз стоит всех моих. Не диво, что я тебе служу: за добро добром и платят, а ты из чего бился со мною часа полтора, когда нашел меня почти мертвого в степи и мог сам замерзнуть, желая помочь бог знает кому? Нет, боярин, я век с тобой не расплачусь.
– Но как ты узнал о моем заточении?.. Как удалося тебе?..
– На просторе все расскажу, а теперь, чай, ты поотдохнул, так пора в путь. Если на хуторе обо всем проведают да пустятся за нами в погоню, так дело плоховато: по болоту не расскачешься, и нас, пожалуй, поодиночке всех, как тетеревей, перестреляют.
– Небось, Кирила Пахомыч, – сказал Малыш, – без бояр за нами погони не будет; а мы, хоть ты нам и не приказывал, все-таки вход в подземелье завалили опять плитою, так их не скоро отыщут.
– Эх, брат Малыш, напрасно! Ну, если их не найдут и они умрут голодной смертью?
– Так что ж за беда? Туда им и дорога! Иль тебе их жаль?
– Не то чтоб жаль; но ведь, по правде сказать, боярин Шалонский мне никакого зла не сделал; я ел его хлеб и соль. Вот дело другое, Юрий Дмитрич, конечно, без греха мог бы уходить Шалонского, да, на беду, у него есть дочка, так и ему нельзя… Эх, черт возьми! кабы можно было, вернулся бы назад!.. Ну, делать нечего… Эй вы, передовые!.. ступай! да пусть рыжий-то едет болотом первый и если вздумает дать стречка, так посадите ему в затылок пулю… С богом!
Доехав до топи, все казаки вытянулись в один ряд. Земский ехал впереди, а вслед за ним один казак, держащий наготове винтовку, чтоб ссадить его с коня при первой попытке к побегу. Они проехали, хотя с большим трудом и опасностию, но без всякого приключения, почти всю проложенную болотом дорожку; но шагах в десяти от выезда на твердую дорогу лошадь под земским ярыжкою испугалась толстой колоды, лежащей поперек тропинки, поднялась на дыбы, опрокинулась на бок и, придавя его всем телом, до половины погрузилась вместе с ним в трясину, которая, расступясь, обхватила кругом коня и всадника и, подобно удаву, всасывающему в себя живую добычу, начала понемногу тянуть их в бездонную свою пучину.
– Батюшки, помогите! – завопил земский. – Погибаю… помогите!..
Казаки остановились, но Кирша закричал:
– Что вы его слушаете, ребята? Ступай мимо!
– Отцы мои, помогите! – продолжал кричать земский. – Меня тянет вниз!.. задыхаюсь!.. помогите!..
– Эх, любезный! – сказал Алексей, тронутый жалобным криком земского. – Вели его вытащить! ведь ты сам же обещал…
– Да, – отвечал хладнокровно Кирша, – я обещал отпустить его без всякой обиды, а вытаскивать из болота уговора не было.
– Послушай, Кирша Пахомыч, – примолвил Малыш, – черт с ним! ну что? уж, так и быть, прикажи его вытащить.
– Что ты, брат! Ведь мы дали слово отпустить его на все четыре стороны, и если ему вздумалось проехаться по болоту, так нам какое дело? Пускай себе разгуливает!
– Бога ради, – вскричал Милославский, – спасите этого бедняка!
– И, боярин! – отвечал Кирша. – Есть когда нам с ним возиться; да и о чем тут толковать? Дурная трава из поля вон!
– Слышишь ли, как он кричит? Неужели в тебе нет жалости?
– Нет, Юрий Дмитрич! – отвечал решительным голосом запорожец. – Долг платежом красен. Вчера этот бездельник прежде всех отыскал веревку, чтоб меня повесить. Рысью, ребята! – закричал он, когда вся толпа выехала на твердую дорогу.
Долго еще долетал до них по ветру отчаянный вопль земского; громкий отголосок разносил его по лесу – вдруг все затихло. Алексей снял шапку, перекрестился и сказал вполголоса:
– Успокой господи его душу!
– И дай ему царство небесное! – примолвил Кирша. – Я на том свете ему зла не желаю.
Они не отъехали полуверсты от болота, как у передовых казаков лошади шарахнулись и стали храпеть; через минуту из-за куста сверкнули как уголь блестящие глаза, и вдруг меж деревьев вдоль опушки промчалась целая стая волков.
– Экое чутье у этих зверей! – сказал Кирша, глядя вслед за волками. – Посмотрите-ка: ведь они пробираются к болоту…
Никто не отвечал на это замечание, от которого волосы стали дыбом и замерло сердце у доброго Алексея. Вместе с рассветом выбрались они наконец из лесу на большую дорогу и, проехав еще версты три, въехали в деревню, от которой оставалось до Мурома не более двадцати верст. В ту самую минуту как путешественники, остановясь у постоялого двора, слезли с лошадей, показалась вдали довольно большая толпа всадников, едущих по нижегородской дороге. Алексей, введя Юрия в избу, начал хлопотать об обеде и понукать хозяина, который обещался попотчевать их отличной ухою. Все казаки взъехали на двор, а Кирша, не приказав им разнуздывать лошадей, остался у ворот, чтоб посмотреть на проезжих, которых передовой, поравнявшись с постоялым двором, слез с лошади и, подойдя к Кирше, сказал:
– Доброго здоровья, господин честной! Ты, я вижу, нездешний?
– Да, любезный, – отвечал запорожец.
– Так у тебя и спрашивать нечего.
– Почему знать? О чем спросишь.
– Да вот бояре не знают, где проехать на хутор Теплый Стан.
– Теплый Стан? к боярину Шалонскому?
– Так ты знаешь?
– Как не знать! Вы дорогу-то мимо проехали.
– Версты три отсюда?
– Ну да: она осталась у вас в правой руке.
– Вот что!.. И мы, по сказкам, то же думали, да боялись заплутаться; вишь, здесь какая глушь: как сунешься не спросясь, так заедешь и бог весть куда.
В продолжение этого разговора проезжие поравнялись с постоялым двором. Впереди ехал верховой с ручным бубном, ударяя в который он подавал знак простолюдинам очищать дорогу; за ним рядом двое богато одетых бояр; шага два позади ехал краснощекий толстяк с предлинными усами, в польском платье и огромной шапке; а вслед за ними человек десять хорошо вооруженных холопей.
– Степан Кондратьевич, – сказал передовой, подойдя к одному из бояр, который был дороднее и осанистее другого, – вот этот молодец говорит, что дорога на Теплый Стан осталась у нас позади.
– Ну вот, – вскричал дородный боярин, – не говорил ли я, что нам должно было ехать по той дороге? А все ты, Фома Сергеевич! Недаром вещает премудрый Соломон: «Неразумие мужа погубляет пути его».
– Небольшая беда, – отвечал другой боярин, – что мы версты две или три проехали лишнего; ведь хуже, если б мы заплутались. Не спросясь броду, не суйся в во-ду, говаривал всегда блаженной памяти царь Федор Иоаннович. Бывало, когда он вздумает потешиться и позвонить в колокола, – а он, царство ему небесное! куда изволил это жаловать, – то всегда пошлет меня на колокольню, как ближнего своего стряпчего, с ключом проведать, все ли ступеньки целы на лестнице. Однажды, как теперь помню, оттрезвонив к обедне, его царское величество послал меня…
– Знаю, знаю! уж ты раз десять мне это рассказывал, – перервал дородный боярин. – Войдем-ка лучше в избу да перекусим чего-нибудь. Хоть и сказано: «От плодов устен твоих насытишь чрево свое», но от одного разглагольствования сыт не будешь. А вы смотрите с коней не слезать; мы сейчас отправимся опять в дорогу.
Сказав сии слова, оба боярина, в которых читатели, вероятно, узнали уже Лесуту-Храпунова и Замятню-Опалева, слезли с коней и пошли в избу. Краснощекий толстяк спустился также с своей лошади, и когда подошел к воротам, то Кирша, заступя ему дорогу, сказал, улыбаясь:
– Ба, ба, ба! здравствуй, ясновельможный пан Копычинский! Подобру ли, поздорову?
Поляк взглянул гордо на Киршу и хотел пройти мимо.
– Что так заспесивился, пан? – продолжал запорожец, остановив его за руку. – Перемолви хоть словечко!
– Цо то есть! – вскричал Копычинский, стараясь вырваться. – Отцепись, москаль!
– А разве ты его знаешь? – спросил Киршу один из служителей проезжих бояр.
– Как же! мы давнишние знакомцы. Не хочешь ли, пан, покушать? У меня есть жареный гусь.
– Слушай, москаль! – завизжал Копычинский. – Если ты не отстанешь, то, дали бук…
– И, полно буянить, ясновельможный! Что хорошего? Ведь здесь грядок нет, спрятаться негде…
Поляк вырвался и, отступя шага два, ухватился с грозным видом за рукоятку своей сабли.
– Небось добрый человек! – сказал служитель. – Он только пугает: ведь сабля-то у него деревянная.
– Ой ли! Эй, слушай-ка, пан! – закричал Кирша вслед поляку, который спешил уйти в избу. – У какого москаля отбил ты свою саблю?.. Ушел!.. Как он к вам попался?
– Он, изволишь видеть, – отвечал служитель, – приехал месяца четыре назад из Москвы; да не поладил, что ль, с панам Тишкевичем, который на ту пору был в наших местах с своим региментом; только говорят, будто б ему сказано, что если он назад вернется в Москву, то его тотчас повесят; вот он и приютился к господину нашему, Степану Кондратьичу Опалеву. Вишь, рожа-то у него какая дурацкая!.. Пошел к боярину в шуты, да такой задорный, что не приведи господи!
Кирша вошел также в избу. Оба боярина сидели за столом и трудились около большого пирога, не обращая никакого внимания на Милославского, который ел молча на другом конце стола уху, изготовленную хозяином постоялого двора.
– Ты, что ль, молодец, сказывал нашим людям, – спросил Лесута у запорожца, – что мы миновали дорогу на Теплый Стан?
– Да, боярин. Я вчера сам там был.
– И видел Тимофея Федоровича?
– Как же! и его, и боярина Туренина.
– Так и Туренин на хуторе? Ну что, здоровы ли они?
– Слава богу! Только больно испостились. – Как так?
– Да разве ты не знаешь, боярин?.. Они теперь оба живут затворниками.
– Затворниками?
– Как же! Если ты не найдешь их в хоромах, то ищи в подземном склепе, под церковным полом.
– Что ж они там делают?
– Вестимо что: спасаются!
– Эко диво! – сказал Опалев. – И вина не пьют?
– Какое вино! Не приезжайте вы к ним, так они дня три или четыре куска бы в рот не взяли: такие стали постники.
– Что это им вздумалось?.. – вскричал Лесута. – Да они этак вовсе себя уходят!
– Вот то-то и есть, – прибавил Опалев, – учение свет, а неучение тьма. Что сказано в Екклесиасте? «Не буди правдив вельми и не мудрися излишне, да некогда изумишися».
– Видно, боярин, они этой книги не читывали.
В это время Копычинский, который, сидя у дверей избы, посматривал пристально на Юрия, вдруг вскочил и, подойдя к Замятне-Опалеву, сказал ему на ухо:
– Боярин! уедем скорее отсюда: здесь неловко.
– Что ты врешь, дурак! – сказал Замятия.
– Нет, не вру, – продолжал поляк, – посмотри-ка на этого бледного и худого детину…
– Ну что за диковинка?
– Ты, видно, его не знаешь… Он настоящий разбойник!
– Разбойник!.. Постой-ка! Лицо что-то знакомое… Ну, точно так… Позволь спросить: ведь ты, кажется, Юрий Дмитрич Милославский?
Юрий ответствовал одним наклонением головы.
– В самом деле! – вскричал Лесута-Храпунов. – Теперь и я признаю тебя. Ну как ты похудел! Что это с тобой сделалось?
– Он четыре месяца был при смерти, болен, – отвечал Кирша.
– То-то тебя и не видно было, – продолжал Лесута-Храпунов. – Помнишь ли, Юрий Дмитрич, как мы познакомились с тобой у боярина Шалонского?
– Помню, – отвечал Юрий.
– Не правда ли, что он знатную нам задал пирушку!.. Помнится, вы с ним что-то повздорили, да, кажется, помирились. Нечего сказать, он немного крутенек, не любит, чтоб ему поперечили; а уж хлебосол! и как захочет, так умеет приласкать!
– «Прещение его подобно рыканию львову, – перервал Опалев, – и яко же роса злаку, тако тихость его».
– Эх, Юрий Дмитрич! – продолжал Лесута. – Много с тех пор воды утекло! Вовсе житья не стало нашему брату, родовому дворянину! Нижегородские крамольники все вверх дном поставили. Хотя бы, к примеру сказать, меня, стряпчего с ключом, – поверишь ли, Юрий Дмитрич? в грош не ставят; а какой-нибудь простой посадский или мясник – воеводою!
– Да, да, – примолвил Опалев, – чего мы не насмотрелись!
– Ты, верно, Юрий Дмитрич, – сказал Лесута, помолчав несколько времени, – пробираешься к пану Хоткевичу?
– Я и сам еще не знаю, – отвечал отрывисто Милославский.
– Да другого-то делать нечего, – продолжал Лесута, – в Москву теперь не проедешь. Вокруг ее идет такая каша, что упаси господи! и Трубецкой, и Пожарский, и Заруцкий, и проклятые шиши, – и, словом, весь русский сброд, ни дать ни взять, как саранча, загатил все дороги около Москвы. Я слышал, что и Гонсевский перебрался в стан к гетману Хоткевичу, а в Москве остался старшим пан Струся. О-ох, Юрий Дмитрич! плохие времена, отец мой! Того и гляди, придется пенять отцу и матери, зачем на свет родили!
– Что ты, Степан Кондратьич! – вскричал Опалев. – Не моги говорить таких речей: «Злословящему отца и матерь угаснет светильник, зеницы же очес его узрят тьму».
– Да мы и так уж давно ходим в потемках, – возразил Лесута. – Когда стряпчий с ключом, как я, или думный дворянин, как ты, не знают, куда голов приклонить, так, видно, уже пришли последние времена.
– Что и говорить, Степан Кондратьевич, мерзость запустения!.. По всему видно, что скоро наступит время, когда угаснет солнце, свергнутся звезды с тверди небесной и настанет повсюду тьма кромешная! Недром прозорливый Сирах глаголет…
– Однако ж нам пора в путь, – перервал Лесута, вставая с своего места. – Прощенья просим, Юрий Дмитрич! Мы будем от тебя кланяться Тимофею Федоровичу.
– Да не забудьте же, бояре, – примолвил Кирша, – если не найдете его в хоромах, то ищите в склепе под церковным полом.
– А где мой дурак? – закричал Опалев. – Эй ты, пан! куда ты запропастился?
– Я здесь, ясновельможный, – отвечал Копычинский, выглядывая из сеней. – Прикажешь садиться на коня?
– Садись!.. Да тише ты, польская чучела! куда торопишься?.. Смотри, пожалуй! с ног было сшиб Степана Кондратьевича.
Часа через два и наши путешественники отправились также в дорогу. Отдохнув целые сутки в Муроме, они на третий день прибыли во Владимир; и когда Юрий объявил, что намерен ехать прямо в Сергиевскую лавру, то Кирша, несмотря на то что должен был для этого сделать довольно большой крюк, взялся проводить его с своими казаками до самого монастырского посада.
V
Троицкая лавра святого Сергия, эта священная для всех русских обитель, показавшая неслыханный пример верности, самоотвержения и любви к отечеству, была во время междуцарствия первым по богатству и великолепию своему монастырем в России, ибо древнее достояние князей русских, первопрестольный град Киев, с своей знаменитой Печерской лаврою, принадлежал полякам. Обитель Троицкая, основанная около половины четырнадцатого столетия радонежским чудотворцем, преподобным Сергием, близ протока, называемого Кончурою, отстоит от Москвы не далее шестидесяти четырех верст. Хотя в 1612 году великолепная церковь святого Сергия, высочайшая в России колокольня, две башни прекрасной готической архитектуры и много других зданий не существовали еще в Троицкой лавре, но высокие стены, восемь огромных башен, соборы: Троицкий, с позлащенною кровлею, и Успенский, с пятью главами, четыре другие церкви, обширные монастырские строения, многолюдный посад, большие сады, тенистые рощи, светлые пруды, гористое живописное местоположение – все пленяло взоры путешественника, все поселяло в душе его непреодолимое желание посвятить несколько часов уединенной молитве и поклониться смиренному гробу основателя этой святой и знаменитой обители.
В описываемую нами эпоху Троицкая лавра походила более на укрепленный замок, чем на тихое убежище миролюбивых иноков. Расставленные по стенам и башням пушки, множество людей ратных, вооруженные слуги монастырские, а более всего поврежденные ядрами стены и обширные пепелища, покрытые развалинами домов, находившихся вне ограды, напоминали каждому, что этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда в летописях нашего отечества непостижимой загадкою, или, лучше сказать, явным доказательством могущества и милосердия божия. Тридцать тысяч войска польского, под предводительством известных своею воинской доблестью и зверским мужеством панов Сапеги и Лисовского, не успели взять приступом монастыря, защищаемого горстью людей, из которых большая часть в первый раз взялась за оружие; в течение шести недель более шестидесяти осадных орудий, гремя день и ночь, не могли разрушить простых кирпичных стен монастырских. Упование на господа и любовь к отечеству превозмогли всю силу многочисленного неприятеля: простые крестьяне стояли твердо, как поседевшие в боях воины, бились с ожесточением и гибли, как герои. Никто не хотел окончить жизнь на своей постеле; едва дышащие от ран и болезней, не могущие уже сражаться воины, иноки и слуги монастырские приползали умирать на стенах святой обители от вражеских пуль и ядер, которые сыпались градом на беззащитные их головы. Начальники осажденного войска князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца, на трапезе кровопролитной испить чашу смертную за отечество, целовали крест над гробом святого Сергия: сидеть в осаде без измены – и сдержали свое слово{13}13
Хотя Голохвастов был впоследствии подозреваем в измене и единомыслии с уличенным предателем, казначеем монастырским, Иосифом Девочкиным, но из летописи Авраамия Палицына видно, что он до конца осады оставался воеводою и разделял по-прежнему с князем Долгоруковым начальство над войском лавры; следовательно, можно полагать, что подозрение сие оказалось неосновательным.
[Закрыть]. Простояв более шестнадцати месяцев под стенами лавры, воеводы польские, покрытые стыдом, бежали от монастыря, который недаром называли в речах своих каменным гробом, ибо обитель святого Сергия была действительно обширным гробом для большей части войска и могилою их собственной воинской славы.
В одно прекрасное утро, перед ранней обеднею, человек пять слуг монастырских, собравшись в кружок, отдыхали на лугу, подле Святых ворот лавры. Один из них, который, судя по его усталому виду и запыленному платью, только что приехал из дороги, рассказывал что-то с большим жаром; все слушали его со вниманием, кроме одного высокого и молодцеватого детины. Не принимая, по-видимому, никакого участия в разговоре, он смотрел пристально вдоль ростовской дороги, которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдали между полей, густых рощей и рассыпанных в живописном беспорядке селений.
– Полно, так ли, брат Суета? – сказал один из слуг монастырских, покачав головою. – И тебя к нему допустили?
– Как же, братец! – отвечал рассказчик, напоминающий своим колоссальным видом предания о могучих витязях древней России. – Стану я лгать! Я своеручно отдал ему грамоту от нашего архимандрита; говорил с ним лицом к лицу, и он без малого слов десять изволил перемолвить со мною.
– А мне так не удалось посмотреть на князя Дмитрия Михайловича Пожарского, – сказал тот же служитель, – я был в отлучке, как он стоял у нас в лавре. Что, брат Суета, правда ли, что он молодец собою?
– Как бы тебе сказать?.. Росту не очень большого и в плечах узенек, – отвечал Суета, кинув гордый взор на собственные свои богатырские плеча, – но зато куда благообразен собою!.. А что за взгляд! Ах ты, господи боже мой!.. Поверите ль, ребята? как я к нему подходил, гляжу: кой прах! мужичонок небольшой – ну, вот не больше тебя, – прибавил Суета, показывая на одного молодого парня среднего роста, – а как он выступил вперед да взглянул, так мне показалось, что он целой головой меня выше! Вы знаете, товарищи, я детина не робкий и силка есть, а если б пришлось мне на ратном поле схватиться с князем Пожарским, так, что греха таить, не побожусь, статься может, и я бы сбердил.
– Что ты, Суета? помилуй!.. Ты для почину целый полк ляхов один остановил и человек двадцать супостатов перекрошил своим бердышом, так статочное ли дело, чтоб ты сробел одного человека?
– Да слышишь ли ты, голова! он на других-то людей вовсе не походит. Посмотрел бы ты, как он сел на коня, как подлетел соколом к войску, когда оно, войдя в Москву, остановилось у Арбатских ворот, как показал на Кремль и соборные храмы!.. и что тогда было в его глазах и на лице!.. Так я тебе скажу: и взглянуть-то страшно! Подле его стремени ехал Козьма Минич Сухорукий… Ну, брат, и этот молодец! Не так грозен, как князь Пожарский, а нашего поля ягода – за себя постоит!
– А что слышно о поляках?
– Вестимо что: одни сидят в Кремле да выглядывают из-за стен как сычи; а другие с гетманом Хоткевичем, как говорят, близехонько от Москвы.
– Так, стало быть, скоро большая схватка будет?
– Видно, что так. Жаль только, что наша сила поубавилась: изменник Заруцкий ушел в Коломну, да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно: такой сброд!.. Они ж, говорят, осерчали за то, что нижегородцы не пошли к ним в таборы; а по мне, так дело и сделали: что им якшаться с этими разбойниками? Вся понизовская сила, что пришла с князем Пожарским, истинно христолюбивое войско!.. не налюбуешься! А как посмотришь на дружины князя Трубецкого, так бежал бы прочь без оглядки: только и думают, как бы где понажиться да ограбить кого бы ни было, чужих или своих, все равно. Есть, правда, и у них ребята знатные, да сволочи-то много.
– А не попадались ли тебе на московской дороге шиши? Говорят, они везде шатаются.
– Как же! они и меня останавливали верстах в тридцати отсюда; но лишь только я вымолвил, что еду из Троицы к князю Пожарскому, тотчас отпустили да еще на дорогу стаканчик вина поднесли.
– Вот что! Так они не вовсе разбойники?
– Какие разбойники!.. Правда, их держит в руках какой-то приходский священник села Кудинова, отец Еремей: без его благословенья они никого не тронут; а он, дай бог ему здоровье! стоит в том: режь как хочешь поляков и русских изменников, а православных не тронь!.. Да что там такое? Посмотрите-ка, что это Мартьяш уставился?.. Глаз не спускает с ростовской дороги.
– А кто его знает! – отвечал один из служителей. – Мы слушаем твои рассказы, а он ведь глух, так, может статься, от безделья по сторонам глазеет.
– Нет, брат Данило! – сказал Суета. – Не говори, он даром смотреть не станет: подлинно господь умудряет юродивых! Мартьяш глух и нем, а кто лучше его справлял службу, когда мы бились с поляками? Бывало, как он стоит сторожем, так и думушки не думаешь, спи себе вдоволь: муха не прокрадется.
Вдруг Мартьяш вскочил, схватил за руку Суету и, заставив его встать, показал пальцем на ростовскую дорогу.
– Ну так и есть! – вскричал Суета. – Видите ли, ребята?..
– Да, – сказал Данило, – по большой дороге едут казаки. Пойти сказать старшинам.
– Постой, вот они, никак, все выехали из-за рощи… Да их навряд будет человек тридцать: из чего делать тревогу?
– А если это только передовые? – сказал один из служителей.
– И, нет! – продолжал Суета. – Там дальше никого не видно. Видите ли? Мартьяш уселся опять на прежнее место и вовсе на них не смотрит, так, верно, уж опасаться нечего: какие-нибудь проезжие или богомольцы.
– Да так и должно быть, – сказал Данило. – Посмотрите, впереди казаков едет какой-то боярин… Вот сняли шапки и молятся на соборы… Видно, какой-нибудь понизовский дворянин едет к нам на богомолье.
Читатели наши, без сомнения, уже догадались, что боярин, едущий в сопровождении казаков, был Юрий Дмитрич Милославский. Когда они доехали до святых ворот, то Кирша, спеша возвратиться под Москву, попросил Юрия отслужить за него молебен преподобному Сергию и, подаря ему коня, отбитого у польского наездника, и литовскую богатую саблю, отправился далее по московской дороге. Милославский, подойдя к монастырским служителям, спросил: может ли он видеть архимандрита?
– Вряд ли, боярин, – отвечал Суета, – я сейчас был у него в палатах: он что-то прихворнул и лежит в постели; а если у тебя есть какое дело, то можешь переговорить с отцом келарем.
– Авраамием Палицыным?
– Да, боярин; он вчера приехал из-под Москвы и нынче же после трапезы опять туда едет.
– Не может ли кто-нибудь из вас проводить меня в его келью?
– Пожалуй, я провожу, – сказал Суета. – А ты, брат, – продолжал он, обращаясь к Алексею, – отведи коней в гостиницу.
– А где бы достать чего-нибудь перекусить, любезный? – спросил Алексей.
– Уж там тебя накормят; благодаря бога из Сергиевской лавры ни один еще богомолец голодный не уходил.
Юрий, идя вслед за Суетою, заметил, что и внутри монастыря большая часть строений была повреждена и хотя множество рабочих людей занято было поправкою оных, но на каждом шагу встречались следы опустошения и долговременной осады, выдержанной обителью.
– Вот в этих палатах живал прежде отец Авраамий, – сказал Суета, указав на небольшое двухэтажное строение, прислоненное к ограде. – Да видишь, как их злодеи ляхи отделали: насквозь гляди! Теперь он живет вон в той связи, что за соборами, не просторнее других старцев; да он, бог с ним, не привередлив: была б у него только келья в стороне, чтоб не мешали ему молиться да писать, так с него и довольно.
– А что он такое пишет?
– Бог весть! Послушник его Финоген мне сказывал, что он пишет какое-то сказание об осаде нашего монастыря и будто бы в нем говорится что-то и обо мне; да я плохо верю: иная речь о наших воеводах князе Долгорукове и Голохвастове – их дело боярское; а мы люди малые, что о нас писать?.. Сюда, боярин, на это крылечко.
Пройдя длинным коридором до самого конца здания, они остановились, и Суета, постучав в небольшую дверь, сказал вполголоса:
– Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня, грешного!
– Аминь! – отвечал кто-то приятным и звучным голосом внутри кельи.
– Теперь ступай, боярин, – сказал Суета, отворяя дверь.
Юрий взошел в небольшую келью с одним окном. В левом углу стояла деревянная скамья с таким же изголовьем; в правом – налой, над которым теплилась лампада перед распятием и двумя образами; к самому окну приставлен был большой, ничем не покрытый стол; вдоль одной стены, на двух полках, стояли книги в толстых переплетах и лежало несколько свитков. Перед столом на скамье сидел старец в простой черной ряске и рассматривал с большим вниманием толстую тетрадь, которая лежала перед ним на столе. Приход Юрия не прервал его занятия: он взял перо, поправил несколько слов и прочел вслух: «В сей бо день гетман Сапега и Лисовский, со всеми полки своими, польскими и литовскими людьми, и с русскими изменники, побегоша к Дмитреву, никем же гонимы, но десницею божией…» Тут он написал еще несколько слов, встал с своего места и, благословя подошедшего к нему Юрия, спросил ласково: какую он имеет до него надобность?
– Отец Авраамий, – отвечал с смиренным видом Юрий, – я имею до тебя немаловажную просьбу.
– Садись, молодец, и говори, чего ты от меня хочешь?
Кроткий и вместе величественный вид старца, его блестящие умом и исполненные добросердечия взоры, приятный, благозвучный голос, а более всего известные всем русским благочестие и пламенная любовь к отечеству – все возбуждало в душе Юрия чувство глубочайшего почтения к сему бессмертному сподвижнику добродетельного Дионисия. Помолчав несколько времени, Милославский сказал робким голосом:
– Отец Авраамий, я не смею надеяться, что ты исполнишь мою просьбу.
– Говори смело, чадо мое, – отвечал старец, – нам ли, многогрешным, отвергать просьбы наших братьев, когда мы сами ежечасно, как малые дети, прибегаем с суетными мольбами к общему отцу нашему!
– Я хочу, – продолжал Милославский, ободренный ласковою речью Авраамия, – умереть свету и при помощи твоей из воина земного соделаться воином Христовым.
Старец поглядел на Юрия и спросил с некоторым сомнением:
– Ты желаешь вступить в обитель нашу послушником?
– Да, отец Авраамий, и если господь бог сподобит, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образ иноческий… то все желания мои исполнятся.
Авраамий покачал головою и, взглянув с соболезнованием на Юрия, сказал:
– В столь юные годы!.. На утре жизни твоей!.. Но точно ли, мой сын, ты ощущаешь в душе своей призвание божие? Я вижу на твоем лице следы глубокой скорби, и если ты, не вынося с душевным смирением тяготеющей над главою твоей десницы всевышнего, движимый единым отчаянием, противным господу, спешишь покинуть отца и матерь, а может быть, супругу и детей, то жертва сия не достойна господа: не горесть земная и отчаяние ведут к нему, но чистое покаяние и любовь.
– У меня нет ни отца, ни матери, – сказал Юрий, я сирота!
– Но кто ты, юноша?
– Юрий Милославский.
– Сын покойного боярина Милославского?
– Да, сын его.
Старец устремил испытующий взор на Юрия и после короткого молчания сказал с приметным удивлением:
– И ты, сын Димитрия Милославского, желаешь, наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не могущими сражаться воинами, посвятить себя единой молитве, когда вся кровь твоя принадлежит отечеству? Ты, юноша во цвете лет своих, желаешь, сложив спокойно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, умирая за веру отцов и святую Русь, утучняют своею кровию родные поля московские?
– Итак, отец Авраамий, ты отвергаешь мою просьбу?
– Нет, Юрий Дмитрич, не я!.. Взгляни вокруг себя, вопроси эти полуразрушенные стены, пожженные дома, могилы иноков, падших в кровавой битве с врагом веры православной, и если их безмолвный ответ не напомнит тебе долга твоего, то ты не сын Димитрия! Нет, Юрий Дмитрич, не здесь твое место: оно в рядах храбрых дружин нижегородских, под стенами оскверненного присутствием злодеев Кремля! Сын мой, светла пред господом жизнь праведника; но венец мученика есть верх его благости и милосердия! Иди стяжать сию нетленную награду! Ступай умри верным защитником православной греческой церкви и достойным сыном добродетельного Димитрия!
Юрий, потупив глаза, стоял, как преступник пред своим судиею, и не отвечал ни слова.
– Ты молчишь? – продолжал Авраамий. – Колеблешься?.. Да простит тебя господь! ты надругался над моими сединами: ты обманул меня. Юноша! ты не сын Милославского!..









































