Текст книги "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году"
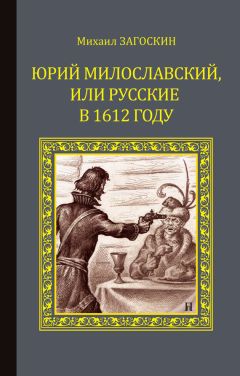
Автор книги: Михаил Загоскин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
VIII
В первый день решительной битвы русских с гетманом Хоткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замоскворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленные по большей части из буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты отечества, но для грабежа и добычи{15}15
Вот что говорит летопись о казаках, бывших в войске князя Трубецкого: «Многое раззорение христианом творяху и грабежи и убийства везде содеваху, и кто может изрещи злое то насилие их, и сия беда последняя бысть горше первыя (то есть нашествия поляков), а смирити и уняти их невозможно, собрася бо казаков сих множество и бысть мятеж: сей и насилие по всей земли».
[Закрыть]. С первого взгляда на эти разбросанные без всякого порядка по берегу Москвы-реки толпы пещих и конных ратников можно было догадаться, что дух мятежа и своевольства царствовал в рядах сего необузданного и едва знающего подчиненность войска. Во многих местах раздавались песни и громкие восклицания; и даже шагах в двадцати от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого, человек пятьдесят казаков, расположась покойно вокруг пылающего костра и попивая вкруговую, шумели и кричали во все горло, осыпая ругательствами нижегородское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При появлении старшин никто не трогался с места: ни один казак не приподымал своей шапки, и даже нередко грубые насмешки и обидные прозвания раздавались вслед за проходящими начальниками, которых равнодушие доказывало, что они давно уже привыкли к такому своевольству. В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек пятьсот всадников, в числе которых заметны были также казаки; но порядок и тишина, ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшинам, которые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению, – все удостоверяло, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого. Впереди, на небольшом земляном возвышении, с которого можно было следовать взором за изгибами Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял начальник этой отдельной дружины. Казалось, все внимание его было обращено к стороне Ново-Девичьего монастыря, вокруг которого и по всему пространству Лужников рассыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагах в десяти позади его разговаривали вполголоса давнишние знакомцы наши: Кирша и Алексей. Первый смотрел также с большим вниманием в ту сторону, где расположено было неприятельское войско.
– Ну что? – спросил Алексей. – Выходят ли они из лагеря?
– Кажется, нет, – отвечал Кирша. – Видно, еще князь Пожарский не двинулся от Арбатских ворот.
– А скажи, пожалуйста, любезный! не знаешь ли, зачем он прислал вас сюда с моим господином?
– Князь Трубецкой просил у него подмоги, чтоб ударить в поляков, когда начнется сражение.
– Да разве у него мало войска? Посмотри-ка, видимо-невидимо! Одних казаков, почитай, столько же, сколько нас всех у князя Пожарского – и пеших и конных.
– Эх, брат Алексей! и много, да черт ли в них! Вишь, какая вольница! Мы с часу на час ждем драки, а они себе и в ус не дуют! Дал бы этим озорникам в воеводы пана Лисовского, так он бы их повернул по-своему; у него, бывало, расправа короткая: ладно так ладно, а не так, так пулю в лоб!.. Эва! слышишь, как покрикивают… подле самого шатра княжеского, – как будто б им черт не брат! Небось у Лисовского не стали б этак горланить. Бывало, как закрутит усы да гаркнет, так во всем лагере услышишь, как муха пролетит… Постой-ка, брат… постой! Никак, поляки зашевелились… Чу! пушка… другая!.. пошла потеха!
Вся окрестность дрогнула. Со стороны Арбатских ворот, как отдаленный гром, пронесся глухой рокот по воздуху: двинулись пехотные дружины нижегородские, промчалась конница, бой закипел, и через несколько минут вся окружность Ново-Девичьего монастыря покрылась густыми облаками дыма.
– Эх! если б поскорей дошла до нас очередь! – вскричал Кирша. – Так руки и зудят!..
– Эка трескотня!.. – сказал Алексей. – Ух! как грянули из пушек!.. Да это, никак, с нашей стороны?
– С нашей, с нашей!.. – перервал Кирша. – Вот так!.. знатно, ребята, знатно! Катай их, еретиков!
Весь отряд под начальством Милославского, которого, вероятно, читатели наши узнали уже в начальнике отдельного отряда, горел нетерпением вступить в бой с неприятелем; но в дружинах князя Трубецкого не заметно было никакого движения. Он сам не показывался из своей ставки; и хотя сражение на Девичьем поле продолжалось уже более двух часов и ежеминутно становилось жарче, но во всем войске князя Трубецкого не приметно было никаких приготовлений к бою; все оставалось по-прежнему: одни отдыхали, другие веселились, и только несколько сот казаков, взобравшись из одного любопытства на кровли домов, смотрели, как на потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный бой, от последствий которого зависела участь не только Москвы, но, может быть, и всего царства Русского.
Едва скрывая свое негодование, Кирша подошел к одной толпе, которая стояла далее других от шатра главного воеводы.
– Что, товарищи, – сказал он, – не пора ли и вам взнуздать коней?
– Зачем? – спросил один казак.
– Как зачем? Чай, нашим становится жутко; вот уж часа три, как они бьются с поляками.
– Так что ж?.. На здоровье! Пусть себе забавляются! – перервал другой казак. – Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и сами от гетмана!
– Спесивы больно! – подхватил один урядник. – Не пошли к нам в таборы, так пусть теперь одни и справляются с ляхами!
– Они не хотели с нами знаться, – примолвил первый казак, – так и мы их знать не хотим. Ну-ка, Терешка, запевай плясовую!
Полупьяный казак затянул песню, и вся толпа гаркнула вслед за ним хором.
Милославский подошел к ставке князя Трубецкого.
– Не пора ли нам? – сказал он казацкому старшине, который стоял у дверей шатра.
– Как придет время, так вам прикажут, – отвечал хладнокровно старшина.
– Нельзя ли мне поговорить с князем Димитрием Тимофеевичем?
– Нет, он никого не велел к себе пускать.
Вдруг подскакал к шатру покрытый пылью и окровавленный всадник; спрыгнув с коня, он спросил торопливо:
– Где князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой?
– На что тебе? – спросил старшина.
– Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать.
– Неужто в самом деле? – перервал с насмешливой улыбкою старшина.
– К ним прибывает беспрестанно свежее войско, а мы все одни; и если б князь Димитрий Михайлович не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы сбили с поля. Он просит подмоги.
– И, полно, брат, одни отгрызётесь! Да постой, куда ты?
– К вашему воеводе.
– Не велено пускать. С богом, убирайся-ка, откуда приехал!
– Что ж мне сказать князю Димитрию Михайловичу?
– Что мы желаем ему справиться с поляками, а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет очередь.
– Нет! – вскричал Милославский. – Это уже превосходит все терпение! Если вы не боитесь бога и хотите из личной вражды и злобы губить наше отечество, то я с моей дружиною не останусь здесь.
– Потише, молодец, не горячись! Ты здесь не старший воевода. И как бы ты смел без приказа князя Димитрия Тимофеевича идти на бой?
– А вот увидишь! – сказал Милославский, подходя к своему отряду.
– На коня, товарищи!
– Именем главного воеводы, князя Трубецкого, приказываю тебе не трогаться с места!.. – сказал старшина, подбежав к Юрию, который садился на лошадь.
– Я служу не ему, а отечеству! – отвечал Юрий, выезжая вперед.
– Стойте! – вскричал старшина. – А не то я велю остановить вас силою.
– Попытайся, – сказал Юрий, взглянув с презрением на старшину. – Живей, ребята! – продолжал он. – Сабли вон!.. с богом!.. вперед!..
В полминуты отряд Милославского переправился через Москву-реку и при громких восклицаниях: «Умрем за веру православную и святую Русь!» – помчался на место сражения.
Из всей дружины Милославского остался на другой стороне реки один только казак, и читатели едва ли отгадают, что этот предатель был наш старинный знакомец Кирша. Но честный и храбрый запорожец не для измены отстал от своих. Он заметил, что решительный поступок Милославского сильно подействовал на многих казаков из войска князя Трубецкого; некоторые даже вслух кричали, что стыдно пред людьми и грешно перед богом выдавать своих единоверцев. Четверо атаманов казацких: Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов, казалось, более других досадовали на свое бездействие, и когда Кирша подошел к ним, то Афанасий Коломна сказал ему с негодованием:
– Не совестно ли тебе отставать от своих?
– Нет, господа старшины!.. – отвечал Кирша, – мне совестно, да только не за себя, а за вас.
– Ну тебе ли говорить! – вскричал Козлов. – Беглец!.. покинул своих товарищей!..
– Да я и других казаков уговаривал здесь остаться. Как нам глаза показать перед войском князя Пожарского? Ведь мы такие же казаки, как вы, так не радостно будет слушать, как православные станут при нас всех казаков называть изменниками.
– Изменниками! – вскричал Дружина Романов.
– А как же? – продолжал Кирша. – Разве мы не изменники? Наши братья, такие же русские, как мы, льют кровь свою, а мы здесь стоим поджавши руки… По мне, уж честнее быть заодно с ляхами! А то что мы? ни то ни се – хуже баб! Те хоть бога молят за своих, а мы что? Эх, товарищи, видит бог, мы этого сраму век не переживем!
– А что вы думаете? ведь он правду говорит, ребята! – сказал Межаков. – Где слыхано выдавать своих!
– Вся беда оттого, что наши воеводы повздорили между собою, – прибавил Дружина Романов.
– Да пусть их ссорятся! – закричал Марко Козлов. – Нам какое до этого дело? Кто как хочет, а я с моим полком иду. Гей, батуринские, на коня!
– И мы также идем! – вскричали Коломна, Межаков и Романов.
Казаки столпились вокруг своих начальников; но большая часть из них явно показывала свою ненависть к нижегородцам, и многие решительно объявляли, что не станут драться с гетманом. Атаманы, готовые идти на помощь к князю Пожарскому, начинали уже колебаться, как вдруг один из казаков, который с кровли высокой избы смотрел на сражение, закричал:
– Ай да нижегородцы!.. попятили ляхов!.. Глядите-ка! Поляки бегут.
– Бегут!.. – вскричал Кирша. – Так вам и делать нечего. Прощайте, ребята! я один поеду. Ну, знатная же будет пожива нижегородцам! Говорят, в польском стане золота и серебра хоть возами вози!
– Что ж мы зеваем, ребята? – заговорили меж собой казаки. – На коней!..
– На коней! – повторили тысячи голосов.
– Живей, добрые молодцы! живей! садись! – закричали атаманы.
Из ставки начальника прибежал было с приказаниями завоеводчик;[21]21
Звание, равное нынешнему генерал-адъютанту. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
[Закрыть] но атаманы отвечали в один голос: «Не слушаемся! идем помогать нижегородцам! Ради нелюбви вашей Московскому государству и ратным людям пагуба становится», – и, не слушая угроз присланного чиновника, переправились с своими казаками за Москву-реку и поскакали в провожании Кирши на Девичье поле, где несколько уже минут кровопролитный бой кипел сильнее прежнего.
Между тем отряд Юрия, проехав берегом Москвы-реки, ударил сбоку на неприятеля, который начинал уже быстро подвигаться вперед, несмотря на отчаянное сопротивление князя Пожарского. Как ангел-истребитель, летел перед своим отрядом Юрий Милославский; в несколько минут он смял, втоптал в реку, рассеял совершенно первый конный полк, который встретил его дружину позади Ново-Девичьего монастыря: пролить всю кровь за отечество, не выйти живому из сражения – вот все, чего желал этот несчастный юноша. Врываясь, как бурный поток, в самые густые толпы польских гусар, он бросался на их мечи, устилал свой путь мертвыми телами и, невидимо хранимый десницею всевышнего, оставался невредим. Отборная его дружина, почти вся составленная из стрельцов московских, не уступала ему в мужестве. Опрокинув еще несколько пехотных региментов, они врезались в самую средину сторожевых полков неприятельских. От орлиного взора князя Пожарского не укрылось замешательство, в какое приведены были поляки от этого неожиданного нападения; он двинул вперед все войско… Поляки дрогнули, побежали; но, соединясь с сторожевыми полками своими, возобновили снова сражение на самом берегу Москвы-реки. Положение отряда Милославского, из которого не оставалось уже и третьей доли, становилось час от часу опаснее: окруженный со всех сторон, стиснутый между многочисленных полков неприятельских, он продолжал биться с ожесточением; несколько раз пробивался грудью вперед; наконец свежая, еще не бывшая в деле неприятельская конница втеснилась в сжатые ряды этой горсти бесстрашных воинов, разорвала их, – и каждый стрелец должен был драться поодиночке с неприятелем, в десять раз его сильнейшим. Этот неравный бой не мог продолжаться долго. В ту самую минуту как Милославский, подле которого бились с отчаянием Алексей и человек пять стрельцов, упал без чувств от сильного сабельного удара, раздался дикий крик казаков, которые, под командою атаманов, подоспели наконец на помощь к Пожарскому. В одно мгновение опрокинутые поляки рассыпались по полю, и Кирша, с сотнею удалых наездников, гоня перед собой бегущего неприятеля, очутился подле того места, где, плавая в крови своей и окруженный трупами врагов, лежал без чувств Юрий Милославский. Запорожец соскочил с коня, при помощи Алексея положил Юрия на лошадь, вывез из тесноты и, доехав до Арбатских ворот, внес в один мещанский дом, который менее других показался ему разоренным. Оставив с ним Алексея, Кирша возвратился на поле сражения; но оно было уже совсем очищено от неприятеля. Пришедшие на помощь казаки князя Трубецкого решили участь этого дня: их неожиданное нападение расстроило поляков, и гетман Хоткевич, отступая в беспорядке за Москву-реку, остановился у Поклонной горы.
Несмотря на претерпенное неприятелем поражение, он успел ночью на 23-е число, при помощи изменника Григорья Орлова, провести в Кремль шестьсот человек гайдуков. Усиленный этим отрядом, крепостный гарнизон сделал чем свет вылазку и взял за Москвой-рекой небольшой окоп близ церкви св. Георгия. Желая воспользоваться этой удачею, гетман Хоткевич, зайдя со стороны Донского монастыря, напал на конницу князя Трубецкого, которая, не выдержав первого натиска, дала хребет и смешала в бегстве своем конные полки князя Пожарского. Пехотные дружины нижегородские остановили, однако же, стремление неприятеля; упорный бой продолжался до шестого часа пополудни. Тщетно Пожарский требовал помощи от князя Трубецкого: он отступил в свои укрепленные таборы близ Крымского брода, не принимал никакого участия в сражении, и нижегородское ополчение должно было выдерживать одно весь натиск многочисленного неприятеля. Наконец непреодолимое мужество этих верных сынов России восторжествовало над множеством врагов: гетман принужден был отступить. Казаки Трубецкого, увидя бегущего неприятеля, присоединились было сначала к ополчению князя Пожарского; но в то самое время, когда решительная победа готова была уже увенчать усилия русского войска, казаки снова отступили и, осыпая ругательствами нижегородцев, побежали назад в свой укрепленный лагерь. Это предательство изменило совершенно вид сражения: поляки ободрились, русские дрогнули, и князь Пожарский, гнавший уже неприятеля, увидел с ужасом, что войско его, утомленное беспрерывным боем и расстроенное изменою казаков, едва удерживало за собою поле сражения. Предвестники победы, радостные крики раздавались в рядах вражеских; отчаяние и робость изображались на усталых лицах воинов нижегородских… Гибель войска русского, а вместе с сим и падение России казались уже неизбежными. В эту решительную минуту, вдохновенный свыше, знаменитый Авраамий Палицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого, умоляя их со слезами подать помощь погибающим братьям. Исполненные пламенной любви к отечеству слова его потрясли наконец закоснелые в буйстве и нечестии сердца этих грубых воинов. Обещая одним нетленную награду на небесах, предлагая другим всю казну монастырскую, он заклинал всех именем божиим не выдавать отечества и спешить на помощь к князю Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъяснимым красноречием этого бессмертного старца, все казаки восстали, двинулись вперед и, повторяя имя святого Сергия, грудью ударили на поляков. В то же время гражданин Минин, с тремя отборными дворянскими дружинами, обойдя в тыл сильному неприятельскому отряду, расположенному за Москвой-рекою, истребил его совершенно. Смятение и наконец бегство неприятеля сделалось всеобщим. Укрепленный лагерь, артиллерия, весь обоз достались победителям, и гетман Хоткевич, потеряв почти половину своего войска, на другой день поутру, то есть 25 числа августа, бежал со стыдом от Москвы.
Оставшиеся поляки заперлись в Кремле и вскоре по взятии нашими войсками Китай-города, окруженные со всех сторон, должны бы были сдаться, если б несогласия между главными начальниками и явная нелюбовь одного войска к другому не мешали осаждающим действовать общими силами. Уже близко двух месяцев продолжалась осада Кремля; наконец поляки, изнуренные голодом и доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга – решились сдаться военнопленными.
Но нам пора уже возвратиться к герою нашей повести. По взятии Китай-города и окружающих его предместий раненый Милославский переехал, по приглашению князя Пожарского, в собственный дом его, на Лубянку[22]22
Дом князя Пожарского находился против церкви Введения божией матери, на том самом месте, где ныне дом 3-й гимназии. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
[Закрыть]. Юрий начинал уже оправляться, но он чувствовал себя столь слабым, что не смел еще выходить из дому. В пылу сражения и потом во время тяжкой болезни он, казалось, забыл о своем положении; но когда телесная болезнь его миновалась, то сердечный недуг с новой силою овладел его душою. Иногда посещал его князь Пожар-кий, изредка Авраамий Палицын и князь Черкасский; но безотлучно находились при нем добрый его служитель и верный Кирша, которому удавалось иногда веселыми своими рассказами рассеивать на несколько минут мрачные мысли и глубокое уныние, овладевшие душою несчастного юноши.
Одним вечером Кирша, войдя поспешно в комнату больного, закричал:
– Добрые вести, Юрий Дмитрич, добрые вести!
– Какие вести? – спросил Милославский.
– Завтра мы будем петь благодарственный молебен в Успенском соборе.
– Поэтому поляки сдаются?
– Видно, что так. А надобно им честь отдать: постояли за себя! Кабы им было что перекусить, не стали бы просить милости, да голодом-то мы их доехали!
– И ты точно знаешь, что мы завтра входим в Кремль?
– Говорят так. Поляки, как слышно, просят только о том, чтоб им сдаться нашему воеводе, князю Пожарскому, а не другому кому. Видно, и они уж знают, каковы казаки Трубецкого. Посмотрел бы ты, Юрий Дмитрич, когда выпустили из Кремля на нашу сторону боярских жен, которые были в полону у поляков, какой бунт подняли эти разбойники! И как ты думаешь, за что?.. За то, что им не дали грабить русских боярынь!.. Хороши защитники отечества! Но вот, никак, отец Авраамий идет тебя навестить… Так и есть! Он лучше тебе расскажет обо всем, боярин.
Авраамий Палицын вошел к Юрию и, благословя его, спросил, как он себя чувствует.
– Все так же, – отвечал Милославский.
– Все так же? – сказал старец, покачав с неудовольствием головою. – Кажется, давно бы пора тебе оправиться. Жаль, Юрий Дмитрич, если ты еще так слаб, что не можешь сидеть на коне: мы завтра входим в Кремль.
– Я уж слышал об этом, отец Авраамий, и решился во что б ни стало войти в Кремль с вами.
– Но если твое здоровье требует…
– Нет! эта радостная весть оживила меня, и я начинаю чувствовать в себе довольно силы…
– Итак, завтра чем свет…
– Ты увидишь меня на коне, перед моим отрядом, отец Авраамий.
– Прощай, Юрий Дмитрич! Я зашел только проведать тебя и не могу долго с тобой оставаться. Завтрашний день мне бы надобно ехать верст за пятьдесят для исполнения одной священной обязанности; но так как мы входим в Кремль, то мне нельзя отлучиться из Москвы, и я хочу послать сейчас гонца для уведомления, что обряд, при котором присутствие мое необходимо, не может быть совершен завтра. Послезавтра я буду свободен и успею еще исполнить то, чего от меня требуют, – примолвил Авраамий, вздохнув от глубины души. – Прощай, сын мой! – продолжал он. – Да укрепит господь твои силы и да снидет на главу твою его животворящая благодать!
IX
Наконец наступило 22 число октября 1612 года, день достопамятный и незабвенный в летописях нашего отечества. Вместе с восходом солнечным поляки вышли двумя толпами из Кремля. Эти несчастные, изнуренные голодом, походили более на мертвецов, чем на живых людей. Одна половина гарнизона, находившаяся под командою пана Будилы, вышла на сторону князя Пожарского и встречена была не ожесточенным неприятелем, но человеколюбивым войском, которое поспешило накормить и успокоить, как братьев, тех самых людей, коих накануне называло своими врагами. Совсем другая участь постигла остальную часть гарнизона, вышедшую под начальством пана Струса на сторону князя Трубецкого: буйные казаки, для которых не было ничего святого, перерезали большую часть пленных поляков и ограбили остальных. Это нарушение всех прав народных было, так сказать, предвестником тех грабежей, убийств и пожаров, которыми по окончании брани ознаменовали след свой неистовые казаки, рассеясь, как стая хищных зверей, по всей России.
По выходе неприятеля из Кремля войско князя Пожарского, предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Палицыным и многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди всей рати понизовской ехал верховный вождь, князь Дмитрий Михайлович Пожарский: на величественном и вместе кротком челе сего знаменитого мужа и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные храмы, сияла неизъяснимая радость; по правую его руку на лихом закубанском коне гарцевал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский; с левой стороны ехали: князь Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата, боярин Мансуров, Образцов, гражданин Минин, Милославский и прочие начальники. Арсений, епископ Галасунский, с иконою Владимирской божией матери, встретил победителя у самых Спасских ворот. Вслед за войском хлынули в Кремль бесчисленные толпы народа; раздался громкий благовест; нижегородское ополчение построилось вокруг царских чертогов; духовенство, начальники, именитые граждане взошли в Успенский собор, и русское: «Тебе бога хвалим!» – оглася своды церковные, раздалось наконец в стенах священного Кремля, столь долго служившего вертепом разбойничьим для врагов иноплеменных и для предателей собственной своей родины.
Выходя из Успенского собора, Милославский повстречался с Мининым.
– Ну, вот видишь, боярин, – сказал знаменитый гражданин нижегородский, – я не пророк, а предсказание мое сбылось. Сердце в нас вещун, Юрий Дмитрич! Прощаясь с тобою в Нижнем, я головой бы моей поручился, что увижу тебя опять на поле ратном против общего врага нашего, и не в монашеской рясе, а с мечом в руках. Когда ты прибыл к нам в стан, то я напоминал тебе об этом, да ты что-то мне отвечал так чудно, боярин, что я вовсе не понял твоих речей.
– Что ж я отвечал тебе, Козьма Минич?
– Как теперь помню, ты сказал мне, что мое пророчество сбылось только вполовину.
– И говорил истинную правду.
– Как так, боярин? Я что-то в толк не беру? Ты, кажется, одет не чернецом; а что твой меч в ножнах не оставался, так этому я сам был свидетелем. Правда, ты и теперь с виду походишь на затворника… Да будь повеселее, боярин! Кажется, есть чему порадоваться: злодеев не стало. Много пролито крови христианской; да и то слава богу, что наконец правда взяла свое! Грустно только видеть, как поруганы и осквернены храмы господни, да это также дело поправное; а вот что худо, Юрий Дмитрич: с одними супостатами мы справились, как-то справимся с другими?
– С другими?..
– Ну да! Посмотри, – продолжал Минин, указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались, как неприятели, Троицкими и Боровицкими воротами в Кремль. – Видишь ли, Юрий Дмитрич, как беснуются эти разбойники? Ну, походит ли эта сволочь на православное и христолюбивое войско? Если б они не боялись нас, то давно бы бросились грабить чертоги царские. Посмотри-ка, словно волки рыщут вокруг Грановитой палаты.
В самом деле, своевольные казаки рассыпались по всему Кремлю, ломились толпами в домы боярские и, казалось, выжидали только удобной минуты, чтоб ворваться в царские палаты и разграбить казну, оставленную поляками.
Между тем Юрий и гражданин Минин, продолжая разговаривать друг с другом, подошли нечувствительно к церкви святого Спаса на Бору. В ту самую минуту как Милославский поравнялся против церковных дверей, густые тучи заслонили восходящее солнце, раздался дикий крик казаков, которые, пользуясь теснотой и беспорядком, ворвались наконец в чертоги царские; и в то же самое время многочисленные толпы покрытых рубищем граждан московских, испуганных буйством этих грабителей, бежали укрыться по домам своим. Юрий невольно содрогнулся: в его глазах наяву повторялось то, что он видел некогда во сне, будучи гостем в доме боярина Кручины. Минин поспешил назад, на соборную площадь, приглашая Милославского идти с ним вместе; но он не слышал слов его: какая-то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на Бору. В растерзанной душе его стали пробуждаться одно за другим тысячи грустных воспоминаний. Несколько минут он колебался; наконец с трепетом переступил церковный порог. Все было тихо внутри; дневной свет, проникая с трудом сквозь узкие, едва заметные окна, боролся с вечным сумраком, который царствовал под низкими и тяжелыми сводами этого древнего храма, пережившего многие столетия. Ни одна свеча не горела перед иконами; и только налево, за низкой аркою, отражался вдоль стены тусклый свет лампады, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского.
Кто опишет горестные чувства Милославского, когда он вступил во внутренность храма, где в первый раз прелестная и невинная Анастасия, как ангел небесный, представилась его обвороженному взору? Ах, все прошедшее оживилось в его воображении: он видел ее пред собою, он слышал ее голос… Несчастный юноша не устоял против сего жестокого испытания: он забыл всю покорность воле всевышнего, неизъяснимая тоска, безумное отчаяние овладели его душою.
– Злополучный! – вскричал он. – Для чего ты спешил погубить самого себя! Она твоя супруга, и ты не можешь, не должен называть ее своею… О Анастасья, Анастасья!..
– Что ты, Юрий Дмитрич? – сказал позади Милославского знакомый голос. Он обернулся и увидел подходящего Авраамия. – Что с тобою? – продолжал Палицын. – Ах, сын мой! ты не для молитвы взошел в сей храм: эти блуждающие взоры, это отчаяние на обезображенном челе твоем… Нет, Юрий Дмитрич, не так молятся христиане!
– Отец мой! – вскричал Юрий. – Отец мой! спаси меня!.. В душе моей весь ад… все мучения погибающего грешника!
– Что ты говоришь, сын мой? Какое преступление тяготит твою совесть?..
– Одна ужасная тайна!..
– Тайна?.. Для чего ж ты скрывал ее от меня? Разве я не пастырь, не наставник, не друг твой?
– Отец Авраамий! я… женат.
– Женат! – вскричал Палицын. Он посмотрел молча на Юрия и повторил с негодованием: – Женат! Для чего же ты обманул меня, несчастный? И ты дерзнул в храме божием, пред лицом господа твоего, осквернить свои уста лукавством и неправдою!.. Ах, Юрий Дмитрич, что ты сделал!
– Нет, отец мой! я не обманул тебя: я не был женат, когда клялся посвятить себя безбрачной жизни; не помышлял нарушить этот обет, данный пред гробом святого угодника божия, – и мог ли я думать, что на другой же день назову моей супругою дочь злейшего врага моего – боярина Кручины-Шалонского?
Удивление оковало уста Авраамия Палицына, но вдруг на лице его изобразилось живое сострадание; он взял Милославского за руку и сказал тихим голосом:
– Успокойся, Юрий Дмитрич! Я вижу, ты не совсем еще выздоровел.
– Ах, если б это была правда, отец мой… если б это был один бред!.. Так я открою тебе мою душу, выслушай меня!
Юрий рассказал все отцу Авраамию, и когда он кончил, то этот добродетельный старец, заключа его в свои объятия, сказал сквозь слезы:
– Нет, Юрий Дмитрич! ты не нарушил свой обет! Ты не клятвопреступник точно так же, как не самоубийца тот, кто гибнет, спасая своего ближнего.
– Но что же я?..
– Супруг Анастасии. Ты обещался быть иноком, но обряд пострижения не был совершен над тобою, и, простой белец, ты можешь, не оскорбляя церкви, возвратиться снова в мир. Ты не свободен более располагать собою; вся жизнь твоя принадлежит Анастасии, этой несчастной сироте, соединенной с тобою неразрывными узами, освященными одним из великих таинств нашей православной церкви.
Не смея предаваться радости, не веря самому себе, Юрий сказал дрожащим голосом:
– Как, отец Авраамий, я могу еще надеяться, что после данного мною обета?..
– Московские святители разрешат тебя от оного, – перервал Палицын. – Так, Юрий Дмитрич, я вижу ясно перст божий, указующий тебе путь, по коему ты должен следовать. Всевышний помог нам очистить Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше отечество. Честолюбивые бояре, крамольники, буйные казаки – все, соединенные теперь общим бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как стая голодных псов, начнут терзать собственную свою родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви своей к отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли русской. Ты пойдешь по стопам покойного твоего родителя, Юрий Дмитрич! Ты будешь твердейшим оплотом отечества против ухищрения и злобы домашних врагов наших; а что бы ты был, произнеся обет иночества? Отрекаясь мира, ты заключал еще в душе своей любовь мирскую. Что сталось бы с тобою, если б ты поколебался в своей вере? Если б, искушаемый земными помыслами, ты предался отчаянию и твой преступный язык произнес бы хулу на самого себя, стал бы проклинать?.. О Юрий Дмитрич! от одной мысли застывает кровь в моих жилах!.. Благодари господа, что ты не произнес еще обета, которого разрешить не в силах вся власть человеческая!
С безмолвным восторгом слушал Милославский утешительные слова своего наставника.
– Безумный! – вскричал он наконец. – И я смел роптать на промысел божий!.. Я могу назвать Анастасию моей супругою; могу, не отягчая преступлением моей совести, прижать ее к своему сердцу…
– Да, боярин! Пусть добродетельная супруга будет наградою за труды, понесенные тобою для отечества. Но где она теперь?..
– В Хотьковском монастыре, в котором игуменья родная ее тетка.
– В Хотьковском монастыре?.. Племянница игуменьи?.. Ах, Юрий Дмитрич! для чего ты молчал? Если б ты знал?.. Но пойдем, поклонимся гробу преподобного Стефана Пермского.
Юрий вошел в северный придел, а Палицын приостановился, чтоб взглянуть, какие должно было сделать поправки в главном иконостасе, с которого были содраны все серебряные украшения. Милославский подошел к гробнице святителя и тут только заметил, что он и прежде был не один в церкви. Какой-то нищий стоял перед гробницею; длинные и густые волосы, опускаясь в беспорядке с поникшего чела его, покрывали изможденное и бледное лицо, на коем ясно изображались все признаки потухающей жизни. Услышав близкий шум, он повернулся лицом к Милославскому, ласково протянул к нему иссохшую свою руку и произнес слабым голосом:









































