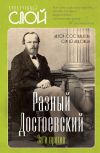Текст книги "О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот»"
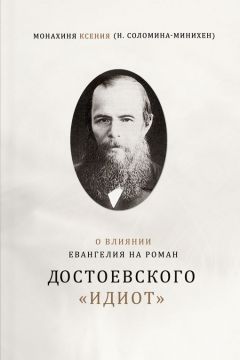
Автор книги: Монахиня Ксения (Соломина-Минихен)
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3. Смысл пушкинской баллады о «рыцаре бедном» в контексте романа
Синтезирование авторских идей, восходящих к Евангелию, а также других литературных ассоциаций, которые постепенно слились в новый сплав в образе Мышкина, отразилось в черновиках в такой последовательности: 12 марта «любовь христианская» утверждается как ядро личности князя; через несколько недель писатель решает наделить своего невинного героя некоторым комизмом – привлекательной чертой Дон-Кихота и Пиквика; тогда же (9-13 апреля) появляются заметки: «Князь Христос», а через четыре дня автор заполняет особый раздел подготовительных материалов записями, относящимися к пушкинской балладе «Жил на свете рыцарь бедный…». Через сопоставление образа, созданного Сервантесом, с героем этого стихотворения и выражена Аглаей идея о «серьезном Дон-Кихоте».
Достоевский в разное время наметил несколько вариантов сцены чтения баллады. В окончательном тексте она подготовлена с большой тщательностью. Уже в начале второй части читатель узнает, что письмо от князя Аглая заложила, не отдавая себе в том отчета, в «Дон-Кихота Ламанчского». И когда через неделю «случилось ей разглядеть, какая была это книга», девушка «ужасно расхохоталась – неизвестно чему». Лишь много позднее – из «лекции» Аглаи о «рыцаре бедном»
– становится ясной причина этого смеха: у нее именно тогда возникла мысль, что Мышкин (как и пушкинский герой) – «тот же Дон-Кихот» (8; 157, 207). Писатель собирался далее ввести и специальный эпизод, который по-иному, чем в окончательной редакции, прояснял бы чрезвычайную роль письма в жизни Аглаи:
«От князя 6 месяцев ни слуху ни духу.
Аглае письмо, через Колю, которое она не показала никому. При визите Князя на даче (и при женихе) Аглая вдруг ему вслух: “То письмо, которое вы мне прислали” (лицо строгое; “ваш образ встал передо мной”). Генеральша рассердилась» (9; 255–256).
Еще об одном варианте той же сцены интересно упомянуть потому, что в нем поводом для чтения стихов было второе письмо Мышкина к Аглае, где он говорил и о пушкинском герое, возможно, даже сравнивая себя с ним: Генеральша, читая его письмо, спрашивает: «Какой такой “Бедный рыцарь”? То-то она читает всё “Бедного рыцаря”. Аглая, не стыдясь, стала и прочла “Бедного рыцаря”» (9, 269).
Текст стихотворения приводится писателем по семитомному собранию сочинений А. С. Пушкина под редакцией Анненкова, которое имелось у Достоевского[58]58
Библиотека. С. 134.
[Закрыть]. В этой краткой редакции баллада была включена Пушкиным в «Сцены из рыцарских времен». Анненков же, думая, что она введена была туда редакцией «Современника», где «Сцены» были опубликованы в 1837 году, приводит текст баллады и отдельно[59]59
См.: Пушкин А. С. Сочинения. СПб., 1855. Т. III. С. 17. Т. V. С. 491.
[Закрыть]. Издание Анненкова Лебедев как большую редкость предлагает «за свою цену-с» Лизавете Прокофьевне, говоря, что его «теперь и найти нельзя» (8, 212).
Сцене чтения баллады предшествует интродукция, начинающаяся с возгласа Коли Иволгина: «Лучше “рыцаря бедного” ничего нет лучшего!» Возглас этот – повторение слов Аглаи:
– Я на собственном вашем восклицании основываюсь! – прокричал Коля. – Месяц назад вы «Дон-Кихота» перебирали и воскликнули эти слова… (8, 205).
Введение к сцене строится так, что генеральша Епанчина (а вместе с нею и читатель) начинает «очень хорошо понимать про себя», кто подразумевается под «рыцарем бедным». И только после того, как «шутка» заходит слишком далеко и в душе читателя многократно – при каждом новом упоминании о рыцаре – возникает образ Мышкина, начинается Аглаина «лекция». Из нее становится ясно, что в воображении девушки образы пушкинского героя и Дон-Кихота стоят рядом, во многом даже сливаются. Буквы А. М. D., начертанные на щите рыцаря, являются сокращением латинских слов «Ave Mater Dei» (Радуйся, Матерь Божия). Аглая определяет девиз как «темный, недоговоренный» и заменяет А. М. D. на А. Н. Б., что означает: «Ave, Настасья Барашкова», а потом на Н. Ф. Б. Достоевский специально останавливает внимание читателей на этой замене. Когда Коля Иволгин, не помнящий точно букв девиза и не понимающий его смысла, поправляет А. Н. Б. на А. Н. Д., девушка «с досадой» настаивает на своем: «А я говорю А. Н. Б., и так хочу говорить» (8; 206–207). В неосуществленном варианте эпизода, о котором теперь пойдет речь, Аглая заменяет буквы девиза, вполне понимая его значение.
17 апреля 1868 года Достоевский целый раздел черновых записей озаглавил «РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ». Заметки эти проливают свет на роль пушкинского стихотворения в романе. Я позволю себе привести здесь отрывок из данного раздела, поскольку это даст возможность разместить некоторые строки иначе и тем устранить небольшую неточность, допущенную мной в академическом издании.
Несколько предварительных замечаний. После заголовка: «РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ» – Достоевский отмечает: «Аглая о нем с Князем». Однако сразу после этих слов писателем приводится фрагмент разговора не между Мышкиным и Аглаей, а между Аглаей и одной из ее сестер. Судя по соседним записям, – с Аделаидой. Объяснение же с князем по поводу того, какой любовью («чистою» или нет) он любит Настасью Филипповну, должно было явиться следствием этого разговора сестер Епанчиных. Девушки рассуждают как раз о девизе рыцаря, начертанном на его щите, и Аделаида спрашивает сестру о том, кого же он избрал в дамы своего сердца. Аглая говорит ей, что это могла быть «какая-нибудь самоотверженная мученица». Затем ее разъяснение звучит так: «Может быть, даже… Они ведь читали
Библию». Под многоточием «скрывается» Богоматерь, так как «они», т. е. рыцари, действительно читали Библию, и так как далее Аглаей приводится строка, содержащая эмблему Богоматери, и девушка спрашивает: «Да и кто ж после того может быть: Lumen coeli, Sancta Rosa?»[60]60
Свет небес, Святая Роза (лат.).
[Закрыть] А Аделаида реагирует на ее слова недоверчивой репликой: «Ну уж ты завралась» (9, 263). Вспомним, кстати, что Федор Михайлович хорошо знал латынь. Потому-то угроза рыцаря и поражала «как гром» иноверцев мусульман, что он взывал к Богоматери. Достоевскому это, безусловно, было понятно, как и многим читателям. Они понимали, вероятно, и то, что опущенное постоянно забрало рыцаря – знак данного им Богоматери обета отрешения от мира. Еще на одну деталь такого рода обращает внимание своих слушателей в окончательном варианте эпизода сама Аглая. Она говорит, что «влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал на шею» и что чувство его дошло до «аскетизма» (8, 207). Четки – знак молитвенного поклонения. Пушкинский герой носит их вместо традиционного «шарфа красоты», который обычно был такого же цвета, какой преобладал в нарядах избранницы рыцаря[61]61
Сведения о «шарфе красоты» и о символике опущенного забрала рыцаря почерпнуты мною из статьи Р. В. Иезуитовой «Легенда». // Сб. Стихотворения Пушкина 1820-1830-х годов. История создания и идейнохудожественная проблематика. Л., 1974. В этой же статье сообщается о том, что факт публикации строфы пушкинской баллады в «Современнике» установлен Н. Ф. Сумцовым.
[Закрыть].
Далее мною приводится интересующий нас отрывок черновой записи Достоевского.
«РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ»
Аглая о нем с Князем.
– Может быть, какую-нибудь самоотверженную мученицу, которую можно любить чистою любовью обожания чистой красоты, обожания идеала. Может быть, даже… Они ведь читали Библию. Да и кто ж после того может быть:
Lumen coeli, Sancta Rosa?[62]62
У Пушкина в обеих редакциях неточность: Lumen coelum вместо: Lumen coeli. Пушкин. Т. III. С. 117; Т. V. С. 482.
[Закрыть]Полон чистою любовью,
Н. Ф. Б. своею кровью… – к кому могут относиться эти слова?..
– Ну уж ты завралась (ср.: 9, 263).
В свете вышеизложенного становится ясным, почему Достоевский включил в роман еще одну характеристику пушкинского произведения, которая предваряет декламацию Аглаи. На гневный вопрос генеральши: Растолкуют мне или нет этого “рыцаря бедного”?» – князь Щ. отвечает:
– Просто-запросто есть одно странное русское стихотворение <…>, отрывок без начала и конца (8, 206).
Для полного понимания этих слов нужно учесть, что ранняя редакция баллады, в которой на шесть строф больше, не была известна ни широкой публике, ни специалистам по Пушкину до 1884 года. Однако третья ее строфа, посвященная как раз видению рыцаря и потому раскрывающая смысл девиза, появилась в «Современнике». За всем, что публиковалось в этом журнале, Достоевский, вне всяких сомнений, следил с огромным вниманием! Пушкинская строфа была приведена в статье «Уважение к женщинам», напечатанной без подписи[63]63
С. 1866, кн. I, отд. I. С. 275–319; кн. III, отд. I. С. 92–129. П. В. Быковым установлено, что статья принадлежит М. Л. Михайлову. См.: 9, 403.
[Закрыть].
И тема статьи, и общая ее тенденция не могли не заинтересовать Достоевского. В этом «историческом иследовании» речь идет о положении женщины в Германии, но имеется в виду также ее положение в России. На обширном материале автор стремится показать, что во все времена женщина «везде» оставалась «рабски подчиненною», и призывает увидеть в ней полноправного человека[64]64
Там же, кн. III, отд. 1. С. 129.
[Закрыть]. Связанные с цитируемой пушкинской строфой рассуждения Михайлова, безусловно, должны были остановить на себе внимание писателя: «В культе Марии, который так развился в Средние века, хотят видеть тоже какую-то связь с идеальным “служением женщинам”. Это обыкновенно объясняется цветистыми фразами: “Ореол с головы Марии был как бы перенесен на голову каждой женщины” – и т. п. Рыцарь Пушкина был гораздо последовательнее. Как известно, он имел “непостижное уму” видение:
Путешествуя в Женеву,
Он увидел у креста
На пути Марию Деву,
Матерь Господа Христа».
Михайлов одобряет рыцаря за то, что после своего видения он не предался служению земной женщине, оставшись верен Марии. Правота рыцаря так обосновывается автором: «Если и были у рыцарства какие-то возвышенные идеалы, то их нечего было искать в жизни. Жизнь не могла удовлетворять заоблачных фантазий и претворяла их в очень земную практику»[65]65
Там же, кн. I, отд. l. С. 305.
[Закрыть].
Пушкинскую строфу, опубликованную в «Современнике», Достоевский – явно по памяти и для памяти – внес позднее в записную тетрадь 1880–1881 годов, в раздел «Слова, словечки и выраясения», начатый 17 августа 1880 года. Писатель приводит ее со значительными отклонениями и сам же вносит существенную поправку: «Видел он Святую Деву» – вместо «Встретил он Святую Деву». Но последняя, «ключевая», строка совершенно точна (27, 44).
В письме из России И. А. Битюгова рассказала мне об интересном выступлении Г. Л. Боград на одной из конференций в Музее Достоевского. Говоря о павловских реалиях «Идиота», Боград сообщила, что Михаил Михайлович Достоевский, брат писателя, жил на даче в «одном доме или на одной улице с сестрой Пушкина, О. С. Павлищевой», фамилия которой была дана опекуну князя Мышкина. По предположению выступавшей, Федор Михайлович мог узнать полный текст стихотворения от сестры Пушкина.
Статья из «Современника» навела Достоевского на мысль, что приведенная Михайловым строфа – не единственная не опубликованная. Впечатление незавершенности баллады, о котором говорит князь Щ., возникло у писателя прежде всего потому, что финал ее краткой редакции противоречит традиционному представлению о всегдашней «отзывчивости» Богоматери на усердные моления к Ней. Об этом представлении, очень широко бытующем в православной народной среде, Достоевский не только хорошо знал, но и разделял его с народом. В романе «Бесы», например, приводится эпизод заступничества Богоматери за грешника сразу после искренней покаянной молитвы (10, 428). В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский упоминает о том, что русский народ называет Богоматерь, «кроткую молельщицу за людей», «скорой заступницей и помощницей» (22, 93). Федору Михайловичу должно было показаться странным, что высокое чувство рыцаря, поглотившее всю его душу и жизнь, не нашло разрешения, не получило никакого отклика. Это впечатление о фрагментарности стихотворения – «отрывок без начала и конца» – Достоевский и передал читателю. В пространной редакции баллады Пречистая в час смерти рыцаря избавляет его своим сердечным заступлением от подоспевшего лукавого беса и впускает «в царство вечно паладина своего»[66]66
Пушкин. Т. III. С. 118.
[Закрыть].
Хотя статья «Современника» припоминалась писателю в пору создания романа, мнения Михайлова о рыцарстве и о герое баллады не могли быть близки Достоевскому: смысл слов Аглаи им вполне противоположен. Судя по ее монологу, Достоевский не склонен был сомневаться ни в существовании «огромного понятия средневековой рыцарской платонической любви», ни в том, что и в его время жизнь могла питать идеалы, близкие рыцарским. И если Михайлов не допускает даже мысли о том, что ореолом Богоматери рыцари могли осенять головы своих дам, то смысл пушкинской баллады в контексте романа как раз в том и состоит, что князь Мышкин, «рыцарь бедный» XIX столетия, отдает себя служению Настасье Филипповне, как герой баллады – Деве Марии. Сцена чтения пушкинского стихотворения поэтизирует и возвышает оба образа: и Настасьи Филипповны, и князя.
С той же целью Достоевский вводит в «лекцию» Аглаи еще один пушкинский мотив, к которому девушка настойчиво возвращается: «Там, – говорит она, – в стихах этих, не сказано, в чем, собственно, состоял идеал “рыцаря бедного”, но видно, что это был какой-то светлый образ, “образ чистой красоты”» (8, 207). Слова «образ чистой красоты» и первое из следующих упоминаний о «чистой красоте» дамы рыцаря поставлены Достоевским в кавычки. Скорее всего, писатель цитирует (и в первом случае намеренно неточно) слова из пушкинского стихотворения «К***» (1825). Они вызывают в памяти:
Достоевский, мне думается, сознательно заменяет «гений» на «образ» (икона), тем усиливая еще более мотив молитвенного поклонения. Так, рядом с «непостижным» уму видением рыцаря перед читателем возникает еще одно.
Следует отметить, что лишь первое из упоминаний «образа чистой красоты» можно считать поясняющим столь важный в концепции романа пушкинский смысл баллады. Далее Аглая произносит слова, не имеющие никакого отношения к пушкинскому герою. Они относятся уже только к Рыцарю Печального Образа и к предмету его высокой любви, Альдонсе Дульсинее. Из черновиков к роману ясно, что образы, созданные Сервантесом и Пушкиным, неразрывно соединились в сознании Достоевского (как и в воображении его героини) на довольно раннем этапе работы. И до самого ее завершения происходило своеобразное синтезирование некоторых их черт в характере нового героя, «Князя Христа». Поэтому после сцены чтения баллады Достоевский ввел в текст еще несколько упоминаний о «рыцаре бедном» с целью сохранить в памяти читателя весь комплекс идей и ассоциаций, способствовавших становлению образа Мышкина (8; 274, 283 и др.).
Продолжая свое маленькое литературно-критическое исследование, которое Лизавета Прокофьевна недаром называет «лекцией», Аглая утверждает, что «этому “бедному рыцарю” уже всё равно стало: кто бы ни была и что бы ни сделала его дама». Разумеется, в каждом ее слове содержится намек на отношения князя и Настасьи Филипповны: «Довольно того, что он ее выбрал и поверил ее “чистой красоте”, а затем уже преклонился пред нею навеки; в том-то и заслуга, что если б она потом хоть воровкой была, то он все-таки должен был ей верить и за ее чистую красоту копья ломать» (8, 207). Интересно, что этой дон-кихотской слепой, несомневающейся верой Мышкин действительно наделен, и она ярко сказывается именно в отношении к Аглае, постоянно ревнующей князя к Настасье Филипповне. Князь склонен ничем не смущаться и «продолжать блаженствовать»: «О, конечно, и он замечал иногда что-то как бы мрачное и нетерпеливое во взглядах Аглаи; но он более верил чему-то другому, и мрак исчезал сам собой. Раз уверовав, он уже не мог поколебаться ничем» (8, 431).
Мною упоминалось, что, осложняя балладу Пушкина новыми идеями, привнося в нее дополнительный смысл, Достоевский «воспользовался» неведением своих героев. Аглая тоже, хотя и в меньшей степени, чем Лизавета Прокофьевна, недопонимает стихотворение, не знает истинного значения рыцарского девиза. Полное раскрытие в тексте романа смысла пушкинского произведения могло, на мой взгляд, повлечь за собой затруднения со стороны духовной цензуры, и поэтому Достоевский решил его несколько завуалировать. Но, указав словами князя Щ. на фрагментарность, «странность» баллады, он тем самым дал понять читателю, что высоко религиозное ее содержание в основных чертах ясно ему. Разумеется, ознакомление с третьей строфой пространной редакции подсказало писателю мысль о том, что, скорее всего, это – не единственная неопубликованная строфа, посвященная Богоматери, и что, вероятно, существует иная редакция стихотворения. Однако мне хочется подчеркнуть, что у Достоевского не было нужды в том, чтобы знать эту строфу. Общий смысл стихотворения и без нее был писателю совершенно понятен. Именно поэтому он и ввел его в роман.
4. Об авторском осмыслении фактов из газетной хроники, отразившихся в эпизоде «современных позитивистов»
Ипполит появляется перед читателем как один из членов компании Бурдовского, который считает себя сыном Павлищева, покойного благодетеля Мышкина. И Бурдовский, и его друзья убеждены, что имеют право потребовать от князя большую сумму денег, якобы истраченную на него Павлищевым, так как хотят обеспечить его «сына». 4 (22) июля 1868 года Достоевский сообщил А. Н. Майкову, говоря об этих страницах романа, что он «попробовал эпизод современных позитивистов из самой крайней молодежи». Хотя и уверенный в своей правоте, Федор Михайлович предвидел, что эти страницы будут встречены публикой неблагосклонно: «Знаю, что написал верно (ибо писал с опыта; никто более меня этих опытов не имел и не наблюдал), и знаю, что все обругают, скажут: нелепо, наивно и глупо, и неверно» (282, 305).
В центре эпизода – чтение написанного Келлером газетного фельетона, «обличающего» Мышкина. Как уже отмечалось мною в академическом комментарии, эти главы второй части «Идиота» (VII–X) действительно отразили «опыт» Достоевского, публициста и полемиста. Так, первая часть фельетона является пародией на статьи, помещавшиеся в отделе «Искры» «Нам пишут»; во второй есть иронические намеки на теорию «разумного эгоизма» в интерпретации Чернышевского и других шестидесятников. Попутно пародируется эпиграмма на Достоевского Салтыкова-Щедрина[68]68
См. подробнее: 9; 392–393, 443–445.
[Закрыть]. Основной пафос полемики направлен Достоевским против материализма, атеизма и тех последствий нигилизма, которые в черновиках к роману «Подросток» Версилов назовет «нигилятиной». Развивая намеченную уже в «Идиоте» мысль, что последствием нигилизма явились «деловые» представители «нигилятины», он так объясняет Подростку значение этого слова: «Тут или глупость, или мошенничество, или радость праву на бесчестье, но вовсе не нигилизм» (16, 77). Перед появлением компании Бурдовского Лебедев тоже дважды
повторяет, что эти люди ушли «дальше нигилистов», так как считают, что «если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон-с» (8; 213–214). Так, устами Лебедева, а затем генеральши Епанчиной и Евгения Павловича Радомского автор сопоставляет компанию Бурдовского с героями нашумевших в шестидесятые годы уголовных процессов: А. Даниловым, убившим двух человек, и В. Горским, убившим шестерых. Это сопоставление продиктовано убеждением, сложившимся еще в пору работы над «Преступлением и наказанием», что атеизм и материалистические теории, из него вытекающие, легко могут быть использованы в своем вульгаризированном, «уличном» варианте для оправдания преступлений. Они ведут к «шатанию» мысли, к разрушению не только традиционных, но и вообще всяких положительных нравственных устоев.
О деле Витольда Горского Достоевский прочел в номере 70 «Голоса» от 10 марта 1868 года, в период работы над второй частью романа. В газете сообщалось о том, что в доме купца Жемарина убито шесть человек: жена купца, его мать, одиннадцатилетний сын, родственница, дворник и кухарка. В «Голосе» освещались и раскрытые следствием подробности преступления. Убийцей оказался восемнадцатилетний дворянин, гимназист, дававший уроки сыну Жемариных. По отзывам учителей и товарищей, это был умный юноша, любивший чтение и литературные занятия. Католик по вероисповеданию (он был поляком), Горский на суде признал себя неверующим. Он казался Достоевскому характерным представителем той части молодежи, на которую нигилистические теории шестидесятых годов имели пагубное влияние. В романе «Идиот» тенденция к убийству проявится ярко у восемнадцатилетнего Ипполита; он же совершает и попытку самоубийства.
Сообщения о преступлении дворянина А. М. Данилова, девятнадцатилетнего студента Московского университета, появились в газетах в середине января 1866 года, когда печатались начальные главы «Преступления и наказания»; газеты продолжали возвращаться к этому делу до середины 1868 года. Данилов обвинялся в убийстве и ограблении ростовщика Попова и его служанки Нордман. Он был признан виновным и в феврале 1867 года приговорен к девяти годам каторжных работ. За процессом Данилова писатель следил с неослабевающим интересом, усматривая в его личности нечто родственное Раскольникову. В конце ноября 1867 года (Достоевский уже обдумывал в то время новый вариант романа «Идиот») стали известны дополнительные обстоятельства преступления, особенно поразившие Федора Михайловича: осужденный совершил убийство после разговора с отцом. Сообщив ему о своем намерении жениться, Данилов получил совет «не пренебрегать никакими средствами и для своего счастья непременно достать деньги, хотя бы путем преступления»[69]69
Об отражении в романе дел Горского и Данилова см. подробнее: Дороватовская-Любимова. С. 44–48.
[Закрыть].
Живя за границей, Достоевский часто жаловался своим корреспондентам на то, как трудно ему работать вне России, и высказывал опасения, что утрачивает связь с Родиной. «Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься», – признавался он А. Н. Майкову в августе 1867 года (282, 204). Поэтому письма своих друзей и русские газеты Федор Михайлович читал с особенным вниманием: «В каждом нумере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных, – писал он из Флоренции по окончании «Идиота». – Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими <…>. Кто ж будет отмечать факты и углубляться в них?»[70]70
Письмо к Н. Н. Страхову от 26 февраля (10 марта) 1869 г. – 291, 19.
[Закрыть]
Газетный материал, разъясненный, углубленный, а иногда и значительно трансформированный Достоевским, стал тем живым, реальным фоном, на котором нередко развертываются события романа. Как установила В. С. Дороватовская-Любимова, факты, перенесенные в «Идиота» из прессы (чаще всего из уголовной хроники), всегда точно приурочивались к тому времени, когда они обсуждались в печати. Это «сообщало характер правдоподобия, давало иллюзию действительного события роману Достоевского, что, вероятно, особенно ощущалось современниками». По справедливому мнению исследовательницы, на всем протяжении романа между Мышкиным и героями газетных хроник происходит «нравственная борьба, ведется долгий спор, который, несмотря на гибель героя, кончается его нравственной победой»[71]71
Дороватовская-Любимова. С. 51.
[Закрыть].
Ознакомившись с процессом Горского, Достоевский сразу делает его предметом размышлений своих действующих лиц, приходящих в результате к весьма радикальным заключениям. Так, Лебедев представляет князю своего племянника-атеиста как «будущего второго убийцу будущего второго семейства Жемариных, если таковое окажется» (8, 161). Этот персонаж, Докторенко, выступающий в компании Бурдовского сторонником теории «здравого смысла», очерчен с особой антипатией. Даже Мышкин испытывает к нему неприязнь уже при первом знакомстве, а позднее не только соглашается с мнением о нем Лебедева, но и с не свойственной ему резкостью мысленно называет Докторенко «гадким и вседовольным прыщиком» (8, 190). По мнению князя и внутренне близкой ему Лизаветы Прокофьевны, люди, подобные Горскому и Докторенко, – живое свидетельство нравственного «хаоса», сумбура и «безобразия», охвативших значительную часть русского общества (8, 237). В подтверждение этого генеральша Епанчина ссылается на выступление защитника Горского, логике которого следует в романе племянник Лебедева. Смысл выступления защитника с легкой иронией, но по сути довольно точно передает Евгений Павлович Радомский. Он чутко уловил, какому образцу подражает вступившийся за Бурдовского Докторенко, говоря, что тот совершенно прав, возвращая князю только сто рублей, а не все двести пятьдесят, ему присланные, потому что при затруднительных финансовых обстоятельствах «кто бы на его месте поступил иначе?».
– Это напоминает, – засмеялся Евгений Павлович, долго стоявший и наблюдавший, – недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом шесть человек, чтоб ограбить их, вдруг заключил в этом роде: «Естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить это убийство шести человек, да и кому же на его месте не пришло бы это в голову?» (8, 236)[72]72
Ср. с подлинным текстом речи – 9, 444.
[Закрыть]. В начале третьей части Радомский опять упоминает о «кривом взгляде» на вещи этого защитника. Достоевский, таким образом, возвращает внимание читателей к делу Горского. Смысл этого возвращения не только в том, чтобы еще раз подчеркнуть одинаковость искажения идей и нравственных понятий у этого преступника и у компании Бурдовского. Проводимая Евгением Павловичем аналогия – одно из доказательств того, что это явление достигло чрезвычайных размеров. Выступая противником теории среды, Мышкин в разговоре с Радомским выражает одно из устойчивых авторских мнений послекаторжного периода. Он ссылается на личный опыт посещения острогов и делится своими наблюдениями над тем, что «самый закоренелый и нераскаянный убийца все-таки знает, что он преступник, то есть по совести считает, что он нехорошо поступил, хоть и безо всякого раскаяния». Представители же нового поколения молодежи, совершая «невозможные» преступления, «не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели и… даже хорошо поступили, то есть почти ведь так» (8, 280).
Позднее о «шатости нравственных оснований» общества будет в несколько шутовской манере пространно и экспрессивно высказываться Лебедев. Основной смысл его суждений сводится к тому, что с распространением атеизма и антихристова духа в человечестве не стало единой «связующей мысли», «направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни» (8; 312, 315). Истинность этих идей, вполне разделяемых самим Достоевским, ярко иллюстрируется не только исповедью, но и всей короткой жизнью Ипполита, завершающейся на страницах романа.
18 (30) мая 1868 года Достоевский писал А. Н. Майкову, извиняясь за своего пасынка П. А. Исаева, в котором, несомненно, находил много общего с «современными позитивистами»: «Какое направление, какие взгляды, какие понятия, какое фанфаронство! Это типично. <…> Ведь еще немного и из этаких понятий выйдет Горский или Раскольников. Ведь они все сумасшедшие и дураки. Что с ним будет, не знаю, – только Богу молюсь за него» (282, 298).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?