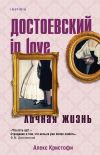Читать книгу "О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот»"
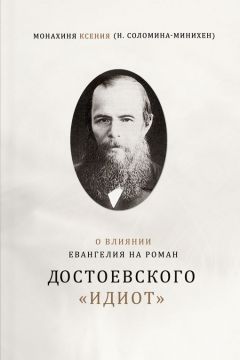
Автор книги: Монахиня Ксения (Соломина-Минихен)
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Непобедимой гордостью героини вызван ее душевный надлом – эта мысль определила развитие образа. Все намечавшиеся Достоевским варианты спасения и «восстановления» оказываются обреченными на неудачу, принося лишь временное просветление. Например, в конце марта 1868 года в связи с идеей детского клуба планируется: «Чрезвычайное участие детей в отношениях Князя, Н<астасьи> Ф<илипповны> и Аглаи». 9 апреля упоминается о ее «золотых снах» и о том, что под влиянием детского клуба она доходит до «золотой надежды», но потом все-таки бежит с Рогожиным (9; 240, 244–245). В окончательном же тексте даже и моменты просветления почти не отражены. Князь однажды упоминает о них Аглае, и из его слов ясно, что «мрак» всегда пересиливал в душе Настасьи Филипповны: «Иногда я доводил ее до того, что она как бы опять видела кругом себя свет; но тотчас же опять возмущалась и до того доходила, что меня же с горечью обвиняла за то, что я высоко себя над нею ставлю (когда у меня и в мыслях этого не было), и прямо объявила мне наконец на предложение брака, что она ни от кого не требует ни высокомерного сострадания, ни помощи, ни “возвеличения до себя”» (8; 361–362).
Состояние героини довольно близко к окончательному тексту обрисовано в черновиках уже 12 марта в разговоре Гани и Аглаи, не вошедшем в роман. В этой записи много говорится о раскаянии Настасьи Филипповны, за которое Аглая должна была упрекнуть ее в «сцене соперниц». Короткий набросок сцены был сделан тремя днями раньше: «Аглая посещает Н<астасью> Ф<илипповну>. Говорит, что это подло играть роль Магдалины. Что похожее на японский кинжал сгнить в борделе, но неведомо и неслышно» (9, 217).
Упоминание о японском кинжале отсылает нас к самому концу XVI главы первой части и заставляет думать, что (по этому плану) Аглае стал известен разговор между Птицыным и Тоцким, заключающий последнюю из опубликованных к тому времени шестнадцати глав. Случилось это, вероятно, благодаря интригам Гани, о которых говорят предыдущие заметки. Птицын, как мы знаем из окончательного текста, понимает, что бегство с Рогожиным сулит Настасье Филипповне гибель. Он признается Тоцкому, раскрывая для читателя мотивы ее поступка, что это бегство напоминает харакири у японцев: «…обиженный там будто бы идет к обидчику и говорит ему: “Ты меня обидел, за это я пришел распороть в твоих глазах свой живот”, и с этими словами действительно распарывает в глазах обидчика свой живот и чувствует, должно быть, чрезвычайное удовлетворение, точно и в самом деле отмстил» (8,148). И Тоцкий соглашается с «прекрасным сравнением» своего собеседника, утверждая читателя во мнении, что Настасья Филипповна пытается «на японский лад» отомстить саморазрушением за свою сломанную жизнь.
Сравнение героини романа с Магдалиной уже таит в себе некоторое сближение Мышкина с Христом. Оно же говорит о стремлении Настасьи Филипповны к покаянию и о ее глубоком душевном надломе: Мария Магдалина до встречи с Христом вела, по преданию, грешную жизнь. Душа ее была одержима бесами. Для всего христианского мира она стала символом кающейся грешницы. Как рассказывают нам евангелисты, душа ее была исцелена, воскрешена Иисусом. В Евангелии от Луки об этом повествуется более выразительно, чем в Евангелии от Марка. Мы узнаем, что, когда Христос ходил по городам и селениям, благовествуя Царствие Божие, за Ним следовали не только апостолы, но и женщины, служившие Ему «имением своим». Они получили исцеление «от злых духов и болезней». Первой Лука называет Марию Магдалину, из «которой вышли семь бесов». Об изгнании из нее семи бесов Иисусом Христом сообщает и Марк[50]50
Лк 8: 1–3; Мк 16: 9.
[Закрыть]. В христианской символике «семь» – число «полноты», в данном случае говорящее о полноте одержимости Магдалины до ее исцеления. Всеми евангелистами Мария Магдалина упоминается первой среди женщин, пришедших с Христом в Иерусалим и не покинувших Его в часы крестной казни. Она, вместе с «другою Марией», сидит против Его гробницы в пятницу, а по прошествии субботы возвращается, как и другие жены-мироносицы, с благовониями к этой гробнице, чтобы помазать тело Христа. Согласно Евангелиям от Марка и Иоанна, ей первой явился Христос по Своем Воскресении. Св. Иоанн свидетельствует также, что во время распятия Мария Магдалина стояла не «поодаль», а у самого подножия креста, – вместе с Богородицею и ее сестрой Марией Клеоповой[51]51
О Марии Магдалине см.: Мф 27: 55–61; 28: 1-10; Мк 15: 40–47; 16: 1-10; Лк 23: 55–56; 24: 1-12; Ин 19: 25; 20: 1-18. О восприятии образа Марии Магдалины в христианском мире см.: St. Mary Magdalene: The Biblical Model of Repentance // Benedicta Ward S.L.G. Harlots of the Desert. A Study of Repentance in Early Monastic Sources: Kalamazoo, Michigan, 1987 P. 10–25.
[Закрыть]. Об этой группе людей, оставшихся до конца верными Христу, упоминается в «Необходимом объяснении» Ипполита Терентьева.
Много лет назад А. С. Долинин не без оснований предположил, что образ Марии Магдалины возникал в воображении писателя и при работе над новеллой о Мари[52]52
Д. Письма. T. I. C. 14.
[Закрыть]. Действительно, о Магдалине напоминает в ней имя согрешившей женщины, глубина покаяния Мари и открывшаяся перед нею возможность внутреннего возрождения. Если бы мы располагали черновыми записями к новелле, наблюдение ученого было бы, вероятно, ими подтверждено.
Раскаяние Настасьи Филипповны, которую князь пытается исцелить, в еще большей степени сближало бы ее с Магдалиной, если бы в нем преобладали не тоска, исступление, отчаяние, а вера в прощение. Но простить Настасья Филипповна из-за гордости не способна, а потому не может и принять прощение от других. Наиболее ярко описан один из ее покаянных моментов, когда речь идет о последних часах перед свадьбой с князем. Мышкин «застал невесту запертою в спальне, в слезах, в отчаянии, в истерике»; она долго ничего не слыхала, что говорили ей сквозь запертую дверь, наконец отворила, впустила одного князя, заперла за ним дверь и пала пред ним на колени. <…>
– Что я делаю! Что я делаю! Что я с тобой-то делаю! – восклицала она, судорожно обнимая его ноги» (8, 491).
Выделенные мною слова невольно заставляют вспомнить, что в Евангелии от Матфея Мария Магдалина вместе с другими мироносицами обнимает ноги Христа по Его Воскресении[53]53
Мф 28: 1, 9-10.
[Закрыть].
После «сцены соперниц» Настасья Филипповна вновь становится невестой князя и в романе упоминается в последний раз о надежде Мышкина на возрождение ее души. Говоря о беспокойстве князя, вызванном ее «душевным и умственным состоянием», автор замечает: «Но он искренно верил, что она может еще воскреснуть» (8, 489). Сама же идея великой, вечной ценности человеческой души, а потому и необходимости ее исцеления, как все основные идеи, исходящие от главного героя, имеет своим источником Новый Завет: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?»[54]54
Мф 16: 26.
[Закрыть] 24 мая в черновиках к «Идиоту» появилась запись, характеризующая основное убеждение Мышкина и чрезвычайно близкая по духу приведенным словам Евангелия: «NBl). Полная история реабилитации Н<астасьи> Ф<илипповны>, которая невеста Князя. (Князь объявляет, когда женится на Н<ас-тасье> Ф<илипповне>, что лучше одну воскресить, чем подвиги Александра Македонского.)» – 9, 268.
Уже в начале 1860-х годов автор «Идиота» придавал огромное значение идее «восстановления погибшего человека». В предисловии к «Собору Парижской Богоматери», опубликованному в русском переводе во «Времени» братьев Достоевских, писатель с полным основанием назвал эту идею «христианской и высоконравственной» (20; 28). Вспомним слова Христа о Своей миссии: «…Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»[55]55
Мф 18: 11; Лк 19: 10.
[Закрыть]. Достоевский видел следы этой идеи во всех европейских литературах и считал Виктора Гюго одним из первых и самых ярких ее провозвестников. Как уже отметил Г. М. Фридлендер в академическом комментарии, под безусловным влиянием французского писателя та же идея, начиная с «Преступления и наказания», вошла в творчество Достоевского (9, 407; 20; 277–278). По мнению автора романа «Идиот», идея «восстановления» была новым словом в искусстве XIX века, и он восхищался тем, что Гюго удалось ее заявить с «такой художественной силой» (20, 29). В период создания романа аналогичная задача стояла перед ним самим. Стремясь разрешить ее успешно, Достоевский старался возвысить и – на определенной стадии работы – опоэтизировать как самую идею, так и образ ее носителя, Мышкина. Одним из главных средств поэтизации стало введение в текст «Идиота» пушкинской баллады о «рыцаре бедном» («Легенда», 1829; краткая редакция – 1835). Я подробно рассматриваю в дальнейшем вопрос о роли этого стихотворения в произведении Достоевского. Здесь же небезынтересно заметить, что у писателя была мысль о прямом декларировании идеи, определяющей характер деятельности главного героя. Автор собирался «воспользоваться» неведением генеральши Епанчиной, не читавшей прежде баллады Пушкина и не понимающей подлинного ее смысла. Это давало ей право на собственную интерпретацию. Прослушав стихотворение, восхищенная и растроганная Лизавета Прокофьевна должна была раскрыть не смысл пушкинского образа, а идею, вдохновлявшую Мышкина, – «рыцаря бедного» и «серьезного Дон-Кихота» XIX столетия: «Да, он был “полон чистою любовью”, он был “верен сладостной мечте” – восстановить и воскресить человека!» (9, 264).
Глава вторая
1. «Черная женщина ходит. Героиня из романа Греча»
В сентябре 1868 года Достоевский окончательно определил для себя ведущие черты основных действующих лиц. О Настасье Филипповне он записал в черновиках: «беспорядок и красота». Затем в скобках, которые, кстати сказать, в подготовительных материалах очень часто используются им для выделения фиксируемой мысли, добавил: «(жертва судьбы)» (9, 280). В том же месяце была закончена третья часть романа. В ней Настасья Филипповна, как уже было отмечено И. А. Битюговой, «предстает перед Мышкиным в ореоле страдания и обреченности в двух его снах (на зеленой скамейке и дома, после чтения ее писем), а затем и наяву, по его возвращении от Епанчиных, когда видение его сливается воедино с действительностью» (9, 381).
Видения и сны занимают в романе заметное место, отражая воздействие на Достоевского поэтики романтизма. Функции их многообразны, и они особенно тесно связаны с образами Мышкина и Настасьи Филипповны, усиливая их яркость, раскрывая глубины души этих героев, а в отношении к Мышкину говоря и о его прозорливости. В академическом комментарии к роману отмечены многочисленные переклички в тексте «Идиота» с русскими и западными романтическими произведениями: «Черной женщиной» Н. И. Греча (1834), повестью В. Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829) и его «Отверженными» (1862), пушкинской «Легендой» (1829, 1835). Среди произведений, мотивы которых нашли отражение в романе, «Шильонский узник» Байрона в переводе Жуковского (1816, 1822), «Дума» Лермонтова (1838), стихотворение Гейне «Генрих» (1822–1843) и другие[56]56
См. подробнее: 9, 432 и следующие.
[Закрыть].
Запись о произведении Греча появилась в подготовительных материалах 17 апреля: «Черная женщина ходит. Героиня из романа Греча» (9, 265). Достоевский упомянул здесь, а затем в своеобразной интерпретации перенес в окончательный текст «Идиота» лейтмотив романа. Герою его, князю Кемскому, всю жизнь сопутствует видение. В детстве он стал свидетелем того, как во время эпидемии чумы женщина, одетая в черное, с распущенными черными волосами, кинулась с балкона в чумную повозку на труп своего жениха. С тех пор в ответственные минуты жизни (во сне или наяву) видение этой женщины появлялось перед ним, и по выражению ее лица Кемский угадывал, что предстоит ему вскоре: успех или неудача, счастье или беда. В Кемском есть черты, родственные Мышкину. Потомок старинного рода, идеалист и мечтатель, он добр, кроток, чист душой, деликатен и благороден. Один из персонажей называет Кемского «князем из людей, человеком из князей»[57]57
Греч Н. Черная женщина. Часть III. СПб., 1834. С. 186.
[Закрыть]. Окружающие часто смеются над ним или жестоко его обманывают.
С апрельской записью о черной женщине перекликаются ноябрьские, относящиеся к пребыванию Мышкина в квартире Рогожина после убийства Настасьи Филипповны: «Рогожин вдруг говорит: “Стой, идет кто-то?” – Прислушиваются. – Идет!.. – Отворил дверь. – Иль нет?.. Ходит”.
– Ходит.
– Я притворю дверь.
? NB. В зале привидение» (9; 286–287).
Сравните с финальной сценой «Идиота», включающей близкий к этим наброскам разговор Рогожина (у него, очевидно, уже началось «воспаление в мозгу») с Мышкиным, на которого неотвратимо надвигается сумасшествие (8; 506–507).
Отзвуки «Черной женщины» явственны не только в финале романа. Перед свиданием с Аглаей на зеленой скамейке Мышкин видит много тревожных снов; в одном из них к нему приходит Настасья Филипповна, выражение лица которой говорит о раскаянии и предвещает беду: «Наконец пришла к нему женщина; он знал ее, знал до страдания; он всегда мог назвать ее и указать, – но странно, – у ней было теперь как будто совсем не такое лицо, какое он всегда знал, и ему мучительно не хотелось признать ее за ту женщину. В этом лице было столько раскаяния и ужасу, что казалось – это была страшная преступница и только что сделала ужасное преступление. Слеза дрожала на ее бледной щеке; она поманила его рукой и приложила палец к губам, как бы предупреждая его идти за ней тише. Сердце его замерло; он ни за что, ни за что не хотел признать ее за преступницу; но он чувствовал, что тотчас же произойдет что-то ужасное, на всю его жизнь. Ей, кажется, хотелось ему что-то показать, тут же недалеко, в парке. Он встал, чтобы пойти за нею…» (8, 352).
Эпизод построен по тому же принципу, что и в романе Греча. По выражению лица пришедшей к нему женщины Мышкин, как и князь Кемский, узнает о предстоящем несчастье. Достоевский имеет в виду гибель Настасьи Филипповны под ножом Рогожина и потерю князем любимой им Аглаи. При этом сон так реален, что читатель вместе с Мышкиным почти готов принять его за действительность. Сон повторяется в день прочтения князем писем Настасьи Филипповны к Аглае, чтобы потом до буквальности воплотиться при встрече с Настасьей Филипповной, когда князь возвращался к себе от Епанчиных: «Он пошел по дороге, огибающей парк, к своей даче. Сердце его стучало, мысли путались, и всё кругом него как бы походило на сон. И вдруг, так же как и давеча, когда он оба раза проснулся на одном и том же видении, то же видение опять предстало ему. Та же женщина вышла из парка и стала пред ним, точно ждала его тут. <…> “Нет, это не видение!” <…>
Она опустилась пред ним на колена, тут же на улице, как исступленная; он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы целовать ее, и точно так же, как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах» (8; 381–382).
Как видно из этого отрывка, кроме влияния романа Греча в нем отразились и вновь возникшие в воображении Достоевского ассоциации между героиней «Идиота» и Марией Магдалиной. Настасья Филипповна стремится на коленях поцеловать руку князя – знак поклонения и покаяния. Она долго не встает с колен и не в силах закончить начатой фразы о том, что не будет больше писать Аглае. Она уверена, что навсегда прощается с Мышкиным, потому что, исполняя его волю, должна уехать на следующий день, как он «приказал». Это еще усиливает атмосферу безысходного страдания и отчаяния, характерную для данной сцены. Прием отождествления сна и реальности, видений и действительности – один из главных в «Черной женщине». В произведении Достоевского сны князя, о которых говорилось выше, как и его вещий сон перед вечером в салоне Епанчиных, подтверждают истинность его предвидений и предчувствий. Способность к прозрениям должна была, по замыслу Достоевского, ярко проявляться в личности его «серьезного Дон-Кихота» и «Князя Христа».
Романом Греча навеяна, быть может, запись о Мышкине, сделанная в ноябре, когда планировались страницы, посвященные поискам Настасьи Филипповны и последней встрече с Рогожиным: «Ходил по Петербургу, видения» (9, 285). Она не получила реализации в окончательном тексте, но говорит о том, что Достоевский намечал развитие и в финальных главах «Идиота» этого возвращающегося мотива: вспомним эпизод чтения Аглаей баллады о видении пушкинского «рыцаря бедного», а затем сцену в Павловском вокзале, где перед Мышкиным предстает «видение» Рогожина, и вслед за ним – «чрезвычайное видение» Настасьи Филипповны (8; 205–212; 287–290).
2. Развитие в романе идеи «серьезного Дон-Кихота»
Героя романа Сервантеса Достоевский считал наиболее законченным из прекрасных лиц христианской литературы. 1/13 января 1868 года он писал об этом своей племяннице С. А. Ивановой, почти так же как в черновой записи, говоря о Дон-Кихоте и Пиквике, но более подробно поясняя причину успеха этих образов: «Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному – а, стало быть, является симпатия и в читателе». На этой стадии работы были закончены и отправлены в «Русский Вестник» первые пять глав «Идиота». Писатель с волнением отмечал в том же письме: «У меня ничего нет подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача» (282, 251).
Двумя месяцами позже образ Мышкина был еще почти свободен от «комического». В шестнадцати главах первой части есть только один относительно комический момент: после рассказа Мышкина об осле на городском рынке в Базеле девицы Епанчины смеются над ним, говоря ему в лицо, что видели и слышали «осла». Он же, смягчая осмеяние, простосердечно смеется вместе со всеми. И позднее только однажды отмечается (Александрой Епанчиной), что он так простоват, что «даже и смешон немножко» (8; 48–49, 66). Однако во избежание страшившей писателя неудачи он в начале работы над второй частью стал склоняться к мысли о том, чтобы соединить в герое оба качества, способные пробуждать симпатию в читателе: невинность и комизм. Но Достоевский постоянно заботится о том, чтобы не ставить Мышкина в слишком обыденные, грубо-комические положения и не унизить его осмеянием, как это нередко имеет место с Дон-Кихотом. В записи от 8 апреля о князе, женихе Настасьи Филипповны, сказано: «Смешон. Как он отклоняет смех». Тут же автор ставит перед собою вопрос – не стоит ли усилить комическое в герое и расширить сферу его проявления: «? Несколько ошибок и комических черт Князя» (9, 242). Затем в первой половине июня появилась заметка о Вельмончеке (будущем Евгении Павловиче Радомском): «Вельмончек постоянно смеется над Князем и потешается им. Скептик и неверующий. Ему всё в Князе искренно смешно, до самого последнего мгновения» (9, 274).
Этим наброскам соответствуют в романе многие места I и н глав третьей части. В сентябре писатель запланировал еще один комический эпизод: «Отказ Князю Аглаи, которой он уже делает предложение. Смешно» (9, 279). Эта заметка соотносится с двумя фрагментами романа: эпизодом невольного отказа Мышкина Аглае (он построен обратно первоначальному замыслу) и сценой «вынужденного сватовства князя» (8; 283–285; 425–429). В последней Аглая в конце концов раскаивается, что обратила в насмешку «прекрасное… доброе простодушие» Мышкина, и просит простить ей эту шалость, далеко не единственную по отношению к князю.
По замыслу писателя симпатия к Мышкину должна возрастать оттого, что он принимает насмешливое отношение к себе как нечто совершенно естественное. Пробуждение сострадания к «осмеянному и не знающему себе цены прекрасному» стало и для Достоевского одним из средств воздействия на сердца читателей. При этом почти во всех случаях осмеяния героя острейшее сочувствие к нему испытывают, тем усиливая его и в читателе, действующие лица романа (чаще всего – Епанчины). Их экспрессивные высказывания способствуют раскрытию облика князя и оберегают образ от снижения. Эта особенность (не характерная для романа Сервантеса) проявляется и в эпизодах, исполненных мягкого комизма, и в остро драматических. Так, спровоцированная Аглаей сцена «сватовства» вызывает недовольство всей семьи и затем – искреннее раскаяние девушки. Долгое глумление над князем компании Бурдовского завершается бурной защитительной речью Лизаветы Прокофьевны. А когда генеральша, в обиде за князя, его же и бранит за «дурачества», – прорывается накопившееся возмущение Аглаи «этими мерзкими людьми», сочувствие к нему Аделаиды (8, 250). Не только сам Мышкин часто «отклоняет смех» над собой, как это мыслилось автором первоначально. Отклоняют его от главного героя и действующие лица романа.
В VI главе второй части «Идиота» устами Аглаи Епанчиной высказана одна из важнейших мыслей о Мышкине: он – «тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический» (8, 207). Введение ее в роман было завершающим моментом объединения в образе князя нескольких идей, восходящих к литературным источникам. При этом все они подчинены главной идее, лежащей в основе замысла, – евангельской идее «Князя Христа».
Вопрос об отражении в романе темы «серьезного Дон-Кихота» обширен и сложен. Я остановлюсь лишь на тех аспектах этой проблемы, которые тесно соприкасаются с темой моей работы. Задача эта в большой мере облегчается тем, что итоги своих раздумий о книге Сервантеса, которые были особенно углубленными именно в пору писания «Идиота», Достоевский отразил в «Дневнике писателя» за 1877 год. Так, в февральском выпуске объясняется именно сущность отличия серьезного Дон-Кихота от комического. Уподобляя герою Сервантеса Россию, автор подчеркивает: «Над Дон-Кихотом, разумеется, смеялись; но теперь, кажется, уже восполнились сроки <…>, он несомненно осмыслил свое положение <…> и не пойдет уже сражаться с мельницами. Но зато он остался верным рыцарем…» (25, 49). Итак, не отсутствие комического в герое делает его «серьезным Дон-Кихотом», а ясное понимание, осмысление Мышкиным своего положения и реальный, а не фантастический характер его деятельности, его «подвигов».
В сентябре 1877 года писатель начал вторую главу «Дневника» замечательным по своеобразию и глубине анализом книги Сервантеса, которую (почти десятилетием ранее) ему так хотелось превзойти! Мысли, выраженные здесь, безусловно, возникли у Достоевского еще в период становления образа Мышкина и способствовали этому становлению. Автор «Дневника» считает Дон-Кихота «одним из самых великих сердцем людей», так как в «святом» сердце его заключена «великая сила любви» ко всему миру (26; 24, 26). Такой же великой любовью ко всему творению Божию наделен и герой «Идиота». В «Дневнике» дается чрезвычайно высокая оценка произведения Сервантеса: «О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет». На каждой странице ее подмечены «глубочайшие стороны человеческой природы», – отмечает Достоевский. В подтверждение своей мысли он обращает внимание читателей на контраст между личностью «самого сумасшедшего человека в мире» и его оруженосца Санхо, – олицетворения «здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой средины». Любя своего господина, Санхо постоянно обманывает его и «надувает как ребенка» (26, 25). Мотивы обмана и надувательства по отношению к Мышкину со стороны людей «здравого смысла» (Ганя, компания Бурдовского) и хитрецов (Лебедев) настойчивы в произведении Достоевского. При этом личность князя в определенные моменты притягивает к себе всех обманывающих его, за исключением «неисправимого» племянника Лебедева. Однако в отличие от героя Сервантеса князь почти всегда предугадывает обман и знает, что его надувают.
Князю Мышкину – русскому «серьезному Дон-Кихоту» – тоже дается период странствований: поездка во внутренние губернии страны. Это путешествие знакомит Мышкина с Родиной, в которой он, как сам признается Рогожину, ничего прежде не понимал, возвращает героя к родной почве. Именно поэтому автор решил увеличить срок отсутствия князя в Петербурге до шести месяцев. Мышкин посещает остроги, знакомится с подсудимыми и осужденными. Он встречается с людьми самого разного социального положения и возвращается убежденным: «Есть что делать на нашем русском свете…» (8, 184). Воздействию Родины на своего героя Достоевский собирался отвести в романе гораздо большее место. В черновиках к «Идиоту» упоминаются рассказы князя о России, его суждения о русском народе, о Западе и Востоке. Заметки эти, как отмечается в академическом комментарии, «послужили основой для ряда разбросанных в романе высказываний Мышкина по общественно-идеологическим вопросам и особенно для речи, произнесенной им в гостиной Епанчиных» (9, 366).
Автор «Дневника писателя» указывает не только на положительные черты Дон-Кихота, из которых многие свойственны и Мышкину. Он с большой глубиной и проникновенностью пишет о том, чего «недоставало» герою Сервантеса. Эти строки представляют наибольший интерес для исследователей. Они помогают понять, какими качествами Достоевский стремился наделить Мышкина – по контрасту с Дон-Кихотом. Вот что читаем мы в «Дневнике»: «Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум – всё это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам <…> недоставало одного только последнего дара – именно: гения, чтоб управить всем богатством этих даров и всем могуществом их, – управить и направить всё это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества!» (26, 25). После того, как на довольно ранней стадии работы идея «серьезного
Дон-Кихота» неразрывно слилась в образе Мышкина с идеей «Князя Христа», автор был особенно озабочен тем, чтобы дать ему поле деятельности – реальной и «правдивой»: благотворного влияния на души действующих лиц романа, помощи всем, кто в ней нуждается, и попыток «воскрешения» Настасьи Филипповны.
Указание в той же главе «Дневника» на то, что герою Сервантеса, как и многочисленным деятелям Дон-Кихотам, «пламенным друзьям человечества», не хватает способности «прозреть в истинный смысл вещей», не хватает «гения», которого «отпускается на племена и народы так мало, так редко» (26, 25), делает особенно понятным, почему писатель придавал очень большое значение прозорливости и проницательности Мышкина. Достоевский строит отношения князя с другими действующими лицами как непрерывную цепь его предчувствий о них, угадываний, прозрений. Он наделяет своего героя не просто мудростью, но и высшим разумом, или «главным умом», как выражается Аглая, дает ему способность переживать моменты «восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни» (8; 356, 188). Об этом я пишу подробнее в третьей главе работы.
С мягкой, грустной иронией говорит нам автор «Дневника» о «прекрасном», «великом» и «полезном» идеале рыцаря, отказавшись от которого Дон-Кихоту остается только умереть (26, 26). Своему же главному герою писатель дает идеал, достойный глубокой, полной веры, идеал вековечный и истинный, ибо идеал Мышкина – Христос!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!