Текст книги "Люблю тебя"
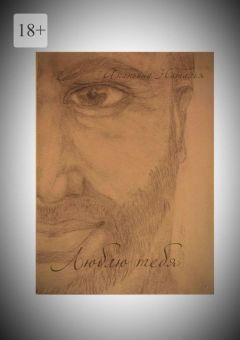
Автор книги: Наталья Ананьина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
И на пике этого хаоса, долгожданный звонок, и это воинство хлынуло, как выдох самой ЖИЗНИ, Их никто не заставлял непременно креститься, остановившись, когда заходят и выходят за ворота храма, это делают сердцем. И эти церемонии отменил батюшка.
После финального звонка, кто-то повис на Ирме, кто-то мимо нее гурьбой на речку. Вместе с монашками, Ирма, и дочка молочника, собирали орехи, перья, бумагу, батюшка смотрел на это со двора, и улыбался, он уже оправился вином, поел, и просто согревал руки на солнце, укрывшись во дворе пледом.
Солнце грело урывками, как будто лето вытряхивало из закромов остатки тепла, будто извиняясь за излишнюю щедрость, за то, что расслабило и отвлекло от важного. Уставшая земля освобождалась от роскоши, и не сильно беспокоилась уже на тему где-то голых веток, или невзрачной травы. Собираюсь, но вы погрейтесь пока, ещё денечек. Лохматит волосы, согревает ветер, смягчает дыхание осени, что начинает уже сметать грубой метлой все что не по делу. На удачу грибной сезон, только успевай брать. Роскошь осенних цветов, тяжёлая, оттенки теплее, ближе к цвету листвы. Лес темный, зрелый. Ирма села у поленницы, что прямо перед дорогой, которая тянется вдоль каменной кладки. Стена, что огораживала деревню, когда там было всего 5 домов, и люди ещё не боялись набегов из города. Слева, заканчивался метров через 7 лес, начиналось поле, прочерченное тропинками, колосья пшеницы, тяжелые, клонились, играли от ветра волнами.
После очередного урока она не торопилась домой. Опару для хлеба поставили вчера, на три дома. В огромных кадках. Справились с огромными корзинами грибов, Тетушка ах выронила ковры, что несла на ремонт, на дорогу, когда увидела, что грибы несли даже в куртках, и снятых рубашках. К вечеру, разобрались с рыбой, рыжий, подмастерье кузнеца, принес снова огромного сома, и кто успел, разнесли на рынок или просто на еду до последнего плавника, по ходу пиршества нашлись три кошки, что убежали из дворов, пожить, на пару месяцев в лесу.
Хотелось тишины и покоя. Хотелось просто себя, своих мыслей.
Она смотрела на нежные, с золотым отливом волны пшеницы, на ограду, играющих у дороги бабочек, слушала щебет птиц, и пыталась понять, чего ей хочется. На минуту. она отдала своё внимание солнцу, оно согревало лицо и шею, ветер гладил волосы, мешки с сеном, на которых она сидела, начали казаться роскошной периной. И она вздрогнула, и открыла глаза, когда начала проваливаться в сон. По дороге к ней шел человек. На просвет светились уши, красным, спешит, щеки в румянце. светился кажется даже пушок, на ушах, и русые волосы, что торчали в разные волосы. Моток с тканью, с кожей, какие-то палки… Она улыбаясь, привстала, и всмотрелась в лицо. Серо-голубые глаза, длинное лицо, добродушная улыбка.
– Хан.
Ирма растерялась, окинула взглядом нелепого, милого до невозможности мужчину, нет 30.
Хан… мило. Он не похож на охотников, что гостили у нее, и привозили припасы, и сбрасывали сбрую, для начала выветрится, на улице, и смотрел не так. Смотрел так, как смотрят на цветы, которые нельзя срывать.
Смотрел так, как будто рисовал ее у себя в памяти. Не отрываясь, он сел рядом, на мешки, и зажмурился от солнца.
– Откуда ты?
– Город у моря.
Хан приехал с отцом, остался смотреть за домом. Отец привозил с юга кожу, и ткани, приправы, и камни, для ювелира в городе.
Матушка и сестры швеи, отец купец. Тяга к путешествиям перевесила любовь к семье, и когда он приехал домой, пьяный, и оставил на своей лошади во дворе какую-то девку с расстегнутым корсетом и свободно дышавшей грудью, то быстро уехал обратно, облитый супом и матерщиной прямо с порога.
Потом появился, после того, как в дверь постучал его слуга, и убедившись, что обойдется без травм, забрал те вещи, которые мать с сестрами не успели уничтожить, оставил на столе кошель с деньгами, и больше дома не появлялся. Жил по борделям, а когда устал от постоянно меняющихся, щедрых на прелюбодеяния девушек, построил отдельно свой дом, а позже привез близняшек, самых крепких из всех, чтобы те вели хозяйство, и иногда его ублажали.
Хан сам справлялся с хозяйством, и подрабатывал у кожевенника и иногда у кузнеца, если попадался на глаза.
Руки у него прямо росли, когда он ел, или держал в них что то, когда переносил со двора в другой за небольшую плату. Так же очень хорошо договаривался и выгораживал обувщика, и решал споры на общих собраниях и находил компромисс. если что не так, в остальных делах приходилось очень сильно попотеть, чтобы сделать хорошо.
В детстве он всегда был при отце, и впитывал науку выходить сухим из воды в любых ситуациях деликатно и с выгодой для себя и родных. И обхаживать женщин.
Рядом с Ханом было по-особому, легко. Светло. И его ресницы, и светло голубые глаза, нелепо торчащие в разные стороны волосы на подбородке, борода прорастала как дикий кустарник, то густо то не очень. Тонкая шея, острые плечи, и несоразмерно тонким рукам большие ладони. Непринужденно обходительный, в разговоре, мягко укладывал уютнее все ее заключения, выводы, и устраивался поудобнее.
Хан жестикулировал, изображая бабу Нюшу, как она спорила на собрании, и как он по геройски ждал момента, чтобы вступить и… вступил кузнец. Он неожиданно подошёл сзади поленницы. Ирма едва уняла смех, и с любовью и радостью посмотрела на кузнеца, встала, придерживая его широкую крепкую ладонь, и закрылась от прохлады платком.
Не удостоив никого лишним взглядом, Филин направился по дороге, к своей кузне, и к дому, уверенный в том, что парочка проследует за ним.
Разговаривал он мало, огромный, темно рыжие волосы, белая кожа, веснушки, точёные черты лица, одежда всегда простая и добротная, чистая. Пахло от него дымом, орехами, чаем, иногда порохом и можжевельником, редко табаком, он сам выращивал его за домом, кожаный фартук, украшения, борода, всегда тщательно уложенная. Людей в деревне не так много, лошадей тоже. Ладно все у него в руках, и не всегда наскоро.
Ирма любовалась им. Спокойствие, уверенность, сила, и такое ощущение, что сердце в ладонях теплых, когда смотрит. Ирма то краснела, то покрывалась мурашками. Незнакомое и непонятное чувство. И сейчас кажется горят уши, и, наверное, снова ярче румянец.
Земля пахнет пресными листьями, сыростью, небо предзакатное. Они свернули по тропе, за лес, дом и кузница спрятались у большого камня, окружённые сливами и яблонями. И калитка утонула в кустах сирени.
С порога Фил молча сунул Хану корзину с железом и тряпками, Ирму усадил в кресло, и дал ей большую кружку с чаем, с ягодами, можжевельником, черной смородиной. Печь не успела остыть, и чай настоялся, наполнив комнату ароматом.
Сел рядом, и как у своей дочки, начал рассматривать ботинки, ремень. Ирма держала в руках кружку, согревались ноги, завёрнутые в колючий плед, пока подбивались ее ботинки, и пробивались отверстия в новом ремне. Она могла делать это сама, но сейчас стало от этого грустно. Зима, в одиночестве в доме… ей не хотелось возвращаться в её пустой красивый дом, с набитой новой периной, новым бельем и полным погребом к зиме. С каждой новой неделей, ей всё меньше хотелось зимовать одной. Как будто ее наполняла сила, с которой она раньше не имела дела, которой она хотела поделиться, и часто это приятно ломало тело, и хотелось чего-то… чего раньше не было. Она не могла понять.
Кузня теплая, уже не так жарко от печи, темные стены, шум проливного уже дождя за окном, крохотные окна, как бойницы крепости, которую не хочется покидать. Аккуратно разложены инструменты, кадка с водой, черный кот с зелёными глазами, мокрой колючей шерстью, с грудным мурчанием трётся уже о сапог кузнеца. Дождь. А до дома ей идти по камням как до центральной крепости, как через всю центральную площадь, если обойти два раза. Она подтянула ноги к груди в кресле, собралась в ком, поуютнее, и поставила рядом кружку, двумя руками.
Она смотрела, как он меняет внутри ее ботинок кожу на шкурку кролика, крутит веревки на шнурки.
Закат только разгорался, а ее уже клонит в сон, сказывается усталость, и странное новое ощущение.
Ее распаковали из одеяла, обули и вручили новый ремень – ястреб на пряжке. Ногам стало тепло и уютно, большая куртка с капюшоном пахла орехами, табаком и дымом, и пришлось подвернуть капюшон, чтобы она видела, куда ступать. Хан ждал у двери, пока кузнец перевязывал Ирму ремнем, закрывая от дождя. Хан смотрел, подкидывая монету, и уронил, когда кузнец сел пред ней, поднял капюшон, и что-то у неё спросил.
Ирма ответила непривычно низким голосом, после долгой паузы. Тихо, и диалог получился таким внезапным, что хан ничего не понял. Пальцы, что не одну зиму носили ледяную воду из ручья, ремонтировали ремни и сбрую, руки, что могут колоть дрова и таскать валежник по бревну, через реку зимой, беспомощно держались за край рукавов, хрупко утопали почти целиком. Она даже не смогла убрать с лица прядь, так ее упаковали от дождя, и кузнец своими огромными руками, спрятал прядь под капюшон.
Открытая дверь, холод, она отвернулась, когда холодный ветер бросил ей в лицо ледяные брызги и ледяной ветер, пробежался по шее, и груди. Она улыбнулась кузнецу, опустив мокрые ресницы, выдохнула для решимости, и сделала шаг в стену из воды. Хан шел как побитый кот, кутаясь в городскую одежду, мокрый, и когда на горизонте, в конце улицы, Ирма увидела площадь и ее дом, Торговцев не было, а в ее комнатке горел свет, отпустила несчастного обратно, и он, махнув нелепо рукой, побежал в дома, искать сарай, и ждать погоды.
Добежала до двери, вставила ключ, заперто изнутри. Ирма нащупала мокрый набалдашник, постучала, и спустя пару минут открыла Мара. Натоплено, уютно, на столе огромный букет георгинов, кувшин с клюквенным морсом и хлеб. Из печи пахло снова мясом, оливками, розмарином. и картошкой. Перекликаясь с ароматом яблок, из корзины, и запахом трав, и жасмина, из чайника на печи. Мара смотрела на нее и улыбалась, светилась, и счастливо и одновременно грустно. Она говорила, что скоро экзамены, скоро вернутся мужчины, надо бы помочь с шитьем, и заготовить свечи в храме. Покрасить столы в столовой, и достать из погреба… Ирма налила себе чай. Пальцы, онемевшие от холода, оживали, а вот голова уже гудела… хотелось тишины и путались мысли. Она забралась в ванну, и закрыла глаза, зажмурившись. И умылась теплой водой. Мара распутывала ей волосы, уже почти молча, что-то напевая то ли про себя, то ли не различала уже, от возраста, вслух или нет. Ирма ловила каждый вдох и выдох, интонации, слова. Эту же песню ей пела мама, очень-очень давно.
Мара не видела ее слез. Ирма скучала, по маме, но ехать к родным было очень сложно, тем более осенью и зимой.
Мара, больными уже пальцами мазала волосы маслом, с запахом цветов, Ирма поела, немного, и отключилась в кровати. Мара тихо ушла, осторожно прикрыв за собой дверь, погасив лампу и свечи, и закрыла дверь на замок.
Свет в глаза… рано. Солнце низко… только начинает раскрываться, как будто греет издалека, нехотя.
Шторы и ставни были открыты, печь остыла. Ирма нащупала пальцами с перины носки, перевернувшись на живот, как ребенок, надела, и завернувшись в одеяло, как в кокон, села перед печкой, начала растапливать. Комната постепенно наполнялась теплом, и Ирма забралась под одеяло. Как же вкусно готовит Мара… дома ей пришлось бы с утра идти в погреб. И за дровами в прихожую, или на улицу, если забывала с вечера, и тогда с печью приходилось повозиться. Она встала, и подошла к большому зеркалу, поправила волосы, рубашку, что-то изменилось в теле. Стали мягче скулы, щеки будто яблочками подтянулись верх, она постоянно улыбалась, и дети… это счастье. Бедра и грудь стали больше, так бывает, у взрослых женщин, она привыкала, и постоянно считывал сигналы тела, стала к себе по особому внимательной. Она ходила по комнате, на пальцах, в сорочке и шерстяных носках, уже согрелся чай, она взяла мед, и тянула удовольствие, с ложки, стоя посередине комнаты. Рассвет был нежным, день не торопился, как будто тоже не хотел отнимать у нее это утро. Новенькое дерево под ногами, коврики, связанные монашками, и девочками ученицами на курсах рукоделия, солнце уже выше, и заигравшись с ее волосами, наполнив их сиянием, вынудило сощуриться на правый глаз. Удовольствие, как в детстве, хоть бы это не заканчивалось.
Открытая неожиданно дверь, настежь, и ледяной ветер, пробрал в мурашки, добрался до каждого сантиметра тела, ледяными искрами, и растворился, вогнав ее в румянец, инстинктивный вдох с возгласом. И снова тепло. Мара… как обычно без предупреждения…
Ирма провела пальцами по плечам, согреваясь. Подошла к Маре, снова она без перерыва что-то говорит. Ей так хотелось о ком-то заботится, что было даже не по себе.
Мара снимала с себя платки, ворчала, что открыта дверца холодного ящика. Казалось, мысли уже не держались в ее голове, и вываливались фразами вперемешку. Сначала это было непросто, потом привыкаешь.
Ирма будет по ней скучать. Она обняла старушку, завесив ее волосами, поцеловала в щёку, наклонившись, как крыльями, до земли, сердцем обняла. Как ангел хранитель,
– Ладно, ладно… вот, ешь. Мара улыбалась, высвободилась деловито, и засуетилась ещё больше. На столе прохладное молоко и теплый хлеб, и разговоры Мары, обо всем сразу, она вела себя так, как будто не прощалась, как будто не на до отпускать.
Иллюстрация с носочками
Через пару часов они стояли у порога. Мара смотрелась в зеркало, отделанное камнями и картинками под стеклом, и, одновременно, торопила Ирму, которая уже минут пять стояла у двери.
Упакованная, опоясанная, как кукла, в платок и тонкую дубленку, она сделала шаг с порога, и нога в ботинке из плотной прошитой узорами коричневой кожи утонула по самые шнурки в грязь, в хрустящие, покрытые кружевом изморози, по краям, листья, уже потерявшие цвет, в жирную землю, кружевная нижняя юбка собралась складками над грязью и замерла. Ирма беззащитно оглянулась на старушку, на дорогу, подобрала юбки как смогла, и наступила в грязь второй ногой, увидев недоумевающие лицо, обрамленное кружевами, и бантиками с микро-розочками, натертое румянами, и припудренное лицо с накрашенными губами. Все женщины деревни наряжались как могли, к приезду мужчин, отдохнувшие, радовались, волновались как будто каждый раз вот-вот снова замуж. Так мало было поводов наряжаться, что все надевали все самое яркое и блестящее.
Жирный чернозем, присыпанный листвой, камни, подгнившие яблоки с дичков вдоль дороги, и ближе к церкви доски, брошенные в мокрую землю, и сухая относительно тропа. Ветер дул со всех сторон, как хулиган, не непристойно, просто баловство, поднимал юбки, пытаясь с размаху грохнуть все три юбки, как пирог, в грязь, но они только пружинили от ног, и разлетались, укладываясь мягко и аккуратно на место. И ледяными пальцами, под-захлест под пуговицы на уровне груди, как 10 летний мальчишка ворует, не глядя, на удачу, на бегу семечки, у бабы Нюры с прилавка, и тут же их голубям, сбрасывать капюшон, трепать волосы, бросать листья в вышитый подол юбки, но был деликатно отвергнут, когда они свернули в лес, и успокоился, уступив место дождю. Храм стоит на возвышении, самое высокое место в междуречье. Батюшка встречал гостей скромно, дивился нарядам, обнимал, зазывал на портвейн, кто-то уже гремел посудой, и пахло пирогами, чаем с лимоном, розмарин, мята… Жасмин. Для Мары собирали всей деревней, и эти запахи перебивали иногда, по утрам, в пустом храме, запах ладана и сгоревших свеч.
Мужчины появились за воротами деревни раньше, голодные, лохматые бороды, торчали и ершились, в купе с небритостью делая их похожими на неандертальцев. Курили и ковырял в зубах палочками. мел и уголь закончились, остался только чеснок и еловая живица, губы обветрились. Они шли медленно, пересмеиваясь, рядом с лошадьми, и мыслями уже между мягких, женских бедер, за домашней едой. Грязная одежда, запах лошадиного и человеческого пота, костра, жареных на костре тушек животных, и вина. Побросав за своими воротами сбрую и сапоги, выветрится, и сбросив верхнюю одежду, они в домашнем направились в сторону церкви, мимо конюшни. Грязные и уставшие лошади уже жадно пили воду, Айк, двухметровый детина деликатно что то прорычал в дверь подсобки, из которой, наступив ему на ногу, выскочила девица и оставляя за собой шлейф аромата свежей человеческой влаги тел, не тронутой взрослением мужской и женской, запаха влажного сена, свежевыглаженного белья, с крахмалом, печенья, и какого то детского неуловимого… Молока, мускуса и ромашки.
Девица на ходу упаковалась, в дубленку, и повернулась смущённо, розовощекая, жадно дыша морозным воздухом, счастливо многообещающе посмотрела на оторопелого подмастерье, который не понимая, что происходит, кутаясь в простыню, стоял у двери. Девица, подбирая рукава его рубашки, под дубленку, уже бежала в сторону соседнего дома, как подросток, в бабиных валенках и в галошах, поскользнувшись пару раз под гогот оголодавший по женским радостям толпы мужиков. Подмастерье оторопело смотрел на толпу, он только что проснулся, и не отошел от любовных утех, не понимая, за что хвататься. Оторопело смотрел на кузнеца, что уже бил широкой ладонью в спины с приветствием мужикам, кто то открывал погреб, в кружки разливались квас и брага, резали вяленое мясо. И готовились к сборам до храма, где уже в суете ставили мясо и протирали столы.
Раскрасневшаяся Марфа в праздничном неслась от бани, перепрыгивая по кочкам, к храму. Бусы бились о груди и беспомощно сваливались в пропасть между ними. Под тяжёлое неравномерное глубокое дыхание. Черные и серые деревья, подгнившая листва и серое небо, ноябрь. И тает первый снег. Очень вовремя этот праздник. Мужчины, пили вино, и коптили мясо на зиму, а женщины упаковывали погреба заготовками, если не успевали сделать это, когда мужчины были на охоте.
Марфа приехала из города три года назад. Реактивная на эмоции, с тонким птичьим голосом, белой гривой пушистых волос и руками, которыми управляли неведомые силы, без согласования. Её научили катать свечи и ставить хлеб, но не смогли научить жизни среди мужчин. еще она неплохо готовила, но не помнила как. И все смирились с тем, что этот талант даже не будет передан по наследству. Её неадекватные реакции, вспыхивающие щеки, слегка косоглазие, и несоразмерно возрасту тонкий и детский голос, так веселили мужчин, и особенно реакции на улюлюкание издалека (грудью ее так же не обделили, и она умудрялась ходить так, что грудь при ходьбе колыхалась, ударялась одна о другую, когда она поворачивалась, поднимая сумки и вздрагивала), что неизменно привлекала внимание всех мужчин достигших полового созревания, но по какой то причине, полное отсутствие женственности и ума не вызывали желания у местных мужчин привести ее в свой дом и ставить хотя бы на сутки на хозяйстве. Коров она тоже боялась… как и собак. А к лошадям ее вообще не подпускали после того, как она не очень удачно подошла со щеткой, и ее чудом спасли от удара копыта местного тяжеловоза.
Пряталась в церкви и убиралась за еду, а потом просто перестала без необходимости выходить.
Она бежала обратно, получив щедрый шлепок по огромной попе, упакованной в пять, наверное, юбок, по случаю праздника, от охотника, под раскатистый ржач мужчин. они уже подтянулись к бане, и носили воду и сбрасывали в корзины грязную одежду.
Дорога к храму вела под гору, и влево, за жидкий прилесок, размытая копытами и колесами. Марфа бежала по краю, одной ногой по траве, по кочкам, другой по более менее вязкой глине, хватаясь то за юбки, то за деревья, и увидев за поворотом ограду и ворота, и блеск куполов, и идущих навстречу мужчин, и не успев перестроится, подалась назад, воспроизвела тонкий писк и хаотичное движение рук, на одной пятке она уже скользит вниз, и через 10 секунд висит на руке подхватившего ее Арса, вцепившись белыми пальцами с маленькими, как будто детскими ноготками, застриженными до состояния кривых нашлепок на пальцах, в рукав.
Крепко прижав ее к себе, как мешок, огляделся, и не нашел на дороге места, куда можно ее поставить, зафиксировал ее поудобнее, и направился обратно к воротам. На территории церкви аккуратно поставил ее поближе к пекарне, поправил накидку. Марфа стояла оторопело, перебирая в замёрзших пальцах рукавичку, и смотрела по сторонам. Открылась дверь пекарни и она, раскрасневшись снова от нахлынувших эмоций, совладать с коими она не умела, на инстинкте самосохранения, стало ещё и холоднее, неловко, вразвалку, как будто ей управляли на веревочках, зашла в тепло. И ей сразу показали чан с тестом.
То ли ей жали новые сапоги, то ли от нечаянной заботы, или от холода, или не привыкла к нарядам, вела она себя так, будто впервые замешивает тесто и просеивает муку.
Суета, вино постепенно расходилось от стола за пределы трапезной, Батюшка больше наблюдал, иногда выдавал шутки, судя по реакции мужиков, не всегда не пошлые, сидящие рядом монашки краснели, и перешептываясь, отходили в сторону, взрывы смеха, возгласы, в стороне, тетки, под центнер, на кухне, посмотрев из открытого окна, картинно томно, с вибрирующими выдохами, извиваясь, изображая юморно страсть, шлепали друг друга по попам, и кормили друг друга рыбной начинкой, с луком, и ржали как кони, и мука облаком разлеталась на метр вокруг, вызывая чих непонятно как оказавшегося в пекарне полупьяного подмастерье, он сидя у двери, тянул эль, молча, наслаждаясь теплом, запахом хлеба, мяса, от жары приспущенными декольте, груди, выдавленные корсетами, бусы и серьги, румяна и сахарная пудра… Духи восточные и приторные смешивались с запахом пудры и ароматами хлеба и пирогов. Смех и тычки Марфе, любя, чтобы она собралась и перестала без цели носиться по кухне. В конце концов, ее выставили из пекарни с пирогом и морсом, набросив на нее шубу, меньшего размера, недосмотрев.
Споткнувшись о ногу подмастерье, у порога, она выдохнула от испуга, в ультразвук, по-детски, волосы выпали из-за плеча, и обрамили ее формы, и нелепо разлетелись по плечу и лицу. пирог и кувшин успели подхватить, она удержалась, и попыталась закутаться в шубу, но не уместилась, и замерла, глядя беспомощно перед собой. За столом неловко потупились, кто-то жалобно на нее посмотрел, кто-то просто хотел есть. Арс, рыжий, огромный, похож на викинга, одетый в городское, лицо ближе к треугольному, но с мощной нижней челюстью, выступающим подбородком, и тонким носом, смотрел на нее исподлобья. Он не особенно тяготел к романтике, но и не баловался женщинами, жил сам по себе, то дома, то ночевал в чьем-то сарае.
Батюшка схватился за голову и прокричал монашкам, что-то о спасении запутавшихся и заплутавшим и про любовь господа к несовершенным, попросил кого-нибудь отвести ее отдыхать.
Все привыкли к нелепой Марфе, и по-доброму любили её. Как любят добрых красивых невинных неловких существ. Даже стёб и улюлюкание было не оскорбительным, а как к младшей сестре. Арс поднялся, без особых эмоций, мешком, спрятал ее в покрывало, и отвёл по направлению монашеского корпуса церкви и быстро вернулся, передав в хорошие руки. К девяти вечера стало холоднее, и батюшка, человек семь мужчин, и их жены, и пара девиц, и Ирма, остались в трапезной напротив пекарни, приводили в порядок помещения, и поглядывали на мужей, они сидели, сбившись к стене, которая обогревалась остывающей печью, о чем-то очень серьезно говорили. Мимо мягко перемещались женщины, с тарелками, полотенцами, сворачивали скатерти, мягкие постукивания рукоятий метелок, о столы, и скамейки, звуки щеток по столам, каблучки Ирмы, и ее смех, мягкой говор, шорох юбок, запах хлеба и масла, и табака, и сгоревшего масла от факелов, начинали убаюкивать, но охотники держались духом, но не телами, развалились, кто-то прислонился к теплой стене и замер, укрывшись пледом. Ночь пухлым животом ложилась на деревню, вынуждая спрятаться в тепло и покой дома.
Батюшка кивал, разводил руками и улыбался. Арс сидел с краю, откинувшись на спинку стула, спокойно слушал, ждал, единственный, кто вздрагивал на каждый непонятный звук. В городе он был проездом, и служил в охране, остался в деревне, когда на охоте поспорил с рысью, и его год назад привезли к местному лекарю. Выделили домик на окраине, и никак не могли отпустить, без его помощи деревенские не справлялись, и кому-то надо было учить боевым премудростям мальчишек. Кормили его хорошо, и не надо было стоять дозором на холодном ветру.
Ночь наваливалась все крепче, грязь на дороге заморозилась, ледяной ветер пытался продавить плоть, пытаясь заместить собой тепло тел, тем самым разжигая еще большее тепло внутри. Выдох, пар, предчувствие настоящей зимы. Ирма попыталась вжать голову в воротник. она чувствовала себя маленькой, крохотной, под невероятно, невозможно глубоким небом.
Звезды уже пронизывали тьму, лес притих, редкие огни потихоньку гасли, и догорали факелы во дворе. Батюшка, устал и замерз, бледная кожа, красные щеки от горячительного, он махнул на дорогу, перекрестил, и скрылся за трапезной, кутаясь в шубу.
Ирма не успела развернуться, как ее взяли за руку, осмотрели как она упакована, и кузнец повел ее к выходу. Деревня затихла, редко, огни в избах. в лесу совсем темно, но глаза успели привыкнуть. Они шли почти молча, держались за руки, было скользко уже. И очень многое читалось в том, как он сжимал ее руку, подхватывал, если она неловко ставила ногу, подтрунивал, неловко, то в тему, то нет.
Ближе к торговой площади стало просторнее, и чуть светлее. По крышам разливался лунный свет, и мороз будто отступил, стих ветер. У двери они остановились. Он закрыл собой луну, что топорщилась рожками вправо вверх, темное небо. Редкие облака, откуда они взялись. Огромными руками он взялся за воротник Ирмы, как будто закрывая ее еще больше от холода, и очень внимательно посмотрел на ее лицо, и в глаза.
Слегка пухлое лицо, серо-голубые глаза, золотая копна волос, детское любопытство, во взгляде, и осознание того, что происходит что то, до этого момента непонятное.
«Птича, закрывайся, спи крепко» выдохнул он тихо, тепло, сердцем, и как будто хотел сказать что-то еще, но отпустил руки, и перетоптался на месте. Потрогал ее плечо, и повернулся чтобы уйти, он не почувствовал, в меховой перчатке, как Ирма придержала его ладонь на плече.
Птича. Так он ее называл. И Ирма таяла… под сердцем поднимался ком нежности и хрупкости пионовой. Ирма легкая, быстрая, и телом, и духом, переливчатый смех, легкие, но сильные руки.
Птичка, голубка, аккуратный нос, щечки и милый нрав, он любовался издалека, и кормил конфетами, когда она помогала деревенским.
Она посмотрела на удаляющийся силуэт, и зашла в темную комнату, спасаясь от холодного ветра.
Не раздеваясь, зажгла лучину, холодными пальцами вытащила дрова, и на растопку бумагу в детских кляксах. Не все она могла сжечь. Аккуратно уложила в свою тетрадь, дневник, прописи Софи, самой маленькой, ангелочек, смуглая кожа и черные глаза, она выводила крупно, размеренно, а когда было скучно, отвлекалась на случайные кляксы и водила по ним пером, получались забавные звери и цветы.
Зажгла свечи, и села в шубе на стул. Комната молчала. Тихо. Комната как будто держала ее в теплых ладонях, как мы держим котенка, пока он нежится, и готовы отпустить. Ещё гудела немного голова, после бурного дня, ноги, плечи. Ломало тело, хотелось растянуть, размять. И что-то новое…
Ощущение неведомой ранее силы, изнутри, будто ей неожиданно стало тесно, хотелось больше простора и воздуха.
Тело разомлело в шубе и в тепле, она осматривала комнату, которую предстояло покинуть. Из раздумий ее вывел запах облепихового чая, с ноткой можжевельника и жасмина. Мара… как можно от нее просто уехать… Маленькая женщина, с еще шевелящимися пальцами, казалось ее любовь пронизывала всю деревню, где бы она не появилась, кого бы не обняла, свет и любовь.
Ирма поднялась, сняла верхнюю одежду и достала из обуви, присев на стул, замерзшие еще пальцы, и придержала их руками, повернулась к окну, и встретилась глазами с бесстрастным взглядом луны. Захотелось спрятаться за шторы, что непременно было сделано. После чая и обычных приготовлений ко сну, она забралась в постель и довольно быстро ушла в объятия морфея, как только подтянула ноги поближе к телу, свернувшись под одеялом.
И в эту же минуту, казалось, одновременно. ночь сменилась утром. В окно ярко солнечный свет. Снег и возгласы МАры в открытую дверь, стук ногами в пол чтобы сбить снег, тюки и сумки, за порог, Мара, тяжело дыша, с парой монахинь, затаскивали в комнату мешки с провизией, солонину, одежду на зиму, и пару новых ботинок, с таким подбоем, что казалось, ее перевозят в вечный холод. Дверь закрылась. Холодно, и Мара кинулась топить печь. Озябшие монашки, с толстыми лицами, как две горы, на пол комнаты, стояли и смотрели перед собой в стену, переглядываясь. Голову повернуть они не могли из-за платков и воротников, и казалось, синхронизировались мыслями, а потом подтверждали коннект то колыханиями необъятных тел, то каким-то необъяснимым способов. Сестры.
Они тут с основания деревни. Приехали как блудные девки, скрасить одиночество основателя, а потом потеряли вид и приобрели благонравие и монашеский постриг.
Когда была растоплена печь, Мара деловито оделась, посмотрела на Ирму, сделала глубокий вдох, чтобы сказать что-то важное, и… то ли забыла. То ли передумала говорить. Чуть осела, огляделась, посмотрела на сонную лохматую Ирму, подняла палец вверх, глаза вверх, и вышла, охрана в виде сестер выдвинулась следом
Ирма ещё долго не решалась встать. Села на кровати, и осторожно опустила ноги на пол, от холода тело сковало, она вытащила из-под корзины носки, одела по два носка на каждую ногу, сорочка, сверху домашнее платье, успела только затянуть пояс, сделала круг по комнате, быстро нашла платок, наклонилась, достать с нижней полки тот что побольше, с кистями. Волосы копной вывалились на пол, она взялась за край, потянула на себя. От холода еще немного щипало нос, в дверь постучали, открыли, Ирма развернула платок как крылья, чтобы закрыться, забросив копну волос за спину, и развернулась не глядя. у порога стоял кузнец. И смотрел на нее, как смотрят на играющих лошадей, на бабочек, что, будучи встревоженными, поднимаются из травы в саду, на то, что восхищает в моменте, а возьми в руки, нарушится.
Замерзший, он смотрел не отрываясь, его руки были испачканы в черном масле, как и тяжелая корзина, что он принес к порогу. Ирма закрыла дверь, укуталась в платок, и нахохлившись, счастливо, уютно посмотрела на него, подкинула дров, налила чай, кружки городского фарфора смотрелись нелепо в его руках, Ирма смочила тряпку теплой воде, и попыталась оттереть грязь. Он сидел, смотрел на нее, пил чай, потом достал из-под полы сверток, старая бумага и красная веревочка из шелка. Внутри обрамленный медью, в виде сердца, неправильно ограненный камень. Ирма подняла его, чтобы солнце побаловалось гранями, камень вспыхнул ярко красным, вращаясь, и тут же исчез в ладони Ирмы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































